Рассматриваются политические, исторические и культурные события в странах Западной Европы, Неаполитанском королевстве и России как реализация трагедийного и романного уровней концептуализации истории. Описывается деятельность русской дипломатической миссии в Неаполе, направленная на отстаивание интересов правящей королевской династии. Взаимоотношения между Неаполитанским королевством и Российской империей воспринимаются как пролог к установлению нового европейского миропорядка и будущему объединению Италии. В переписке братьев Булгаковых формируются основные концепты и поэтика «неаполитанского» текста русской литературы.
The Kingdom of Naples and Russia at the Beginning of the 19th Century: Based on the Correspondence of the Bulgakov Broth.pdf Обращаясь к истории взаимоотношений между Неаполитанским королевством и Российской империей, к освещению деятельности русской дипломатической миссии в Неаполе в 1802-1808 гг., необходимо сказать несколько слов о начале возникновения политических, дипломатических, экономических, культурных контактов двух государств. Неаполитанское королевство было образовано в 1734 г. в результате получения независимости от Австрии, установление же официальных дипломатических отношений между двумя государствами относится к 1777 г., ко времени правления Фердинанда IV (1751-1825), принадлежавшего к испанской ветви династии Бурбонов, и Екатерины II. В 1778 г. полномочным министром Неаполитанского королевства в Санкт-Петербурге был назначен Муцио да Гаэта, герцог Сан-Никола [1. С. 8-11], а представителем России в Неаполе - граф Андрей Кириллович Разумовский. Внешняя политика России в это время была направлена на реализацию плана «Северного аккорда», согласованных действий северных держав: России, Пруссии, Саксонии, Швеции, Дании, Речи Посполитой при поддержке Англии против союза Франции и Австрии для поддержания политического равновесия в Европе и противодействия «объединен-172 Имагология / Imagology ной мощи Бурбонов и Габсбургов» [2]. Соглашения между государствами подписывались в соответствии с идеей «северной тишины» [3. C. 78] и свидетельствовали о глубоких изменениях в соотношении сил европейских держав и той роли, которую начала играть Россия в делах Европы в конце XVIII в. [4. C. 22]. В судьбе Неаполитанского королевства в период с 1798 по 1815 г. преломляются важнейшие исторические и политические процессы, происходившие в это время в странах Западной Европы и в Италии: возникновение и крах Французской империи, падение и реставрация монархии, гражданские войны между республиканцами и роялистами, движения за национальное освобождение. Все эти события могут восприниматься как своего рода пролог будущего объединения Италии, окончательно завершившегося в 1870 г. присоединением Рима к Итальянскому королевству. Деятельность русской дипломатической миссии в Неаполе на рубеже XVIII-XIX вв. во многом зависела от исторических событий, происходящих как в самом Неаполитанском королевстве, так и в странах Европы. Так, в результате неудачных военных действий коалиционных сил Австрии, Англии, России, Турции и Неаполитанского королевства против Франции Фердинанд IV в конце декабря 1798 г. вынужден был покинуть Неаполь и бежать на Сицилию. В январе 1799 г. город был захвачен французскими войсками под командованием генерала Шампионне, тогда же неаполитанские республиканцы при поддержке французов провозглашают создание Партенопейской республики. В образовании республики видится определяющая тенденция французских властей административно уравнивать колониальные земли и метрополию [5. C. 39]. Однако вскоре из-за начавшейся гражданской войны между республиканцами и роялистами Партенопейская республика пала, королевская власть была восстановлена, и 8 июля 1799 г. король прибыл с Сицилии в Неаполь. Взгляд на эти и дальнейшие события с точки зрения России и русских отражен в переписке братьев Булгаковых. Александр Яковлевич Булгаков (1781-1863), впоследствии московский почт-директор, сенатор, в 1802-1808 гг. находился в Неаполе в составе русской дипломатической миссии в должности секретаря. В это время полномочным неаполитанским министром при российском дворе был Антонио Мареска, герцог ди Серракаприола (1750-173 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия 1822), а полномочными министрами России в Неаполе в 1800-1802 гг. -граф Андрей Яковлевич Италинский (1743-1827), в 1802-1803 гг. -Дмитрий Павлович Татищев (1767-1845), в 1803-1805 - Петр Иванович Карпов (поверенный в делах), в 1805-1808 гг. снова Татищев. А. Булгаков прибыл в Неаполь в апреле 1802 г., о чем и сообщает в письме к отцу, Якову Ивановичу Булгакову (1743-1809) от 4 мая (22 апреля) 1802 г.: «Воскресенье, апреля 20-го, был тот счастливый день, в который я прибыл наконец в желанный город Неаполь. Наш дом на самом море. На левой стороне Везувий, прямо почти остров Капри, направо прекрасная прогулка, которой имя не знаю» [6. C. 613-614]. В письме от 19 мая 1802 г. к младшему брату Константину Яковлевичу Булгакову (1783-1835), который в это время состоял в штате русского посольства в Вене, Булгаков-старший пишет: «Я приехал сюда ровно месяц тому назад Вижу Везувий из своих окон Всякий день езжу в театр, прогуливаюсь, езжу за город.» [7. C. 17] (в дальнейшем все цитаты из этого издания даются с указанием в скобках страницы). В этих письмах «буквальное» сообщение играет роль опоры для сообщения «символического» [8. C. 304], в котором Везувий может восприниматься как естественный топос и как живописное полотно, вставленное в «раму» окна, как непредсказуемое действие судьбы, соотносимое с природными и политическими катаклизмами, и как основной концепт неаполитанского текста русской и мировой литературы [9]. Театр же - это не только феномен культуры, но и метафора игры, импровизации, вызывающая ассоциацию с характером неаполитанцев, с их непреодолимым отвращением от всего будничного, упорядоченного и правильного [10. C. 376]. Ежедневные прогулки автора формируют в эстетическом плане особую «панорамную» точку зрения, объединяющую море, горы, Везувий, город и его окрестности и получившую отражение в его эпистолярии. В переписке братьев Булгаковых можно выделить несколько сюжетообразующих линий. Одна из них касается жизни правящей королевской династии, которой Россия оказывала в это время политическую и военную помощь. Она включает в себя описание внешней и внутренней политики королевства, а также торжественных церемоний, балов, обедов, религиозных праздников, связанных с участием двора. Эта линия призвана подчеркнуть легитимность королев-174 Имагология / Imagology ской власти и передать единство короля и народа. Так, например, в контексте визуального восприятия исторических событий прочитывается эпизод прибытия Фердинанда IV из Сицилии в Неаполь 30 мая 1802 г. в письме к брату от 1 июня 1802 г. Ср.: «Третьего дня король приехал из Сицилии на "Архимеде”, большом военном корабле, при пушечной пальбе, и имел торжественный въезд в город при крике и восклицании народном. Множество настроено храмов, ворот, амфитеатр пребольшой и прекрасный Все сие было ночью иллюминовано; все войска были под ружьем. Праздник был очень хороший, продолжался вчера и сегодня» (С. 19). В этом отрывке используется сложная политическая метафора, уподобляющая монархию - кораблю, историю - морю, голос народа - «пушечной пальбе», сакральность королевской власти - храму, торжественный въезд - массовому театральному зрелищу. Данная метафора обладает несколькими функциями: она способна порождать исторические нарративы, выступать в качестве основы национального мифа, объединяющего власть и народ, становиться своего рода «модулятором реальности» [11. C. 31]. Говоря о близости короля и его подданных, А. Булгаков рассказывает о традиции устраивать во дворце «большой публичный стол», когда король ест «один за столом, в присутствии всех тех, кто захочет прийти и убедиться, что царственные особы так же еду в рот кладут, как все другие люди» (С. 31-32). Также он пишет о ежегодном великом торжестве Pie di Grotto, во время которого «двор в великой процессии идет к гроте Позилипской прикладываться к мадонне» (С. 83); о празднике св. Януария в Неаполе (С. 38) и празднике в честь св. Розалии, покровительницы Палермо (С. 99). Интерес русского дипломата вызывает и празднование Страстной недели в Неаполе. Ср.: «Страстная неделя здесь как карнавал: весь город на улицах и бегает по церквам; ни одной кареты не видать, потому что запрещены. Здесь Святая неделя совсем не так торжественна, как у нас, где всякий камень, кажется, радуется» (С. 47). Сравнивая празднование Страстной недели в Неаполе с карнавалом, А. Булгаков конструирует образ Другого через соотнесение «наблюдаемой» и «наблюдающей» культур. Формирующийся в его переписке има-гологический текст основан на одном из ведущих принципов, согласно которому «говорить о Другом значит также говорить о Себе 175 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия по отношению к Другому» [12. C. 151], в данном случае говорить о Неаполитанском королевстве как о Своем Другом. В описании внешней политики Неаполитанского королевства и Европы А. Булгаков пытается передать многообразие точек зрения. В частности, говоря о принятии Наполеоном императорского титула в мае 1804 г., он пишет брату в Вену: «Французский посол объявил Бонапартово императорство Здешний двор признает сей новый титул и на днях сих отправит курьера в Париж с новыми кредитивными письмами и инструкциями к своему послу. Что скажет ваш император [Франц II]?» (С. 54); «Папа как ни отбояривался, но теперь решился к отъезду и 3 ноября отправляется во Францию для коронования самозванца.» (С. 60). Собственная же точка зрения автора письма связана с поддержкой законной монархической власти и обосновывается через обращение к историко-философскому контексту. Ср.: «Каков тебе кажется новый император? Мне кажется, я бы решился скорее поцеловать жену русского мужика, чем сказать Бонапарту: ваше величество. Что за народ эти французы! Проливали кровь более десяти лет, чтоб основать вольность свою, а теперь будут оную лить за чужестранца, бог знает откуда пришедшего и заставившего дать себе самодержавную власть, потерянную законным королем на эшафоте. Это, право, непонятно. Французы унижают род человеческий» (С. 53). Характеристика Наполеона как императора, самозванца, чужестранца метонимически соотносится с понятиями имперская/королевская власть, власть легитимная/нелегитимная, национальная/инонациональ-ная, отражающими важнейшие исторические тенденции начала XIX в. в Европе. В переписке братьев Булгаковых важная роль отводится описанию и оценке исторических событий, происходящих в странах Западной Европы, в Неаполитанском королевстве и в России в первые десятилетия XIX в. Опираясь на известное исследование американского историка Хейдена Уайта, посвященное использованию литературных тропов и приемов в историческом повествовании, можно выделить следующие уровни концептуализации истории в этой переписке: хроника; история как событийный ряд; тип построения сюжета [13. C. 25]. Хроникальная последовательность событий, представленная в эпистолярии, раскрывает их определенную закономерность, которая затем органично трансформируется в характерный 176 Имагология / Imagology тип сюжета, соотносимого с Трагедией и Романом, и рассматривается Уайтом как одна из возможностей объяснения истории и выявления ее эстетического смысла [13. C. 27]. Утрата Фердинандо IV власти в 1798 и в 1806 гг., ее восстановление в 1799 и 1815 гг. вписывается в тип построения сюжета, соотносимого с Трагедией и Романом. Рассказ о событиях в соответствии с трагедийным сюжетом предполагает противостояние героя и мира, Наполеона и коалиции европейских государств во главе с Австрией, Великобританией и Россией; трансформация же Трагедии в Роман в историческом плане предполагает изменение сложившего миропорядка после завершения эпохи Наполеоновских войн, что и было закреплено решениями Венского конгресса в 1814-1815 гг. Обратимся к событиям 1805 г. В этом году была создана Третья антифранцузская коалиция, в которую, помимо Неаполитанского королевства, вошли Великобритания, Россия, Австрия и Швеция. В соответствии с планом, принятым в Вене 16 июля 1805 г., 25 тысяч русских войск и 5 тысяч британских, объединившись с неаполитанскими войсками, должны были действовать против французских войск в Южной Италии. В переписке этого периода упоминаются Трафальгарская битва («Нельсон разбил почти в прах французскоиспанский флот Из 33 кораблей только 11 спаслись, все прочие взяты или взорваны на воздух англичанами. Число умерших с трех сторон считают до 24 тысяч; страшно, но зато прощай, флот французский!») (С. 88); Аустерлицкое сражение («К нам приехал флигель-адъютант Шепелев [Дмитрий Дмитриевич], из Аустерлица; теперь узнали мы, как происходила баталия») (С. 94); уход русского флота из Неаполя («Наши ретируются Прислано повеление оставить Неапольское королевство. Я боюсь и думать о следствиях, которые навлечет отзыв войск наших. Теперь-то будет каша: французы придут, хотя бы и не имели то на уме, коль скоро узнают, что мы ушли отсюда») (С. 94); вторичное бегство короля на Сицилию («Вообрази целый город в волнении, унынии, все бегут, все едут, король уже в Сицилии, королева с принцессами амбаркируется [возвращается] сегодня и едет также в Палермо») (С. 95); захват Неаполя французами в феврале 1806 г. («Французы завтра входят в Неаполь. Я тебе не могу описать уныние городское; жалко смотреть особливо на народ, который в отчаянии») (С. 95). 30 марта (13 апреля) 1806 г. 177 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия Наполеон назначает своего брата Жозефа Бонапарта (1768-1844) королем Неаполя. Спустя два года Жозеф Бонапарт становится королем Испании, а с августа 1808 г. королем Неаполя и Сицилии утверждается зять Наполеона Иоахим Мюрат (1767-1815), который сохранил этот титул до 1815 г. После захвата Неаполя французскими войсками в феврале 1806 г. в этом регионе происходят национальные волнения и ведутся региональные партизанские войны. А. Булгаков пишет: «Весь Неаполь в негодовании, и Иосиф, боясь лазаронцев писал к брату, прося переселиться в Рим под предлогом, что неапольский воздух вреден его здоровью. На банкиров наложен налог в полтора миллиона дукатов» (С. 96); «В Неаполе большая суматоха, Иосифу худо приходится, и ежели Наполеон не пришлет армию придется французам оставить королевство, ибо везде бунты и неповиновение» (С. 99); «Теперь калабрийцы одни дерутся с французами и их славно щелкают; в последнем деле взяли 300 пленных Все голы, босиком и худо кормлены. Королева, которая делает добро даже врагам своим, тронутая их положением, велела их одеть и обуть за ее собственный счет» (С. 100-101); «Дела французов в Неаполе, конечно, идут очень дурно, и их надежда на том основана, что Наполеон все поправит своими победами и дерзостью. Чем-то все это кончится?» (С. 101). Все эти события вписываются в историю движения Рисор-джименто в Италии и подготавливают политическое, национальное и культурное объединение страны. После отъезда королевского двора из Неаполя в Палермо туда же перебирается и русская миссия, цель которой видится в содействии России возвращению Неаполитанского королевства его законным владельцам. Пространственными центрами эпистолярия Булгаковых этого времени выступают Неаполь, Палермо, Рим, столицы четырех империй: Париж, Вена, Лондон, Петербург и связанные с ними исторические персоналии: король Фердинанд IV и его жена Мария Каролина Австрийская (1752-1814), родная сестра французской королевы Марии Антуанетты, Наполеон, Жозеф Бонапарт, Иоахим Мюрат, австрийский император Франц II (1768-1835), российский император Александр I, папа Римский Пий VII (1742-1823), адмирал, государственный секретарь Неаполитанского королевства Джон Актон (1736-1811), русские посланники в Неаполе и Риме: А.Я. Италин-178 Имагология / Imagology ский, Д.П. Татищев, российский поверенный в делах при папском дворе граф Виктор Иванович Кассини (1754-1811) и др. Русские в Неаполе и Палермо - другая важнейшая тема в переписке обоих братьев. А. Булгаков воспринимает русскую диаспору в Неаполе как малое пространство России в Италии. Так, например, в письме к отцу от 31 июля (11 августа) 1802 г. А. Булгаков сообщает о приезде в Неаполь его младшего брата. Ср.: «31-го прошедшего месяца имел я удовольствие обнять здесь брата. Не успел он приехать в Вену, как отправили его сюда курьером» [6. C. 626]. В другом письме к отцу от 19 декабря 1803 г. он пишет: «В чужих краях мы все как братья; как скоро слышу, что приехал русский, бегу к нему, хотя и не знаком, и принимаем всегда дружески» [14. C. 244]. В письме к брату от 11 декабря 1807 г. из Палермо А. Булгаков говорит: «Мы составляем теперь общество наподобие московского Благородного собрания, но в малом виде» (С. 111). К русским, которые находились в Неаполе в 1802-1808 гг. и с которыми был дружен А. Булгаков, относятся русский посланник при короле Сардинии, князь Павел Гаврилович Гагарин (1777-1850) и его жена Анна Петровна (1777-1805), урожденная Лопухина; статс-дама, графиня Мария Николаевна Скавронская (1729-1804), мать русского посланника в Неаполе, назначенного в 1785 г., Павла Мартыновича Скавронского (1757-1793), внучатого племянника Екатерины I; Петр Иванович Полетика (1778-1849), причисленный к неапольской канцелярии в 1801 г., впоследствии русский посланник в Америке в 1817-1822 гг.; Демидов Павел Никитич (1773-1828), с 1815 г. русский посланник при великом герцогстве Тосканском, и его жена Елизавета Александровна (1776-1818), урожденная Строганова, которые посетили Неаполь в 1805 г.; графиня Ирина Ивановна Воронцова (1768-1848), жившая в Неаполе в 1803-1804 гг. А. Булгаков, говоря о ней, замечает: «Воронцова милая и добрая женщина; она, может быть, первая, которая заставила себя здесь любить иностранцев и итальянок, ибо у первых дурацкий манер с последними не знаться» (С. 49). После ее отъезда «все итальянки по ней плачут» (С. 49). Вместе с Воронцовой путешествовала и ее сестра княгиня Евдокия Ивановна Голицына (1780-1850), о которой А. Булгаков сообщает в письме от 13 сентября 1803 г.: «На сих днях приехала сюда княгиня Голицына, то есть красавица сестра Воронцовой, которая здесь с месяц или более про-179 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия будет. Голицына прекрасна: черные власы, черные брови и черные глаза, зубы диковинные, рот, осанка прекрасны Весь Неаполь о ней говорит: она похожа на принцессу моей души; все здешние красавицы от нее упали и приуныли» (С. 37); князь Михаил Петрович Долгоруков (1780-1808), адъютант Александра I, приехавший в Неаполь в 1803 г. («Приехал Долгоруков, брат генерал-адъютанта, с которым я еще в Риме познакомился. Он едет через месяц отсюда в Сицилию и Мальту») (С. 31); жена русского посланника в Неаполе в 1777-1785 гг. графа Андрея Кирилловича Разумовского (1752-1836), подруга королевы Марии Каролины Елизавета Осиповна Разумовская (1769-1806), урожденная Тун-Гогенштейн-Клестерле, и др. В переписке братьев Булгаковых этого периода формируется культурный образ Неаполя и Сицилии в русской литературе начала XIX в. Он включает в себя описание географических и геоимагологических особенностей Неаполя и городов Сицилии. Так, например, говоря о Катании, расположенном на Сицилии, А. Булгаков отмечает, что этот город как «маленький Петербург, славные дома, славные, длинные, прямые, широкие, хорошо вымощенные улицы; что ваша Вена в сравнении? - дрянь!» (С. 97). Сюда же можно отнести и новые впечатления от Везувия («Везувий покрыт снегом; прекрасная картина, которой я еще не видал») [14. C. 244], и рассказ о спуске автора в его жерло («На той неделе был я с Паленом на самом верху горы и спускался даже несколько вниз. Ах, боже мой, какая картина! Ты себе вообразить не можешь. Совершенный ад! Каменный дождь, шум престрашный, подземельная стрельба, живое представление ада; в середине большая дыра, в нем кипят камни, лава, земля Теперь в Везувии пять отверстий, из двух выходит огонь а из прочих зола, коей все окружности горы покрыты») (С. 57); впечатления о чуде св. Януария, описание карнавала и театров в Неаполе («Здесь шесть театров, на которых порознь или иной раз вместе играют шесть итальянских трупп. Здешний тенор Monbelli славится во всей Италии) [6. C. 615]; посещение могилы Цицерона в Гаете и раскопок в Помпее («Были мы в Помпее. Весьма малая часть города открыта; в ней виден амфитеатр малый и большой большая улица вымощенная, на коей видны даже следы колес. Я входил во все сии древние дома, кои имеют равное количество комнат, двор, а посреди оного фонтан. Во многих комнатах живопись весьма хорошо сохранилась») [6. C. 627]. 180 Имагология / Imagology Особая роль в создании образа южной Италии в переписке братьев Булгаковых отводится описанию русского морского флота, курсирующего вдоль острова Корфу, Неаполя и Сицилии, и об устройстве в Неаполе православной церкви. См. письмо к брату от 1 мая 1804 г.: «Император оказал милость всем грекам: здесь будет построена православная греческая церковь. По сие время была все униатская, зависевшая от папы, и служба шла по-гречески. Мы построим церковь во имя св. Александра, тогда-то, нагрешив в Вене, приезжай спасаться в Неаполь к нам» (С. 49). В качестве особого внутреннего сюжета, проходящего через переписку обоих братьев и их отца, можно выделить эпизоды, связанные с Андреем Тургеневым (1781-1803), находившемся в 1802 г. в Вене вместе с К. Булгаковым. Ср.: «Андрей рыскает по свету и скоро заставит говорить о себе в газетах, яко о первом курьере во всей вселенной. Теперь он в Вене и ждет себе новой пищи» [6. C. 627]; «Весьма меня удивило слышать, что Тургенев танцевать хочет учиться, - у него одна нога другой короче, и скажи ему, что он более похож на иноходца, нежели на танцовщика» (С. 21); «У нас на сих днях новый балет. Чемпилле, первая танцовщица, так мне мила, как Тургеневу Черути» (С. 35); «Смерть нашего дорогого Андрея нас ужасно тронула. Кто бы это подумал? Вот третий день, что образ его беспрестанно в моих глазах; куда не пойду - в театр, гулять, - везде он со мною, и я ничем не могу прогнать печальных мыслей. Но кто бы подумал, что милый наш Тургенев в Вене навеки с нами простился? Жаль, брат, очень, очень. Дай Бог ему царства небесного и лучшего жребия на том свете» (С. 37); «Преждевременная смерть доброго нашего друга Андрея повергнула меня в печальнейшие рассуждения. Дай Бог сил бедным родителям перенесть их печаль Лишиться сына умного, добродетельного, с добрым сердцем, с дарованиями и в цвете его лет есть потеря жестокая» [14. C. 232-233]. Образ рано умершего друга, возникающий в переписке этого периода, формирует ее психологическую линию, которая через поэзию Андрея Тургенева оказывается тесно связана с традициями гражданской и элегической лирики в русской литературе рубежа XVIII-XIX вв. и по-своему проецируется на исторические события, происходящие в это время в Неаполитанском королевстве, и на восприятие русскими Италии. 181 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия В начале 1808 г. А. Булгаков был послан с курьерской почтой из Палермо в Петербург. Его путь проходил через Вену, где состоялась встреча обоих братьев. После приезда в Россию А. Булгаков оставляет дипломатическую службу, поселяется в Москве в доме своего отца, находящемся в Демидовском переулке в Немецкой слободе. В 1809 г. он был причислен к Московскому архиву иностранных дел, а с 1812 г. состоял чиновником для особых поручений при графе Федоре Васильевиче Ростопчине. Взаимоотношения Неаполитанского королевства и России в 1802-1808 гг., получившие отражение в переписке братьев Булгаковых, проецируются затем на события Отечественной войны 1812 г. и военные действия русской армии в Западной Европе в 1813-1815 гг. При их описании происходит трансформация Трагедии в Роман. Если в Трагедии как способе построения исторического сюжета сохраняется структура конфликта и раскрывается динамика противоборствующих сил, то в Романе изображается процесс рождения новых условий существования мира, вызывающий, по словам Уайта, ассоциации с историей воскрешения Христа [13. C. 28] и соотносимый c мифами об искуплении и спасении. События, происходившие в Неаполитанском королевстве и в России в 1808-1815 гг., представлены в переписке через взаимодействие исторического, провиденциального и биографического планов повествования. Исторический план раскрывается во многом благодаря возникающим ассоциативным связям между действиями, происходившими на юге Италии в 1806 г., и в России в 1812 г. Ср., например, описание Неаполя и Москвы после захвата их французами. В письмах от 2 июня и 29 июля 1806 г. из Палермо А. Булгаков сообщает: «В Неаполе большие мятежи, народ не может видеть французов и восстает» (С. 98); «В Неаполе большая суматоха и ежели Наполеон не пришлет армию придется французам оставить королевство, ибо везде бунты и неповиновение» (С. 99). В письмах от 13 августа и 28 октября 1812 г. из Москвы А. Булгаков пишет брату: «Здесь большая суматоха. Все едут отсюда, слыша, что Смоленск занят французами» (С. 299); «Я тебе пишу из Москвы или, лучше сказать, среди развалин ее. Нельзя смотреть без слез, без содрогания сердца на опустошенную, сожженную нашу золотоглавую мать. Теперь вижу я, что это не город был, но истинно мать, которая нас покоила, тешила, кормила и защищала» (С. 307). 182 Имагология / Imagology Также описание отношений двух государств может быть представлено и через законы исторического развития, через взаимосвязь событий Отечественной войны 1812 г., действий коалиционных сил в Европе в 1813-1815 гг. и установление нового послевоенного порядка в Европе. Ключевым моментом в этом процессе оказывается вступление русских войск в Париж, о котором говорит в письме к брату от 18 марта 1814 г. К. Булгаков, состоявший в это время при дипломатической миссии графа К.В. Нессельроде. Известно, что именно Нессельроде вместе с Михаилом Орловым участвовал в переговорах о капитуляции Парижа с маршалами Огюстом де Мармо-ном и Эдуардом Мортье [15. C. 564]. Сообщения об успешных военных действиях австрийцев против Мюрата в Неаполе привели к тому, что 22 мая 1815 г. австрийская армия захватила город и власть Фердинандо IV была восстановлена. Об этом, в частности, говорит К. Булгаков в письмах от 31 марта, 3 мая, 22 мая 1815 г. из Вены: «В Италии уже начались боевые действия между австрийцами и неаполитанцами. Скоро Мюрат будет наказан по заслугам и без всякой пользы для беглеца с острова Эльбы» (С. 473); «В Италии все идет как нельзя лучше. Мюрата только что хорошенько взгрели, австрийцы прошли за Рим и скоро, верно, будут в Неаполе, и тогда конец всей музыке» (С. 484); «Неаполитанские дела сляпали на скорую руку. Австрийцы туда вошли, король Иоахим закончил на Искьи, королева - пленница и едет в Триест. Вот дело все и окончилось. Слава Богу!» (С. 489). Все эти события в итоге привели к тому, о чем еще А. Булгаков говорил в письме к брату от 9 апреля 1807 г. из Палермо: «Неаполь Россиею возвратится законным своим государям» (С. 106). Окончательная же победа союзников и завершение эпохи Наполеоновских войн связаны с расстрелом Мюрата, о котором К. Булгаков сообщает в письме от 21 октября 1815 г. из Берлина. Ср.: «Мюрату, который удалился на Корсику, там, вероятно, не понравилось. Он не мог позабыть былого своего величия и захотел устроить бегство а-ля Наполеон. Собрал некоторое число своих приверженцев, сел в рыбацкую лодку и отплыл в Калабрию, после чего распространил оскорбительное воззвание где он объявляет законного короля лишенным трона Прибывает он в Питіи, показывается народу и говорит, что он их король, однако же сии добрые люди 183 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия схватили его и его свиту и отвели к неаполитанскому генералу, заправлявшему поблизости. Назначили военную комиссию, чтобы судить его, приговор вынесли, привели в исполнение, и Мюрата расстреляли. Вот так окончил он свою карьеру» (C. 511). Вместе с тем, оценивая деятельность Мюрата как главы Неаполитанского королевства, правившего в 1808-1815 гг., современные историки видят его главную заслугу в том, что он пытался воплотить в жизнь «мечту о всеитальянской монархии», «что ранее, нежели Гарибальди и Верди, он заговорил о единой и независимой Италии, привязанной к Франции династическими родственными связями» [16]. Как известно, в связи с реставрацией законной королевской власти в Неаполе была заложена базилика Сан-Франческо-ди-Паоло, Неаполитанское королевство было переименовано в Королевство обеих Сицилий, а Фердинанд IV, король Неаполитанский с 1816 г. становится Фердинандом I, королем обеих Сицилий. Не случайно многие русские, побывавшие позднее в Неаполе, сравнивали его с Россией, а колоннаду Сан-Франческо-ди-Паоло - с Казанским собором в Санкт-Петербурге [17. C. 16]. Восстановление законной монархии в Неаполе соотносится во многом с провиденциальной линией развития событий в соответствии с романным сюжетом и воспринимается как завершение драмы искупления и утверждение нового европейского миропорядка. Как пишет в этой связи Б.М. Гаспаров, «образы вселенского мира, наступающего после апокалипсической "битвы народов”, и императора Александра как всеобщего освободителя и миротворца, "царя царей”, вселенского цезаря, осеняющего своим верховным покровительством спасенные им народы» [18. C. 99], прямо соотносятся с политическими событиями 1813-1815 гг. В эпистолярии братьев Булгаковых этого времени подчеркивается мессианская роль России и Александра I в деле освобождения Европы. Так, например, в письме К. Булгакова, который заведовал в то время дипломатической перепиской в армии Кутузова, от 28 ноября 1812 г. из Дольска сообщается: «Благодарение Богу, дела идут как нельзя лучше, и господин Бонапарт уносит ноги куда как быстрее, чем шел к нам Вот и низвергнуты и он, и слава его, ибо без армии он может говорить что угодно, уж ему не поверят. Надеюсь, что событие это откроет глаза всей Европе на его истинные цели и на то, что спасением своим обязана она нашему отечеству» (С. 312). В дру-184 Имагология / Imagology гом письме от 7 октября 1813 г. из Лейпцига К. Булгаков пишет: «Дело в том, что Небо защищает свое собственное дело и вверило его ангелу. Именно как такового нашего императора всюду и принимают, и все ему поклоняются» (С. 355). В письме от 18 марта 1814 г. из Парижа говорится: «Мы сегодня вступили в Париж, вчера разбив войска, кои защищали этот город. Мы вступили в столицу Франции не как вражеская армия, а как спасители. Это была прекраснейшая минута, какую только доводилось пережить какому-либо государю с тех пор, как мир стоит» (C. 389). В письме от 19 сентября 1814 г. из Вены, рассказывая о начале работы Венского конгресса, К. Булгаков пишет об Александре I: «.именно его Бог избрал для спасения всего света» (С. 422). В этой связи следует отметить, что в Г осударственном архиве Неаполя в фонде герцога Ма-рески ди Серракаприола находятся материалы, посвященные Александру I. Среди них текст с характерным заглавием: «Чтобы Александр принес народу мир, нарушенный Наполеоном» (1813). В фонде Бурбонов хранятся письма императора Александра, в частности его поздравление Фердинандо IV по поводу конца правления Мюрата от 26 октября 1815 г. и ответ короля от 6 декабря 1815 г. [19. C. 8, 13, 15]. Также в Государственном архиве Неаполя имеются материалы, относящиеся к французской оккупации 1806-1814 гг. [20. C. 30]. Чрезвычайным посланником России в Неаполе в 1808-1811 гг. был Александр Александрович Бибиков (1765-1822). Позднее, в 1817 г. посол Сардинского королевства в России Котти ди Брузаско в записке «О моральном и политическом состоянии Италии после Венского конгресса», поданной Александру I, писал о том, что «если итальянцам понадобится покровительство, они обратят свои взоры в сторону России». По его мнению, Россия «должна была содействовать созданию в Италии двух государств: одного, объединяющего Северную и Центральную Италию, и другого - объединяющего Южную» [4. C. 38]. Наряду с исторической и провиденциальной линией в описании взаимоотношений между Неаполитанском королевством и Россией отмечается и личное участие А. Булгакова в отстаивании интересов короля Фердинандо IV. Так, например, в письме от 4 июля 1815 г. из подмосковного села Всесвятского А. Булгаков вспоминает о событиях в Неаполе в 1805 г.: «Полетика тебе скажет, что мы все сделали с Татищевым в 1805 году для 185 Поплавская И.А. Неаполитанское королевство и Россия Неаполитанского королевства, то есть для того, чтобы оторвать его от Бонапарта и бросить в объятия Ласси, Оппермана, Крейга и проч. Мы написали (мы с Полетикой) трактат 10 сентября» (С. 496). Вероятно, речь идет о специальном воззвании, написанном А. Булгаковым совместно с П.И. Полетикой для поддержки соединенных действий русских, английских и неаполитанских войск для защиты Неаполитанского королевства. Главнокомандующим соединенными силами в то время был русский генерал Борис Петрович Ласси (1737-1820), генерал-квартирмейстером -Карл Иванович Опперман (1766-1831), а командующим английскими войсками - Джеймс Генри Крейг (1748-1812). В 1815 г. король Фердинандо, оценивая заслуги А. Булгакова перед Неаполитанским королевством, наградил его орденом святого Януария, о чем говорится в его письме к брату от 25 ноября 1815 г. из Москвы. Ср.: «Ай да мой Фердинанд! Вспомнил меня, вспомнил, что у него в 1805 году так мало было надежных слуг, что бедный Булгаков днем работал для Татищева, а ночи сидел у маркиза Чир-челло, работая для короля. Признаюсь тебе, что приятно носить заслуженный уже орден. Трактат 1805 года 10 сентября, который Татищев подписал, а составил я, вместе с Полетикою, обеспечивает мне сию награду. Говори, что хочешь, а Январь не испортил бы никакого году. Славный орден» (С. 513). Итак, в результате анализа переписки братьев Булгаковых были выделены трагедийная и романная формы исторического метаповествования, описывающие взаимоотношения между Неаполитанским королевством и Российской империей в 1802-1815 гг. В данных вербальных моделях «история рассматривается не как научная дисциплина, а как дискурс, в котором слышно множество голосов» [21. C. 58]. Вместе с тем эстетическая интерпретация исторических событий Булгаковыми во многом соотносится с особенностями «русской неаполитаны», когда «паломничество в Неаполь» становится для русских поэтов и писателей душевной и духовной потребностью, рождает у них «чувство сопричастности к вечности и к истории», а сам город воспринимается как миф, «вобравший всю историю человечества и цивилизации» [22. C. 414, 416]. Эпистолярий братьев Булгаковых этого периода органично вписывается в совокупность текстов отечественной лите-186 Имагология / Imagology ратуры о Неаполе, создавая образы локусов Кампаньи начала XIX в. [23. C. 135]. В письмах образ Неаполитанского королевства раскрывается во многом через ситуацию встречи: встречи Южной и Северной Европы, Неаполя и Петербурга, монархии и республики, католицизма и православия, истории и современности. Вместе с тем Неаполь - это и особое коммуникативное пространство, тесно связанное и с дипломатической деятельностью обоих братьев, и с кругом их общения, и эстетически с частным письмом как разновидностью эго-документа. Также образ Неаполитанского королевства в переписке братьев Булгаковых во многом схож с рецепцией его авторами русских травелогов конца XVIII - первой половины XIX в. Неаполь в их восприятии - это островное государство, которое, благодаря своим географическим, историческим и культурным особенностям, продуцирует креативно-эсхатологическую образность, соединяет идеи райской жизни с памятью о конце мира, оказывается тесно связано с образами лаццарони, национально-освободительными войнами и карнавальной культурой [24. C. 392, 393]. Можно сказать, что образ Неаполя в переписке братьев Булгаковых соединяет в себе доминантные черты этого локального текста русской культуры, геополитические и индивидуальные точки зрения обоих авторов и особенности национального сознания, с позиций которого этот образ воспринимается и формируется [25. C. 75]. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Филиппо Марина ди. К истории отношений между Неаполитанским королевством и Российской империей // Имагология и компаративистика. 2017. № 8. С. 525.
Гриффитс Д. Екатерина II и ее мир: Статьи разных лет. М. : Новое литературное обозрение, 2013. 563 с. URL: https://www.libfox.ru/564681-devid-griffits-ekaterina-ii-i-ee-mir-stati-raznyh-let.html
Герасимова Г.И. «Северный аккорд» графа Панина. Проект и реальность // Российская дипломатия в портретах. М. : Междунар. отношения, 1992. С. 65-78.
Зонова Т.В. Россия и Италия: история дипломатических отношений : учеб. пособие. М. : Моск. гос. ин-т междунар. отношений, 1998. 64 с.
Эткинд А.М., Уффельманн Д., Кукулин И.В. Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Политическая концептология. 2013. № 2. С. 31-56.
Булгаков А.Я. Из писем Александра Яковлевича Булгакова в Москву к его отцу Якову Ивановичу // Русский архив. 1898. № 8. С. 600-643.
Братья Булгаковы : письма : в 3 т. М. : Захаров, 2010. Т. 1. С. 17.
Барт Р. Риторика образа // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс ; Универс, 1994. С. 297-318.
Лебедева О.Б. «Грозный дух тьмы посреди светлого, улыбающегося Эдема»: Везувий в записках русских путешественников XVIII - первой половины XIX веков // «Беспокойные музы»: к истории русско-итальянских отношений XVIII-XX вв. / сост. Антонелла д'Амелия. Салерно, 2011. С. 25-52.
Муратов П.П. Образы Италии : I-III т.: Исторический путеводитель. М. : Изд-во В. Шевчук, 2016. 672 с.
Штейман М.А. Трансформация метафоры власти в XX - начале XXI столетия. На примере произведений Дж.Р.Р. Толкина и Дж. Мартина // Полития. 2019. № 2 (39). С. 28-47.
Пажо Д.А. Культурная иконография: от сравнительного литературоведения к культурной антропологии // Поляков О.Ю. Имагология. Антология трудов по теории имагологии. Киров : Вятс. гос. ун-т, 2015. С. 142-153.
Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века / пер. с англ., под ред. Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2002. 528 с.
Булгаков А. Я. Из писем Александра Яковлевича Булгакова к его отцу из Неаполя в Москву // Русский архив. 1898. № 10. С. 223-244.
Нессельроде К.В. Записки // Русский вестник. 1865. Т. 59, № 10. С. 519-568.
Тюлар Ж. Мюрат, или Пробуждение нации / пер. с фр. Г. Зингера. М. : Терра, 1993. 382 с. URL: http://prussia.online/books/murat-ili-probuzhdenie-natsii
Кара-Мурза А.А. Русский Неаполь. Земной рай у подножия вулкана // Знаменитые русские о Неаполе. М. : Изд-во Ольги Морозовой, 2016. С. 9-24.
Гаспаров Б.М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка. СПб. : Гуманитарное агентство «Академический проект», 1999. 400 с.
Филиппо Марина ди. Документы о российско-неаполитанских отношениях в Государственном архиве г. Неаполя: аннотированная опись. Ч. 2 // Имагология и компаративистика. 2019. № 12. С. 5-22.
Филиппо Марина ди. Документы о российско-неаполитанских отношениях в Государственном архиве г. Неаполя: аннотированная опись. Ч. 1 // Имаго-логия и компаративистика. 2019. № 11. С. 5-38.
Хейден Уайт // Доманска Э. Философия истории после постмодернизма / Пер. с англ. М. А. Кукарцевой. М. : Канон+ ; РООИ «Реабилитация», 2010. С. 2761.
Янушкевич А.С. «Vedi Napoli e poi muori»: К. Батюшков - Е. Баратынский - Н. Гоголь // Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. : сб. статей / под ред. О.Б. Лебедевой, Н.Е. Меднис. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 412-419.
Лео Донателла ди. Городские и пейзажные впечатления в русской неаполитане XVIII - начала XX века : библиографический обзор // Литература путешествий: культурно-семиотические и дискурсивные аспекты : сб. науч. работ / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск : СИЦ НГПУ «Гаудеамус», 2013. С. 135-175.
Янушкевич А.С. «Неаполитанский альбом» русского романтизма 18201820-х гг. // Образы Италии в русской словесности XVIII-XX вв. : сб. статей / под ред. О.Б. Лебедевой, Н.Е. Меднис. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. С. 391411.
Лебедева О.Б. Заметки о неаполитанской антропологии: «Труд и зло, праздность и счастье тут означают одно и то же» // Россия - Италия - Г ермания: литература путешествий / науч. ред. О. Б. Лебедева. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. С. 74-98.
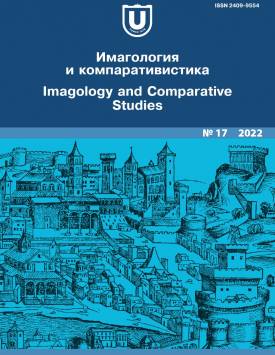

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью