К вопросу разграничения поэтики и мироощущения (на материале «Женитьбы» Н.В. Гоголя)
Комедия «Женитьба», развивающая фольклорный мотив брачной угрозы, стала рубежом в соотношении идеи, поэтики и мироощущения в творчестве Гоголя. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Вие» Гоголь растворял свое мироощущение в архаической картине мира, делая его предметом изображения. В нефольклорной «Женитьбе» с заданной сатирической идеей избыточная для нее фольклорная поэтика проявила авторское мироощущение «от противного». Но, передавая его комическому герою, Гоголь дистанцировался от него.
On the Demarcation Between Attitude and Poetics (On the Example of Marriage by Nikolai Gogol).pdf Творчество Гоголя - перспективное поле разграничения мироощущения автора, идеи и поэтики. В художественном тексте они, как правило, последовательно порождают друг друга. Но мироощу- 193 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения щение Гоголя во многом имело архаическую природу, вот почему рожденные им образы, по верной оценке Ю.М. Лотмана, «...могут служить основой для реконструкции мифологических верований славян» [1. С. 70]. Поэтому с идеями конкретных текстов гоголевское мироощущение связывалось опосредованно. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» и «Вие» фундаментальная для него фольклорно-мифологическая картина мира стала предметом изображения с самим этим миром. Впоследствии же она (а точнее мироощущение, перципируемое фольклорными образами и языком) «ушла в стиль...» [2. С. 257], обусловив комические странности героев: телесные, психологические (дискурсивные), речевые и поведенческие. У позднего Гоголя это мирощущение вступило в конфликт с его идейнофилософскими заданиями, спровоцировав глубокий творческий и ~ і личностный кризис . Одной из составляющих архаического мирооущения Гоголя, заведомо не могущей стать идеей произведения, стал мотив брач-ной/женской угрозы2. В «Вечерах.» «ведьмовский» облик мачехи или свекрови юной героини встроен в сказочную модель цикла. Однако и сама героиня, как и женщина вообще, описываются шутливоинфернальной фразеологией: «...у девушек сидит черт, подстрекающий их на любопытство»; «женщине... легче поцеловаться с чертом, нежели назвать кого красавицею...» [5. Т. 1. С. 141, 225]. Сказка интуитивно движется к породившей ее славянской архаике, объединяющей женщину с нечистым. 1 Проблемномъ этого «ухода фантастики в стиль» Гоголя обозначает М.Н. Виролайнен. Сравнивая явную фантастику «Вечеров...» с неявной в «Миргороде», она констатирует, что Гоголь не отдаляется от древних представлений, а приближается к ним: «зооморфные сравнения» гораздо более «напряженные», чем в «Вечерах...», «.нарушают дистанцию между сравниваемыми предметами, превращая похожее в тождественное...» (Здесь и далее курсив мой. - А.И. [3. С. 154-155]). Это и переводит предмет изображения в область мироощущения, наделяя архаическими признаками лица и предметы, не связанные с фольклорной картиной мира и нормативными для нее смыслами. Применительно к смеховому потенциалу гоголевского языка этот внутренний конфликт писателя описан в статье Ю.М. Лотмана [1. С. 70-75]. 2 Из последних работ об эволюции этого мотива у Гоголя после «Вечеров...» и «Миргорода» см.: [4. С. 145-154]. 194 Имагология / Imagology В «Вие» она отчасти реализуется в сюжете: панночка сочетает в себе юную героиню и ведьму, и у нее как волшебной искусительницы нет земной антагонистки, характерной для немецкой романтической новеллы. Причина в том, что герой, Хома, несмотря на зрелый возраст, «Еще никакого дела с панночками не имел» - и не нуждается в них: «цурь им, чтобы не сказать непристойного» [5. Т. 2. C. 197]. Это отражает представления о способности женщин колдовством поддерживать связь с загробным/подземным миром предков, что делало брак инициацией, т.е. тягостным и опасным долгом. Так, у сербов и черногорцев юноша становится мужчиной лишь в браке, иначе он считался «сиротой» [6. C. 206-207], каким и является «безбрачный» Хома. Но и в «Вие» обозначенная в панночке идея принадлежит народному преданию, отражая его картину мира и оставаясь поэтому в поле авторского изображения. В заглавном герое повести «Иван Федорович Шпонька и его тетушка» женобоязнь уже не угадывается, а разумеется, и финальный ночной шабаш в церкви, затеянный мертвой панночкой ради любовного принуждения Хомы, превращается в кошмарный сон (чья фольклорно-архаическая символика была описана [7. C. 70-72, 76, 78] и о котором подробнее будет сказано ниже). Действие в первый и последний раз в «Вечерах...» переносится из сказочнолегендарной Украины в современную Гоголю хуторскую Малороссию; в результате женобоязнь Шпоньки предстает сердцевиной комического характера, а тот - проявлением нравов провинциального мира и частью изображения последнего, отделенной этим от автора. Очевидно, что юный Гоголь не черпал свое интуитивное неприятие брака из фольклора и мифа, а, наоборот, перципировал его их образами, которые и кодифицировали архаическую картину мира. Наиболее отчетливо расслоение и новое взаимодействие поэтики и мироощущения Гоголя в связи с брачной угрозой можно проследить в «Женитьбе», задуманной в 1833 г. (первый вариант - «Женихи»), но представшей на сцене в окончательном виде почти десятилетие спустя (1842 г.) [8]. Главный герой пьесы Подколесин точно определен Ю.В. Манном [9. С. 611] как «родной брат» Шпоньки. В «Женитьбе» мотив мужского отторжения брака полностью выходит за пределы формально заданной идеи. Идя от «Женихов» к «Женитьбе», Гоголь переносит действие в купеческую среду, зада-195 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения вая темой комедии сатиру на «модный» мещанский брак и сопутствующее ему сословное чванство. Уже в «Женихах» помещица Авдотья Гавриловна желает, чтобы жених был «... .только дворянин да порядошной фамилии» [5. Т. 5. C. 245]. В «Женитьбе» ее преемница - купчиха Агафья Тихоновна также заявляет, что «ни за что не выйд[ет] за купца!..» [5. Т. 5. C. 20]. А неявные резонеры «Женитьбы», тетка и опекунша невесты-сироты Арина Пантелеймоновна и цитируемый ею покойный отец Агафьи, утверждают купеческую гордость как основу выбора жениха: «...твой батюшка... как ударит... по столу да вскрикнет: “Плевать я... на того, который стыдится быть купцом... не выдам же... дочь за полковника... разве купец не служит государю... как и всякий другой?”» [5. Т. 5. C. 20]. Эта идея утверждается сюжетом. Сначала купец Стариков, сына которого Агафья отвергает, предупреждает ее: «Нет, тут что-то спесьевато. Ай припомните потом, Агафья Тихоновна, и нас...» [5. Т. 5. C. 35]. А в финале Арина резюмирует его сбывшееся предостережение (бегство Подколесина из-под венца): «Я - мужичка, да не сделаю этого... Видно, только на пакости... у вас хватает дворянства!..» [5. Т. 5. C. 61]1. Другие атрибуты «модного» брака, подвергаемые осмеянию в «Женитьбе», - потребительские взгляды на нее Яичницы, интересующегося лишь, «сколько за ней движимого и недвижимого?» [5. Т. 5. C. 22]. Это продолжается общим «потребительски-пошлым» эротизмом (подглядыванием женихов за переодевающейся невестой). Расхожесть этих мотивов в современной Гоголю русской комедии проявляется в перекличках героев «Женитьбы» с ее типажами2. Это превращают ее из итога пьесы в точку отталкивания для поэтических (образно-смысловых) импровизаций - проявляющих мироощущение писателя уже в явный противовес ей. Очевидно, рефлек- 1 Та же сатира на дворянские замашки купеческих детей озвучивается в финале «Игроков» Утешительным: выставляя их Ихареву мнимой причиной срочного отъезда, он рассчитывает именно на ее правдоподобие. 2 В частности, отмечалось, что Подколесин своей нерешительностью отсылает к персонажам «Лентяя» И. Крылова (1800-1805) и «Нерешительного» Н. Хмельницкого (1819). Подробно о движении Гоголя от «Женихов» к «Женитьбе» см.: [8]. 196 Имагология / Imagology сия собственных взглядов на брак побудила Гоголя вернуться к сюжету «модного брака» годы спустя на новом этапе своего литературного и личностного движения. Но в «Женитьбе» Гоголь не меняет сатирическую идею «Женихов», а последовательно убирает имевшиеся в них указания на брачную мотивацию главного героя. В «Женихах» действие определялось колебаниями невесты Авдотьи Гавриловны в выборе жениха. Они остались и в «Женитьбе», но главным стали сомнения самого «избранника», переходящие в итоге в смятение и бегство в окно и принципиально отличающиеся от его сомнений в «Женихах». Там Подколесин, при всей своей нерешительности, более или менее представляет себе, какая жена ему нужна («...хорошо бы эдакую подцепить, чтобы...»), и что в приданое он непременно должен получить «квартиру» [5. Т. 5. C. 262]. В «Женитьбе» эти мотивы исчезают, и Подколесин - единственный из женихов, не имеющий предпочтений в отношении будущей невесты: культурных, как у Анучкина, материальных, как у Яичницы, или эротических, как у Жевакина. Его сомнения связаны не с достоинствами и недостатками Агафьи, а с браком как таковым. И они безотчетны: Подколесин не понимает, ни зачем ему жена, ни почему он откладывает сватовство, и не хочет ехать на смотрины. Шпонька прямо признается в этом тетушке: «Я совершено не знаю, что с нею делать!» [5. Т. 1. С. 307]. Подколесин же на протяжении всей пьесы говорит о преимуществах брака, просто чтобы что-то сказать: «наконец, точно нужно жениться. Что в самом деле? Живешь, живешь, да такая, наконец, скверность становится...Н...А прежде я... не углублялся и жил вот, как и всякий другой человек живет...» [5. Т. 5. C. 9, 58]. В итоге комедия заканчивается ничем - в отличие от ее классических предшественников, всегда венчаемых браком или помолвкой. Это вызвало серьезное отторжение критики и публики, увидевших в комедии «обнуление» идеалов большой любви, утверждаемых классической комедией «от противного». Объясняется же оно отсутствием в «Женитьбе» положительного героя, который отстаивал бы идеалы высокой любви в противостоянии комическим антагонистам. Подоплека «брачного смятения» Подколесина состоит в том, что он, номинально главный, т.е. успешный «жених», сочетает в себе взаимоисключающие черты его типовых соперников: робкого, само-197 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения влюбленного, ленивого и простодушного. Из мольеровских «высокой» комедии и фарса1 они перешли в русскую комедию Фонвизина, Княжнина, Шаховского, Крылова, Хмельницкого, Капниста и др., где неизбежно терпели неудачу в противостоянии с благородным героем, знаменующим брачное торжество большой любви. Не «идеальна» и невеста Агафья Тихоновна. Ее колебания в выборе жениха так же открыто отсылают к ряду типажей невесты мировой и русской комедии: Шекспира, Мольера, Лопе де Вега, Ш. Мариво, Екатерины II, Я. Княжнина, А. Шаховского, и др.: причудницы, кокетки, привереды [11. C. 16]. Поэтому предметом осмеяния в «Женитьбе» объективно оказывается брак как таковой. В устах Фёклы это пошлая и внутренне пустая «дрянь»: «...безбожник... В такую дрянь вмешался...», - что подтверждает Яичница: «Вот за что не люблю сватаний... А ведь дело дрянь...» [5. Т. 5. C. 16, 34]. «Любовь» же остается фиктивным псевдонимом брачной «дряни». Еще работая над «Женихами», Гоголь высказывал убеждение в том, что смешное можно найти во всем и во всех. Себя писатель из этого «смешного» мира вовсе не изымал, а, наоборот, замыкал поиск смешного на себе. С.Т. Аксакова он уверял, что в задумываемой им комедии «Мы... сами над собой будем валяться со смеху» [12. C. 430432]. Если всеобщим комическим признаком человечества в «Женитьбе» становится стремление к браку, то в ее главном герое Гоголь, с одной стороны, неявно вышучивает это стремление в себе самом, а с другой - отражает свое неявное отторжение от него. В 1840-е гг. оно косвенно проявляется у Гоголя в проповеди монашеского аскетизма художника. В письмах к живописцу A. А. Иванову от 24 июля (н. ст.) 1847 г. и В.А. Жуковскому от 10 января (н. ст.) 1848 г. Гоголь утверждает его необходимость для адресата, избравшего евангельскую тему, и для самого себя. B. А. Воропаев [13. C. 313] обоснованно предполагает формирование у позднего Гоголя «души монаха». Но если это и так, писатель заведомо не мог представлять в «Женитьбе» собственное отторжение от брака идеей вещи. Задав ее открыто, Гоголь с помощью поэтики 1 О предвестиях у Мольера мотива «имплицитной» женобоязни в «Женитьбе» см.: [10. C. 101-107]. 198 Имагология / Imagology противопоставлял ей свое мироощущение столь же явно, сколь явно была озвучена она сама. *** Сугубо архаические признаки женской инфернальности и соответствующего ее восприятия предсказуемо предстают в «Женитьбе» «следами». Здесь важно, что Подколесина, в отличие от Шпоньки, брак равно безотчетно страшит и влечет. И Кочкаревские похвалы женщинам высвечивают подоплекой того и другого женскую телесно-эротическую безграничность: «...Будто у них только что ручки!.. У них... просто черт знает чего нет» [5. Т. 5. C. 17]. Подспудная суверенность и одушевленность женских телесных членов обозначена гиперболой в «Шинели», где у встреченной Баш-мачкиным на пути из гостей девушки легкого поведения «...всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения» [5. Т. 2. C. 160]. В первом томе «Мертвых душ» эти влекущие сами по себе части женского тела шутливо-гиперболически изображаются областью бесследного исчезновения: «...одни глаза их (женщин. - А.И.) такое бесконечное государство, в которое заехал человек - и поминай как звали». И сами дамы города N видят привлекательными для мужчин не себя в целом, а части собственного тела, выступающие отчасти суверенными: «...если они заметят у себя что-нибудь хорошее... то... думают, что лучшая часть их... бросится всем в глаза... а на лицо, волосы... если и взглянут, то как на что-то постороннее...». Женское же тело в целом предстает владением, т. е. не равным женщине как таковой, а принадлежащим ей топосом («фатальноэротического») движения/«погружения» мужчины, подобным лесу, полю, городу или тому же государству: «. каждая обнажила свои владения до тех пор, пока чувствовала, что они способны погубить человека...» [5. Т. 6. C. 163-164, 167-168]. В славянских архаических представлениях связь с загробным миром регулярно делает женщину физиологически нестабильной и «нечистой», почему в период месячных тягот ее замещают в необходимых ритуалах девушки, вдовы или старухи [6. С. 208]. Тем самым в период этих тягот граница между женским телом и безграничной землей уходит, делая, по сути, безграничным само это тело. В сне Шпоньки «безграничность» жены косвенно проявляется в ее «по-199 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения всеместности»: герой последовательно обнаруживает жену в шляпе, кармане и собственном ухе [5. Т. 1. С. 307]. При этом тщетны попытки спящего Шпоньки бежать от жены: «...Вдруг кто-то хватает его за ухо... “это я, твоя жена”, - с шумом говорил ему какой-то голос...» [5. Т. 1. С. 307]. Таким образом, жена фактически оказывается не везде, а всем, т.е. миром в целом, обнуляющей любое движение Шпоньки. Поочередно оказываясь в шляпе, кармане и ухе Шпоньки, она не перемещается между ними, а делится на своих двойников. По-видимому, схожим образом обнуляют движение героев «живые» (меняющиеся местами) топосы «Вечеров.»: гумно и голубятня в «Заколдованном месте», Канев и Шумск в «Страшной мести». В «Женитьбе» они «оживают» в качестве оборота речи, т.е. на уровне мироощущения говорящего: «...свороти налево, и вот тебе прямо в глаза, то-есть, так вот тебе прямо в глаза и будет деревянный дом...» [5. Т. 5. C. 16]. Черты предполагаемой невесты Шпоньки и его тетушки сочетает в себе Агафья, чье «комико-титаническое» желание иметь мужьями всех женихов разом («.Ах, если бы... вынулся Никанор Иванович. Нет, отчего же он? Лучше ж Иван Кузьмич. Отчего же Иван Кузьмич? чем же худы те, другие?.. Ух! все! все вынулись!..» [5. Т. 5. C. 37]) неявно подразумевает эротическое подчине-ние/поглощение мужского рода в целом, также восходящее к архаике: так, белорусские поверья объясняют неутолимый сексуальный аппетит женщины тем, что нечистый обитает в ее лоне [6. С. 206]. Поэтому близость с женщиной хоть и пленительна для Подколе-сина («.Право, как подумаешь: чрез несколько минут... вкусишь блаженство, какое... бывает только... в сказках...»), но страшна полным и бесповоротным подчинением ей: «Однако ж... как-то даже делается страшно... на весь век... связать себя, и уж после ни отговорки, ни раскаянья... все кончено, все сделано...» [5. Т. 5. C. 58-59]. Ближайшим гоголевским источником такой взаимосвязи влечения к женщине и страха перед ней выглядит восприятие Хомой Брутом живой, а затем погибшей по его вине панночки-ведьмы; то и другое он стремится преодолеть всенародным восхвалением казачества и казачьим же танцем. В вопросах Подколесина слуге об интересе портного, сапожника и других к его возможным брачным намерениям тщеславие переме- 200 Имагология / Imagology шано со страхом публичности, т.е. осмеяния: «Ну, а не спрашивал: для чего, мол, барин из такого тонкого сукна шьет себе фрак?..//... Не говорил ничего о том, что не хочет ли, дескать, жениться?..//. А когда он отпускал тебе ваксу, не спрашивал, для чего, мол, барину нужна такая вакса?..//. Может быть, не говорил ли: не затевает ли, дескать, барин жениться?» [5. Т. 5. C. 10-11]. Следует иметь в виду, что в фольклоре бесовская природа практически всегда проявляется в женщине как животная. По поверьям восточных славян, Ева родилась не из ребра Адама, а из хвоста чер-та/собаки, укравшего это ребро. Поэтому она болтает языком, как собака виляет хвостом. В украинских поверьях происхождение женщины от собачьего хвоста проявляет длина ее волос [6. С. 205, 207]. В финале «Вия» Тиберий Горобец видит верным освобождением от ведьминых чар плевок на ее хвост, удостоверяющий ее животное естество. Шутливо о наличии хвоста у ведьм («и то весьма немногих») сообщает рассказчик «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» из того же «миргородского» цикла. В «Женитьбе» звероподобие женщины (агента сватовства), а равно его участников переходит в план «бытовой» фразеологии (т.е. общего латентного мироощущения): «...Кочкарев. ...Ах ты, крыса старая...//. ...бедь вот стоит - известно, что за птица./. Уж не женихи ли? (Толкает Феклу и говорит ей тихо.) С которых сторон понабрала ворон, а?..» [5. Т. 5. C. 14-15, 30]. Но при этом Агафью интересуют в Жевакине как предполагаемом женихе отдельные телесные части и признаки (волосы и нос), как в собаке или лошади. Недостатки мужа-купца в ее глазах столь же животно-телесны: «.У него борода: станет есть, все потечет по бороде...» [5. Т. 5. C. 20]. Поэтому в фантазировании Агафьей идеального мужа, возможно, звучат мечты об идеальном партнере - «кентавре»: «Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмина, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить. еще дородности Ивана Павловича - я бы тогда тотчас же решилась....» [5. Т. 5. C. 37]. В силу этого брак для Подколесина, хотя и формально престижен, но подспудно постыден, так как узаконивает связь с жен-ским/животным началом и делает ее общеизвестной. В укорах 201 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения Шпоньки тетушке этот стыд не подразумевается, а разумеется: «Вы совершенно в стыд меня приводите...» [5. Т. 1. С. 306]1. Желание брака и страх перед ним имеют у Подколесина один источник, форсируя друг друга. Поэтому до поры до времени постоянные приглашения свахи и разговоры с ней о невесте (невестах) и приданом («...А приданое-то, приданое? Расскажи-ка вновь... //...Подумаем... матушка. Приходи-ка послезавтра. Мы с тобой, знаешь, опять вот эдак: я полежу, а ты расскажешь...» [5. Т. 5. C. 12-13]) служат, по сути, безопасной заменой брака как такового. Однако архаические признаки женщины, озвучиваемые в разговорах о них или ими самими, либо неизвестны Подколесину, либо не воспринимаются им в этом качестве. Они проявляют мироощущение героя - и автора, передающего ему свое. *** Пустота и постыдность брака как дряни делает его природу не просто «бесовской», но бесовски-смеховой. В русском народнотрадиционном сознании бесовский мир был не просто потусторонним (инишним), но «зазеркальным»: представлял «правильный» (русский, православный и социально упорядоченный) мир «наоборот», но при этом был мнимым, а потому - смеховым, утверждая реальный «от противного». Однако культурный переворот Петра I поменял «правильный» и «кромешный» миры местами и признаками, сделав нерусское культурной нормой. Ее воплотила новая столица, Петербург, а «Всешутейший собор» превратил прежнюю, русско-православную норму из субъекта в объект осмеяния. Но, став реальным, бывший 1 В сне Шпоньки неявным сигналом того же позорного брачного «самооглашения» выглядит его превращение в колокол: «...И чувствует, что его кто-то тащит веревкою на колокольню... "Это я, жена твоя, тащу тебя, потому что ты колокол”» [5. Т. 1. С. 307]. В качестве колокола, звучащего у славян как на свадьбе, так и на похоронах и снящегося к плохим новостям [14. C. 223], Шпонька обречен вечно гласить не о чем-то внележащем, а о себе самом. Ср.: в «Записках сумасшедшего» единство позорного подчинения женщине и оглашения оного в словах Поприщина о его начальнике: «А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно» [5. Т. 3. C. 193]. 202 Имагология / Imagology «зазеркальный» мир сохранил в глазах своих противников «бесовски-смеховые» признаки [15. С. 9-24, 50-59, 60, 64-66, 72; 16. C. 144-156]. В этом контексте важно наблюдение М.Н. Виролайнен [17. C. 50] о том, что местом несостоявшейся женитьбы в комедии оказывается именно Петербург (предстающий в «Петербургских записках 1836 года» запредельным и туманным «краем света» [5. Т. 8. C. 177]), а Подколесин продолжает череду холостяков и несостоявшихся женихов «Петербургских повестей»: Пискарева, Чарткова, Поприщина, Ковалева, Башмачкина1. Сигналами вторжения/утверждения «иного мира» в качестве реального уже в начале пьесы выступают другие зеркала, упоминаемые Подколесиным и являющие людям их «зазеркально-смеховые» карикатуры: «Знаю я эти зеркала. Целым десятком кажет старее, и рожа выходит косяком» [5. Т. 5. C. 15]. В «петербургско-смеховом» контексте брачные предпочтения дворянина/дворянки куп-цу/купчихе получают подтекст комического предпочтения нерусского. Это переходит из подтекста в текст в абсурдных убеждениях Анучкина, гордящегося умением «ценить обхождение высшего общества» [5. Т. 5. C. 33], в необходимости для будущей жены французского языка (неизвестного ему самому), потому что без него «у ней... все уж будет не то...» [5. Т. 5. C. 35]. В «смеховом» пространстве сказочно-гиперболические похвалы Феклы предлагаемым ею женихам утверждают невозможность этого на деле: «Подколесин. Будто уж самая лучшая? - Фекла. Хоть по всему свету исходи, такой не найдешь... // ... Зато уж каких женихов тебе припасла! То-есть, и стоял свет, и будет стоять, а таких еще не было.»; «Агафья Тихоновна. Что ж они, дворяне? - Фекла. ...Уж такие дворяне, что еще и не было таких...» [5. Т. 5. C. 21-22]2. 1 Именно в петербургском мире к предмету инфернальномъ женщины становится предметом трагически обобщающего откровения обезумевшему По-прищину в «Записках сумасшедшего»: «.я первый открыл... Женщина... любит одного только черта... Вы думаете, она глядит на этого толстяка со звездою? совсем нет, она глядит на черта, что у него стоит за спиною. Вон он, кивает оттуда к ней пальцем. И она выйдет за него.» [5. Т. 3. C. 209]. 2 О фольклорных ролях ложных тождеств, дефиниций и гипербол в утверждении реальности от противного см.: [18. C. 230-232]. 203 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения В брани Яичницы по обратной логике «карнавального увенчания» видится Фекле признак сановности: «Да еще... вклеил такое словцо, что и неприлично тебе сказать. Я... вмиг... опознала... это должен быть важный господин...» [5. Т. 5. C. 22]. Узаконивают брань как нормативную оценку комически странные имена: «...да на Руси есть такие содомные прозвища, что только плюнешь да перекрестишься...» [5. Т. 5. C. 23]. О престран-ны[х] фамилия[х] сослуживцев вспоминает Жевакин, удивленный фамилией Яичницы: «...Помойкин, Ярыжкин, Перепреев... Дырка» [5. Т. 5. C. 29]. Утверждение «кромешного» мира снимает границы реальности и фикции, и человек не в силах разделить в своей речи правду и ложь: «...Был у нас... надворный советник... Такой уж у него нрав... странный был: что ни скажет... то и соврет, а такой на взгляд видный... Он-то и сам не рад, да... не может... не прилгнуть...» [5. Т. 5. C. 13]. Произвольными становятся связи имени и лица, рождая мнимые различия между лицами: «Да вы только посудите, сравните только: это, как бы то ни было, Иван Кузьмич; а ведь то что ни попало: Иван Павлович, Никанор Иванович, черт знает что такое!..» [5. Т. 5. C. 38]. Смеховые признаки в «Женитьбе» получают практически все «бесовски-хтонические» атрибуты брачной аферы и ее участников. Та же комическая (скоморошья) ложь, профессиональный индекс свахи Феклы, исходно проявляла ее животную природу, на что ей указывает Яичница: «Ты врешь, собачья дочь!» [5. Т. 5. C. 22]1. Так же перекодируются «животные» признаки Жевакина. Шутливое объяснение Кочкарева, почему Жевакину «...совсем не следует жениться.//.Ну что у вас за фигура, между нами будь сказано? Нога петушья...» [5. Т. 5. C. 46], внешне алогично. Но в фольклоре сегментарно животные черты приписываются «заложным покойникам», приходящим из-под земли к еще живущей родне2. «Хто- 1 При этом сама Фекла оценивает этот «животный» признак как возрастной: «Устарела я, отец мой, чтобы врать; пес врет...» [5. Т. 5. C. 12] - либо моральный: «.Тут тебе ворон нет, все честные люди» [5. Т. 5. C. 30]. 2 О соответствующих подтекстах в «Женитьбе» см., в частности: [19. C. 282294]. 204 Имагология / Imagology ническая» отверженность Жевакина (отказ Агафьи для него уже семнадцатый) дополняется собственно смеховой. В область фикции фольклор выдвигал нищету (символизируемую ложными материалами и срамной наготой). Ею нищий был обязан своей лени, пьянству и игре - выдвигая себя за пределы реальности, по сути, исчезая. И гипертрофированная нищета Жевакина (хвастающегося тем, что уже 30 лет перелицовывает один и тот же мундир), констатируемая Феклой: «Только не погневайся: уж на квартире одна только трубка и стоит, больше ничего нет - никакой мебели» [5. Т. 5. C. 23], по сути, делает его «голым и небогатым человеком» народно-смехового мира1. В той же компании Жевакина «ономастическая» странность продолжается физической - как бы управляемой извне: «... другой Жева-кин... был ранен... под коленком, и пуля так странно прошла, что коленка-то самого не тронула, а по жиле... как иголкой сшило, так что, когда., стоишь с ним... кажется, что он хочет тебя коленком сзади ударить» [5. Т. 5. C. 31]. Вынужденно-странные движения Жевакина второго, очевидно, наследуют управляемым с помощью колдовства движениям героев «Вечеров...»: в «Пропавшей грамоте» у супруги деда, не освятившего хату после визита в преисподнюю, «...ноги затевают свое, и... дергается пуститься вприсядку» [5. Т. 1. С. 191], а дед в «Заколдованном месте», наоборот, не может продолжать гопак после определенного коленца. Брачная привязка принудительного комического танца проявляется в том же сне Шпоньки, который обязан «скакать на одной ноге», ибо теперь «женатый человек» [5. Т. 1. С. 307]. Трагикомическая версия этого движения, колдовски управляемого женщиной, - невольный бег Хомы с ведьмой на плечах. Развернуто связь в мироощущенческом поле «Женитьбы» архаики и ее фольклорно-смеховой рецепции отражает Кочкарев, добровольный сват Подколесина. Эти хлопоты, как будто, непонятны ему самому: «... что он мне? родня, что ли? Из какого же дьявола... я 1 Предшественником Жевакина в этом плане выглядит Антон Прокофьевич Голопузь в «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», который последовательно погружает себя в нищету серией иррациональных обменов по комической модели «Что муж ни сделает, то и хорошо». 205 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения хлопочу о нем... Поди ты спроси иной раз человека, из чего он что-нибудь делает!» [5. Т. 5. C. 54-55]. Это отличает Кочкарева от традиционных сватов современной Гоголю русской комедийной сцены [12. C. 453-456]. Но подоплека кочкаревских хлопот открывается в его словах Фекле при первом выходе на сцену: «Ну... на кой черт ты меня женила? //.Эк невидаль, жена! Без нее-то разве я не мог обойтись?» [5. Т. 5. C. 14]1. Запоздалые попреки обнажают в Кочкареве зависть легкомысленного шалуна, «впутавшегося» в брак, к вольно-безмятежному лентяю. Меру ее отражают сначала мольбы Кочкарева другу непременно жениться: «...Ну, вот я и на коленях!.. Век не забуду твоей услуги, не упрямься, душенька!» [5. Т. 5. C. 53], а затем гневное нежелание мириться с его отказом: «...с него все... как с гуся вода, - вот что нестерпимо!.. Не дам улизнуть, пойду приведу подлеца!» [5. Т. 5. C. 55]. Зависть к Подколесину говорит о том, что Кочкаревым к началу пьесы владеет то же отторжение женщины и брака, что и его другом, но уже осознанное на опыте. Мстительность кочкаревского сватовства как облапошивания получает в комедии отчетливо инфернальные черты. Невеста, Агафья Тихоновна, - сирота, что по фольклорной логике «Вечеров.» делает брак с ней ущербным и потенциально опасным [20. С. 1819; 21. С. 150], соотнося этим Кочкарева с нечистым, помогающим героям «Сорочинской ярмарки», «Вечера накануне Ивана Купала» и «Ночи перед Рождеством» в браках с сиротами (полными либо частичными), а в поверьях способного быть везде и проникать повсюду, принимая узнаваемый для человека облик друга, родственника или соседа [22. Т. 2. С. 625]. Последовательно уверяя впервые видящую его Агафью в том, что они наверняка знакомы: «Да неужли вы меня не узнаете?../. Однако ж припомните. Мы меня, верно, где-нибудь видели.» [5. Т. 5. C. 32], а затем в их запутанном родстве: «Право, не знаю: как-то тетка моей матери что-то такое ее отцу или отец ее что-то такое моей тетке.» [5. Т. 5. 1 Эти нелестные оценки жены и брака развивает Ноздрев, удерживая у себя зятя Мижуева, спешащего к жене: «Ну ее, жену, к..! важное в самом деле дело станете делать вместе!» [5. Т. 6. C. 76]. Для Ноздрева пустым делом оказывается уже не только брак, но и брачный секс. 206 Имагология / Imagology C. 42], Кочкарев в итоге проникает вечером в спальню к Агафье, гадающей на женихов; уверяет, что ему, как родне, можно доверить все: «...Не пугайтесь, это я. Ведь я свой, родня, передо мною нечего стыдиться.», понуждает обоих, по образцу своего патрона, к неоправданным поступкам («вводит в грех»): «...я тебя женю так, что и не услышишь... увидишь, как все вдруг... //... Руку!..//. Ну, этого только мне и нужно», и в итоге выступает самозваным патроном затеянного им брака, объясняясь за «влюбленных» и скрепляя их «согласие»: «...Согласен и одобряю ваш союз» [5. Т. 5. C. 16, 36, 38, 57]. Нет данных о том, что Гоголю была известна этимология фамилии «Кочкарев», образованной от тюркско-татарского «Кочкар» (варианты - Кошкар, Качкар, Кучкар), что означает «волка», олицетворяющего в мифологии мрак и туман, и в христианизированной Европе соотносимого поэтому с нечистым. Славянское определение волка как «лютого» означает также «скорый на ногу», что помогает ему в устраивании брака сказочного героя. В сказке о Царевиче и сером волке последний по ходу сюжета оборачивается в коня и невесту [23. T. 1. C. 634-664]. Между тем в первом томе «Мертвых душ» самозваным и взбалмошным сватом Чичикова и губернаторской дочки выступал именно Ноздрев, чья отмечаемая еще при жизни Гоголя собачья/волчья природа фактически задана1. Однако «зазеркальная» петербургская сцена действия наделяет и «инфернальность» Кочкарева смеховыми чертами как носителя иррациональности окружающего мира, так и его жертвы (что и проявляет в Кочкареве незадачливость чертей «Вечеров.»). Его безудержный хохот напоминает Жевакину «скоморошьего» сослуживца, чей многочасовой смех от ничтожного повода также выглядит отчасти вынужденным/«колдовским». Знаменательна невосприимчивость Кочкарева к плевку в глаза, который в его убеждениях Агафьи утрачивает свою семиотику наивысшего презрения, оставаясь действием сугубо физическим: «...что ж из того, что плюнет?.. Если бы. был далеко платок, а то ведь он тут же, в кармане, -взял да и вытер...» [5. Т. 5. C. 39-40]. 1 См. подробнее: [24. C. 87-88]. 207 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения В основе выражения «Бестыжему плюй в глаза, а он говорит: божья роса» лежит русский народный обычай плевать через левое плечо, чтобы отогнать нечистую силу. Обессмысливание плевка говорит об уходе «правильной» иерархии верха и низа и соответственно это неявно подтверждает схожая по смыслу поговорка: «Бесстыжих глаз и дым неймет». Отсюда, очевидно, готовность Кочка-рева «плевать на плюющего» ради достижения своих целей: презрение больше не означает отторжения (Загорецкого в «Горе от ума» «бранят везде, а всюду принимают»). Если хтоническая чудовищность эроса и брака превращает Кочкарева из свата-доброхота в «нечистого», то их «пустота» делает нечистого скоморохом. Ключевое место в смеховой кодировке «хтонической» природы брака принадлежит в «Женитьбе» сквозному у Гоголя мотиву поколений - двойников, впервые являющихся в «апокалиптическом» облике воскресающих в финале «Страшной мести» предков колдуна, «... как две капли воды схожих лицом на него» [5. Т. 1. C. 278]. В славянском фольклоре зловещим и роковым полагалось в первую очередь братское («синхронное») близнечество. «Поколенческая» его проекция косвенно обозначалась тем, что рождение близнецов объяснялось зачатием в период «дедов», когда супружеская близость была под запретом [25. C. 193]. Этим дети объективно не продолжали родителей, а профанированно повторяли и одновременно «отрицали» их. Между тем в «Женитьбе» Кочкарев не только расписывает Под-колесину «дублетность» потомства как привлекательную черту брака («главное, на тебя похожи, вот в чем штука!»), но распространяет на служебную сферу: «Ты вот теперь один... экспедитор... тогда, вообрази, около тебя экспедиторчонки...» [5. Т. 5. C. 18]. Чин экспедитора понимается как природный и потому наследуемый. Врожденность профессии обыгрывается и в «Ревизоре», в предвидении Бобчинского, что лежащий еще в пеленках сын трактирщика «будет, как и отец, содержать трактир» [5. Т. 4. C. 10]. А неизменные привычки Башмачкина убеждают сослуживцев, что он «родился... совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове» [5. Т. 2. C. 125]. Врожденными и наследственными социальные навыки людей делает их физиологизм, звучащий в «Игроках» в шутливом предположении Утешительного о том, что дети мнимого чиновника Замухрыж-208 Имагология / Imagology кина, включая бегающего «в рубашонке» и ползающего «на карачках», телесно проявляют мздоимные навыки отца: «Ну, а ручонками, я чай, уже все этак (показывает рукой как будто берет деньги) умеют?» [5. Т. 5. C. 94]. Социальные навыки предстают подспудно животными, подобными тем, что помогают той или иной фауне в добывании пищи и защите от врагов. Развернуто родство людей с теми или иными животными классами предстанет в «Мертвых душах» (медвежье - Собакевича, птичье - Коробочки, рыбье - Петуха и т.д.). Но уже в «Женитьбе» будущее общение Подколесина со своими малолетними социальными дублерами Кочкарев видит сугубо животным: «...а ты... будешь ему по-собачьи: ав, ав, ав!..» [5. Т. 5. C. 18]. В смеховом мире хтоническое близнечество поколений становится смешным - и потому желанным: «Подколесин. А оно, в самом деле, даже смешно... щенок эдакой, и уж на тебя похож. - Кочкарев. Как не смешно, конечно, смешно» [5. Т. 5. C. 18]. Тем не менее «зазеркально-смеховая» природа делает брак в глазах Подколесина необъяснимо странным - в чем он признается Кочкареву: «... а только странно.//. все был неженатый, а теперь вдруг - женатый...» [5. Т. 5. C. 17-18], а затем трижды повторяет Агафье: «Я пришел вам, сударыня, изъяснить одно дельце. Только я бы хотел прежде знать, не покажется ли оно вам странным?.. признайтесь: верно, вам покажется странным то, что я. скажу?» [5. Т. 5. C. 56]. Это недоумение (производная страха) также почти буквально восходит к «...Шпоньке»: «... жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою - непонятно!..» [5. Т. 1. C. 306]. Неслучайно Кочкарев внешне избыточно убеждает Подколесина в том, что брак не постыден и не бессмыслен, а нормативен: «Здесь нет ничего такого. Дело христианское, необходимое даже для отечества...» [5. Т. 5. C. 15]. Ср. слова Феклы самому Кочкареву: «А что ж дурного? Закон исполнил. » [5. Т. 5. C. 14]. «Инфернальное» непреложно оборачивается комической чепухой, и наоборот: любое комическое действие, включая итоговое бегство Подколесина из окна, получает ритуально-магическую подкладку - объявляемую Феклой: «...Да, поди ты, вороти!.. Еще если бы в двери выбежал - ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно - уж тут просто мое почтение!» [5. Т. 5. C. 61]. 209 Иваницкий А.И. К вопросу разграничения поэтики и мироощущения Немотивированное расторжение сватовства грозило жениху изгнанием из отчего дома и даже смертью [6. С. 205]. Окно же в восточнославянском фольклоре было каналом связи с загробным миром, последовательно предстающим как бесовский и смеховой (в том числе социально неупорядоченный или ничтожный). Через окно выносили «нечистого» покойника или умершего некрещеного младенца; заговорами вынуждали к бегству в окно клопов и тараканов. В Западной Белоруссии считалось, что к поминальному столу в хату приходят только «праведные родители», а грешники могут лишь заглядывать в дом через окно. Под окном останавливаются социальные и обрядовые «чужаки» - нищие и колядующие. Выход через окно необратим
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 38
Ключевые слова
брачная угроза, мироощущение, поэтика, идея, смеховой мир, кукольный театр, герой - ребенокАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Иваницкий Александр Ильич | Российский государственный гуманитарный университет | д-р филол. наук, ведущий научный сотрудник | meisster@mail.ru |
Ссылки
Лотман Ю.М. Гоголь и соотнесение смеховой культуры со смешным и серьезным в русской национальной традиции // Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1974. Вып. 1 (5). С. 70-75.
Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. М. : Художественная литература, 1988. 416 с.
Виролайнен М.Н. Миргород Н.В. Гоголя. Проблемы стиля : дис.. канд. филол. наук. Л., 1980. 200 с.
Попович Т. Страх от брачного ложа - Пушкин и Гоголь // Болдинские чтения. Н. Новгород : НнГУ им. Н.И. Лобачевского, 2018. С. 145-154.
Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений : в 14 т. М. ; Л. : Изд. АН СССР, 1937-1952.
Кабакова Г.И. Женщина // Славянские древности. М. : Международные отношения, 1995. Т. 2. С. 205-208.
Гончаров С.А. Творчество Гоголя в религиозно-мистическом контексте. СПб. : Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 1997. 340 с.
Слонимский А.Л. История создания «Женитьбы» Гоголя // Русские классики и театр. М. ; Л. : Искусство, 1947. С. 307-334.
Манн Ю.В. Грани комедийного мира («Женитьба» в чтении и на сцене) // Манн Ю.В. Творчество Гоголя. Смысл и форма. СПб. : Изд. СПбГУ, 2007. С. 518616.
Иваницкий А.И. «Господин де Пурсоньяк» Мольера и «Женитьба» Гоголя // Третьи Гоголевские чтения. Гоголь и театр. Сборник докладов. М. : Книжный дом «Университет», 2004. С. 101-107.
Виноградская Н.Л. Структура диалога в драматургии Н.В. Гоголя (комедия «Женитьба») : автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 2006. 28 с.
Манн Ю.В. Драматургия Гоголя // История русской драматургии. XVII -первая половина XIX века. Л. : Наука, 1982. С. 426-474.
Воропаев В.А. Николай Гоголь: Опыт духовной биографии. М. : Паломник, 2008. 318 с.
Колюжный Е. Славянские боги и ритуалы. М. : РИПОЛ, 2007. 382 с.
Лихачев Д.С. Смех как мировоззрение // Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смеховой мир Древней Руси. Л. : Наука, 1976. С. 7-90.
Панченко А.М. Русская культура в период петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3 (XVII - начало XVIII в.). Ч. 1. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. С. 3-252.
Виролайнен М.Н. Брачные сюжеты в гоголевском Петербурге // Новый филологический вестник. 2019. № 3. С. 44-51.
Венедиктов Г.Л. Внелогическое начало в фольклорной поэтике // Русский фольклор. Л. : Наука, 1974. Т. 14. С. 219-237.
Козубовская Г.П. Деформация тела: мотив сломанных ног («Женитьба» Н.В. Гоголя) // Универсалии русской литературы : сборник статей. Воронеж : ВГУ, 2011. Вып. 3. С. 282-294.
Гольденберг А.Х. Архетипы в поэтике Н.В. Гоголя. М. : ФЛИНТА; Наука, 2012. 232 с.
Дмитриева Е.Е. «Пожив в такой тесной связи с ведьмами и колдунами..» (Об особенностях гоголевского фольклоризма: «Вечера на хуторе близ Диканьки») // Вторые Гоголевские чтения. Н. В. Гоголь и мировая культура. М. : Книжный дом «Университет», 2003. С. 138-152.
Мифы народов мира : в 2 т. М. : Советская энциклопедия, 1982.
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. (репринт издания 1865 г.). М. : Индрик, 1994.
Иваницкий А.И. Гоголь. Морфология земли и власти (К вопросу об историко-культурных истоках бессознательного). М. : Изд. РГГУ, 2000. 187 с.
Толстой Н.И. Близнецы // Славянские древности. М. : Международные отношения, 1995. Т. 1. С. 191-193.
Виноградова Л.Н., Левкиевская Е.Е. Окно // Славянские древности. М. : Международные отношения, 1995. Т. 3. С. 534-539.
Некрылова А., Савушкина Н. Русский фольклорный театр // Фольклорный театр. М. : Современник, 1988. С. 6-37.
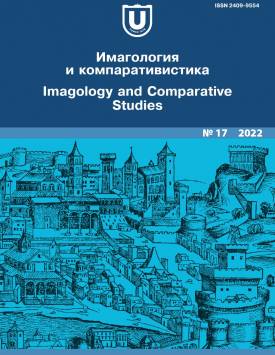
К вопросу разграничения поэтики и мироощущения (на материале «Женитьбы» Н.В. Гоголя) | Имагология и компаративистика. 2022. № 17. DOI: 10.17223/24099554/17/10
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 889

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью