Статья посвящена двум разновидностям художественной оптики русской литературы, направленной на понимаемый в широком смысле Восток. Подбор сопоставляемых писательских имен и ассоциированных с ними поэтик является репрезентативным: Бунин и Гумилев, несомненно, лучшие русские поэты-ориенталисты своей эпохи. В ходе анализа выявлен ряд однотипных сюжетно-мотивных ситуаций, позволяющих как дифференцировать поэтические техники обоих авторов, так и более точно провести границу между мирами Палестины и прилегающих к ней земель, с одной стороны (случай Бунина), и африканской Абиссинии (случай Гумилева) - с другой, конкретизировать обе локальности и вывести их из абстрактно-обобщенного смыслового контура «Востока».
Ivan Bunin’s Middle East and Nikolay Gumilyov’s Africa: Travels Through the “Map” of Literary Techniques.pdf В работе будет показано несколько общих черт двух довольно непохожих индивидуально-авторских поэтик, любопытно преломившихся в ходе лирического осмысления и травелогового воспроизведения Ближнего Востока, а также соседствующей с ним северовосточной Африки. На этом «преломлении» или «срезе» исследователь может увидеть, как весьма сходные реалии (начиная с почти дословно совпадающего у обоих, словно «ритуального» отправления 239 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева путешественников из одесского порта в Стамбул) могут примечательно то совпадать, то не совпадать с точки зрения приемов их репрезентации, а сам подбор этих приемов превращает путешествия в передвижения не только по географической карте, но и по условной «карте» литературных техник и художественных образов мира. В центре внимания будет находиться проблема субъектности, т.е. отношение перволичной инстанции, которая играет определяющую роль как в травелоге, так и в лирике, к воспроизводимому (мыслимому) предмету. Подобные отношения, особенно актуализирован- і ные в постклассическую эпоху , воздействуют и на мотивно-семантический уровень организации текста, и на его жанровую природу. * * * Всякое сравнение бунинской поэтики с художественными программами, разработанными его современниками и/или предшественниками, настойчиво требует теоретической фокусировки. Отношение писателя к канонической для него триаде, включавшей имена Достоевского, Толстого и Чехова, с характерным положительным акцентом на двух последних и шумными демонстративными порицаниями первого - хорошо известно. Причем среди этих трех, важных для писателя, линий наследования наибольшим аналитическим потенциалом располагает, как кажется, полемически-отрицательное слагаемое. Болезненные чувства вызова, конкуренции, ощущение, по меткому выражению Ю.М. Лотмана, «чужого дома» «на своей земле» [3. С. 730] в сознании Бунина порождали именно массивы текстов Достоевского. 1 Ср.: похожие в этом смысле примеры рефлексии обоих авторов. Статья Н.С. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» (1913) открывалась известными словами: акмеизм требует «большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме» [1. Т. 7. С. 147]. В опыте Бунина, избегавшего модернистской моды на публичные эстетические декларации, подобные вопросы внедрены в сам художественный текст. Так, знаменитый рассказ «Сны Чанга» (1916) открывается мыслью, нарочито заостренной в сторону субъектности: «Не все ли равно про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле» [2. Т. 4. С. 107]. 240 Имагология / Imagology Проблемой здесь, однако, было то, что от создателя романного пятикнижия историко-литературные ступени вели не только в еще более отдаленное прошлое национальной классики (конкретно - к Гоголю, оценки которого писателем XX в. также прихотливо варьировались), но и в актуальную современность: к модернистам. Например, также всем памятна бунинская реакция на классическое для русского символизма построение Д.С. Мережковского, предложенное им в знаменитой книге «Л. Толстой и Достоевский» (1902). Г. Адамович зафиксировал злой выпад героя его мемуаров против характеристики, которую Мережковский дал автору «Братьев Карамазовых». «“Тайновидец духа”! Да разве можно видеть дух иначе, как через плоть? Мережковский оттого это и выдумал, что у него самого никакой плоти нет и никогда не было. Он даже не знает, что такое плоть. Тайновидец духа. Что за чепуха!» [4. С. 182]. Таким образом, аргументы против модернизма воздвигались как бы на фундаменте общего отношения к классике, оживления, реактуализации ее в перспективе новейшей эстетической повестки и историкополитических событий начала века. С теоретической точки зрения русский акмеизм, изобретение Н. С. Гумилева, знаменовал собой неотрадиционалистский виток в истории национальной модернистской поэзии. По мысли В.И. Тюпы, «своим историческим зародышем» «русский неотрадиционализм» показательно имел «поэму Гумилева “Блудный сын”» [5. С. 99]. Не менее важно, что в самом этом небольшом произведении, написанном в 1911 г., ревизии подверглась основополагающая для поэта установка - постижение мира в странствиях: «Весь мир для меня открывается внове.» [1. Т. 2. С. 31]1, - увещевает своего старого родителя уходящий от него герой, в каковом увещевании позднее он будет горько каяться. Изначально присущий поэтической и жизнетворческой программам Гумилева сильный ницшеанский акцент [6] умаляется здесь в лице главного героя поэмы до почти канонически религиозного смирения: «Отче, я грешен пред Господом и пред тобою» [1. Т. 2. С. 33]. Неудивительно, что в историко-литературном смысле такое «возвратное движенье» побуждало исследователей 1 Здесь же, в комментариях к тексту поэмы [1. Т. 2. С. 231-234], см. о ее знаковой роли в контексте полемики с символизмом. 241 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева расценивать в терминах каноничности, сдержанности, как привычный уже «взгляд европейца, адресованный тому же европейцу» [7. С. 384], и «Африканский дневник» (1913) поэта, его главное сочинение, посвященное основному увлечению жизни. «Ни биографический, ни духовный мир Гумилева, - чуть ранее пишет Ю.В. Шатин, -практически не отразились в его записях о путешествии. “Африканский дневник” предельно фактографичен и полностью соответствует жанровому канону травелога» [7. С. 383]. Если развернуть эту тему (нео)классики в сторону Бунина, то с учетом общих тенденций постсимволистского периода в истории русской словесности совершенно естественно зазвучит проблема «Бунин и акмеисты». Заслуга в ее формулировании и всеобъемлющем анализе принадлежит, как известно, Т.М. Двинятиной, отметившей в интересующем нас аспекте следующее. Притом что на уровне непосредственных литературных контактов ни Гумилев, ни Бунин друг друга не признавали и как профессиональных игроков литературного поля, скорее всего, попросту не замечали [8. С. 10-11; 9. С. 69], тяготение их обоих к тому, что читателем того времени считалось экзотикой (вопрос авторской оценки воспроизводимого/осмысляемого объекта требует специальных оговорок - см. ниже, в конце этой статьи), сегодня заставляет ставить их имена рядом, что и делается в значительном количестве работ1. Ссылаясь на немецкого слависта А. Мей-ер-Фраатца, Т.М. Двинятина отличает натуру бунинского лирического субъекта, словно «растворенного» в окружающем мире, от качественно иной ввиду своей кристаллической четкости позиции героя Гумилева. «“Углубленность в себя” выводит Гумилева на внешнюю по отношению к описываемому миру позицию, тогда как Бунин дает внутреннее ощущение иной культуры и иной религии.» [8. С. 46]. И тем не менее общее в этом ряду несходств все же намечается: как Бунину, так и Гумилеву, принадлежащим под этим углом зрения некоей единой и довольно гибкой эстетической макросистеме, присуще восприятие географически отдаленного мира как самостоятельного, неподчинение его своей персональной мифологии, что так непохоже, например, на брюсовскую декларацию «Я - вождь земных царей и царь Ас-саргадон» или, добавим от себя, на египетский травелог К. Бальмонта, 1 См., например: [10. С. 267]. 242 Имагология / Imagology в котором страна пирамид показана почти исключительно сквозь призму прочитанных автором научных и эзотерических книг, авторитарно и без остатка вписана в его личный круг интересов. «Если символисты привносили в экзотическую культуру свою идеологию, то для акмеистов, равно как и Бунина, экзотические культуры сами становятся важнейшими составляющими их мировоззрения...» [8. С. 106]. Принятие, а не навязывание - вот новый модус описания канувших в лету древних культур Востока и еще не освоенных первозданных пространств Африки. * * * С источниковедческой точки зрения обязательным для исследователя является учет обширных лирико-поэтических массивов, в контексте которых создаются оба интересующих нас восточных тра-велога. Ландшафтоописательные нарративы, написанные от лица наблюдающего Я, естественно выливаются из накопленного запаса исповедальных рефлексий Я стихотворческого. Рассуждая риторически, лирика в известной мере сама является, как удачно отметил С.Н. Бройтман, своеобразным «литературным Востоком»: если эволюция повествовательного начала привела по выходе из синкретической эпохи к субъектному разделению автора и героя, что может быть расценено как прообраз рационально-понятийного мышления европейского типа, то в лирике с ее субъект-субъектными наслоениями, говорением повествующего сознания о самом себе подобного разделения не произошло. «. Расхождение судеб лирики и других повествовательных родов, - пишет С.Н. Бройтман, - типологически напоминает событие, происшедшее некогда в истории культуры. Античность совершила, как известно, потенциально нетрадиционалистский скачок, начала эмансипацию личности, создала формальную логику и выработала аналитические процедуры мышления. Восточная же (прежде всего индийская и китайская) культура достигла своих не менее впечатляющих высот, не порывая с исходным синкретизмом. Лирика, очевидно, является внутри литературы образцом “восточного” пути» [11. С. 436]. Программные, афористически сжатые ввиду самой природы «тесноты стихового ряда», суждения обоих поэтов, проливающие свет на их понимание Востока, действительно широко представлены в их стихо-243 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева творном наследии. Начнем детализацию с принципиального (в особенности для Бунина) концепта памяти. Перу позднего Гумилева принадлежат два стихотворения, озаглавленные удивительно «по-бунински»: «Прапамять» (1917) и «Память» (1920). Первое из них оканчивается вопросом лирического героя, уповающего на всецелость жизни, на возможность спасительного перевоплощения из временного в вечность: Когда же, наконец, восставши От сна, я буду снова я, -Простой индиец, задремавший В священный вечер у ручья? [1. Т. 3. С. 131]1 В широко известном втором стихотворении нам важно следующее образное «определение» памяти: Память, ты рукою великанши Жизнь ведешь, как под уздцы коня, Ты расскажешь мне о тех, что раньше В этом теле жили до меня [1. Т. 4. С. 90] Два способа «переселения» - трансисторического, но единого субъекта из одного тела в другое («я буду снова я») и ряда последовательно сменяющих друг друга субъектностей («душ» - «Мы меняем души, не тела») в исторически самотождественных границах одного тела - являются несомненными знаками постсимволистского движения в сторону понимания целостности жизни и истории, впрочем, при допущении неподвластной эмпирическому рассудку проницаемости их обеих. От раннемодернистского, декадентского культа самодовлеющего дискретного «мгновения» Гумилевым здесь совершен решительный отход. На этом пути нео-традиционалистской рефлексии его «встреча» с Буниным была неизбежна. Смерть - мысль твоя, не боле. Ты душою Не веришь в смерть. Но что душа твоя! Она одно с душою мировою - Лишь мысль есть человеческое Я. [12. Т. 2. С. 259]. 1 Курсив здесь и далее везде наш, за исключением специально оговоренных случаев. 244 Имагология / Imagology - декларирует Бунин в роковом 1917 г. Следующие строки едва ли есть смысл обширно цитировать ввиду их общеизвестности, однако нас к тому обязывает стремление к полноте привлеченного материала. Так, в «манифестных» стихотворениях «В горах» (1916) и «Памяти друга» (1916) читаем: Поэзия не в том, совсем не в том, что свет Поэзией зовет. Она в моем наследстве. Чем я богаче им, тем больше я поэт. Я говорю себе, почуяв темный след Того, что пращур мой почуял в раннем детстве: - Нет в мире разных душ и времени в нем нет! [12. Т. 2. С. 139]. Как эта скорбь и жажда - быть Вселенной, Полями, морем, небом - мне близка. Та сладостная боль соприкасанья Душой со всем живущим [12. Т. 2. С. 163]. Местоимение «все» («со всем живущим») подсказывает источник этой натурфилософской рефлексии Бунина - творчество Льва Толстого. В случае Гумилева такой определенности источника, конечно, быть не может, однако сами по себе сходства крайне показательны. Между тем перед нами только точка отсчета, пересечение маршрутов в «путешествиях» обоих поэтов по мотивно-литературной «карте». Далее начинаются глубокие расхождения. Первым из них я бы выделил глубокую укорененность бунинского видения Востока в классических «русских» темах его стихотворений, причем дело здесь не в ожидаемой риторике России как Ориен-та: эта историософская программа символистов была создателю «Храма Солнца» вполне чужда. Речь идет о спонтанном, использующемся словно «по умолчанию» переносе образности, сюжетов и жанровой поэтики вполне «русских» стихотворений на восточные хронотопы1. Вот, например, строки из, казалось бы, чисто «национальной» по своему содержанию элегии «Могильная плита» (1913), варьирующей темы повести «Суходол». 1 Ряд наблюдений на эту тему см.: [13. С. 553 и сл.]. 245 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева Могильная плита, железная доска, В густой траве врастающая в землю, -И мне печаль могил понятна и близка, И я родным преданьям внемлю. И я «люблю людей, которых больше нет» Я молодым себя, в своем простом быту, На бедном их погосте вспоминаю. Последний их побег, под эту же плиту Приду я лечь - и тихо лягу - с краю [12. Т. 2. С. 102-103]. Родные могилы - первый уровень апроприации внешней реальности, всецелого присвоения ее, вплоть до потенциального телесного соседства («лягу - с краю»). Однако в ходе расширения темы, «захвата» эмоцией единения нового материала, в ее контуре появляется Восток. Например, его мы видим в не менее программном, нежели цитированные выше, стихотворении «Слово» (1915). Ограничимся воспроизведением первого четверостишия: Молчат гробницы, мумии и кости, -Лишь слову жизнь дана: Из древней тьмы на мировом погосте, Звучат лишь Письмена [12. Т. 2. С. 107]. «Гробницы, мумии и кости» в образности этого эстетического манифеста, посвященного нетленности Культуры, как и рифмующийся с «костями» «мировой погост» - реалии, почерпнутые Буниным из его азиатских турне конца 1900 - начала 1910-х гг. Неудивительны в этом контексте такие прецеденты совершенно бесконфликтного, с резким понижением «градуса» экзотики, соединения «русского» с «восточным»: читатель очерка «Тень птицы», открывающего цикл путевых поэм «Храм Солнца», помнит, что отправившийся в путь повествователь, оказавшись уже «за триста миль» от России [14. С. 173]1, на самом подходе к Стамбулу, наблю- 1 Непростая судьба текста травелога, нестабильность сообщенного ему автором заглавия (то «Тень Птицы», то «Храм Солнца») заставили среди всех прочих печатных версий предпочесть вариант издательства «Петрополис» 1936 г. Об истории публикации «путевых поэм» см.: [15]. 246 Имагология / Imagology дает странное присутствие совершенно «русских» деталей на борту парохода, порвавшего, казалось бы, уже «всякую связь с землею» [14. С. 172]. Наставленные друг на друга клетки с «мирно переговаривающимися курами», виднеющиеся из трюма «крупы лошадей и дымчатых быков», «по-деревенски» пахнущие «стойлом, прелым сеном» [14. С. 174], то ли будят личные воспоминания о русской деревне, то ли предвосхищают будущий художественный опыт повести «Деревня» (1910), а кроме того, дополняются рядом характерных ландшафтных указателей: «Тяжелая корма дрожит, плавно отделяясь от пристани и выбивая из-под себя клубы кипени, чайки жалобно визжат и дерутся над красной рачьей скорлупой в радужных кухонных помоях» [14. С. 172]. Вылитые из судового камбуза в море помои и кружащие над ними чайки образуют словно след от движущегося корабля, индицирующий как его направление вперед (пароход оставляет чаек позади), так и возможное движение вспять. Это же ощущение «следа» и «хвоста» передается в описании линии, оставленной гребными винтами на воде, а также полосы дыма, извергнутого трубой из машинного отделения: «... огромной дугой выгнулись широкий клубящийся след винта и черный хвост дыма над ним.» [14. С. 173]. Самим автором контекст этих характеристик сконфигурирован так, что «след» и «хвост» становятся слагаемыми обобщающего метафорического языка, согласно «грамматике» которого действительно «нет в мире разных душ», все и все многообразно и взаимно соединено. Другим, на сей раз - сугубо лирическим, примером такой поэтики является стихотворение, имевшее при первопубликации 1915 г. подчеркнуто «восточный» заголовок: «В Аравийском море» (к этому произведению нам предстоит вернуться еще раз - см. ниже). Мусульманин, наблюдаемый лирическим героем, плывущим вместе с ним на корабле, безостановочно читает «суры вслух» и неподвижно взирает «на белый парус». Однако этот типичный самоуглубленный правоверный неожиданно подается читателю в перспективе «русских» реалий: Лик прекрасный и бескровный, Смоляная борода, Взор архангельский, церковный, Вязь тюрбана в три ряда [12. Т. 2. С. 244]. 247 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева По первым трем стихам, выделенным мною курсивом, можно подумать, что речь идет о святом с православной иконы, а не об арабском, судя по всему, купце-путешественнике. Следовательно, если вернуться к началу очерка «Тень птицы», высказанная в нем столь, казалось бы, бескомпромиссно мысль о порывании связи «с землею» («своей землею», - позволительно додумать за автора) оказывается на поверку не такой уж однозначной: эта связь, если и разорвана на фактографическом уровне действительности, сохранена, однако, в сознании повествователя, словно эластически в нем растянута и в силу этого особенно сильно напряжена. * * * Подобное состояние памяти со всей неизбежностью активизирует элегическую модальность организации текста, суть которой - в двойственном чувстве одновременно и безвозвратной потери, и остро, здесь и сейчас переживаемой сопричастности. Можно сказать, что с точки зрения поэтики бунинский случай представляет собой элегиза-цию многообразно высказанных Толстым суждений об отношениях индивидуума с тем, что романист и мыслитель называл Все. «Я, - записывал Толстой 20 декабря 1900 г., - есмь частица Непостижимого для меня Всего, устанавливающая все большую и большую связь со Всем (курсив Л.Н. Толстого. - К.А.)» [16. Т. 54. С. 75]. Предел соединения со Всем, по Толстому, - смерть. «Странно! Я недавно стал это живо чувствовать - то, что когда я умру, то я нисколько не умру, но буду жив во всем другом. Все, что будет, будет я» [16. Т. 50. С. 192], - отмечено много ранее, 11 декабря 1889 г. Но если, по Толстому, безостаточное растворение человека во Всем - та самая чаемая, спасительная цель, достижение которой пресекает (именно по причине этой чаемости) потенциальное элегическое осмысление процесса, так как невозможно жалеть о том, что желаемо, у Бунина, наследника элегической традиции Жуковского и Баратынского, в свою очередь возникшей на волне как общеромантической, так в значительной степени - национальной автономизации неповторимой личности , в точке соприкосновения индивидуума со Всем возникает острый эмоциональный контрапункт. Минувшее, то самое неподвижное, вне- 1 См. об этом: [17. С. 21 и сл.]. 248 Имагология / Imagology историческое толстовское Все1, ценно не только по причине неминуемого слияния с ним каждого, любого, меня, но также как едва ли не археологически понимаемый ресурс индивидуально-личных «следов» - некой необозримой суммы многих неповторимых Я, растворившихся в вечности. Именно об этом - и стихотворение «Могила в скале», и зарисовка из «Храма Солнца», посвященная древним строителям египетских пирамид, и понимание Востока как кладбища мировых цивилизаций («кругом погост», - сказано в стихотворении «За Дамаском»), но одновременно словно бы общего, «семейного» погоста, «могилы» которого глядятся в каждого живущего ныне. Перейдем к этим примерам. Стихотворение «Могила в скале» (1909), названное Т.М. Двинятиной «ключевым с точки зрения» «личной метафизики» Бунина [18. С. 246], демонстрирует соприкосновение лирического Я именно с частно-конкретным и потому словно «оживающим» слагаемым всепоглощающей вечности. Твердая форма сонета2 обогащена Буниным и элегической установкой на вчувствование в судьбу ушедшего, и балладными нарративностью и вещественной конкретикой: археологами «в Нубии, на Ниле» вскрыто нетронутое древнее погребение, в котором обнаружен вдавленный в пыль «живой и четкий след ступни». Оставленный пять тысячелетий назад, он выглядел так свежо и неповрежденно, что мог быть отпечатан на поверхности хоть вчера. Временные пласты соединяются в точку, остро переживаемую лирическим героем. Тот миг воскрес. И на пять тысяч лет, Умножил жизнь, мне данную судьбою [12. Т. 2. С. 72]. Частое у Бунина, на что обратили внимание О.Н. Владимиров и Т.М. Двинятина [18. С. 247; 19. С. 181], использование образа следа 1 Ср. точное определение этой неподвижности при помощи известного архетипа, в котором отождествлены старость с новорожденностью: «Самые лучшие люди - дети, свежие оттуда, и старцы, готовые туда» [16. Т. 54. С. 1]. Однако определение, предложенное мыслителем, как можно понять, исключительно прочувствованно, лично - безотносительно к тому, что в культурологическом отношении представляет собой, в общем, клише. 2 Анализ стихотворения в русле жанровой традиции сонета см.: [19]. 249 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева позволяет нам привлечь отнюдь не «восточное», а одно из «европейских» стихотворений - развивающих популярную в поэзии тех лет тему уничтоженных Везувием в 79 г. н.э. римских Помпей (ср.: «Помпеянку» Брюсова). Лирический субъект стихотворения «Помпея» (1916) знаково дистанцируется как от культурной составляющей знаменитой итальянской руины, так и от ее трагической судьбы. Я ль виноват, что все перезабыл: И где кто жил, и где какая фея В нагих стенах без крыши и стропил, Шла в хоровод, прозрачной тканью вея! [12. Т. 2. С. 165]. Определяющая все энергия памяти направляется на иное: Я помню только грубые следы, Протертые колесами в воротах, Туман долин, Везувий и сады [12. Т. 2. С. 165]. Вещественное, осязательно-достоверное присутствие былого -вот смысл образа следа, и от поэтической иносказательности до тра-велоговой документальности здесь буквально один шаг. Так, при обозрении пирамиды Хеопса повествователь «Храма Солнца» организует свой рассказ именно смыслами осязательности, т.е. личностного измерения трансвременного контакта. Действительно, если обдумывать некий дошедший из тьмы веков артефакт могут одновременно несколько разных субъектов, то прикосновенно ощущать рукой частицу его поверхности может в данную единицу времени только один человек - Я. Вот я стою и касаюсь камней, может быть, самых древних из тех, что вытесали люди! С тех пор как их клали в такое же знойное утро, как и нынче, тысячи раз изменялось лицо земли. Только через двадцать веков после этого утра родился Моисей. Через сорок - пришел на берега Тивериадского моря Иисус... Но исчезают века, тысячелетия, - и вот, братски соединяется моя рука с сизой рукой аравийского пленника, клавшего эти камни... [14. С. 230-231]. 250 Имагология / Imagology Идеологема «братства» здесь (с учетом будущего собственного рассказа «Братья») отсылает к Толстому. К элегии, ее образам руин и могил восходит сам хронотоп ближневосточного вояжа, а момент непосредственного соприкосновения с ушедшими, фиксация их материальных «следов» наводит эстетический мост к балладе с присущим ей шоковым эффектом от созерцания воочию («сизая рука») того, что, казалось бы, давно почило. * * * Непростые соотнесения бунинской поэтики Востока с таковой же поэтикой Гумилева особенно иллюстративны в точках мотивно-тематических совпадений обоих стихотворцев и путешественников. Так, например, почти одновременно в поле их лирического зрения оказался образ леопарда. Стихотворение Гумилева «Леопард» датировано 1921 г., «Пантера» Бунина (вольное переложение из Рильке [12. Т. 2. С. 465. Коммент.]) - 1922-м. Любые контакты между двумя этими текстами - как между произведениями непосредственно, так и с точки зрения источников - исключены. Если создатель «Храма Солнца» обратился к оригиналу Р.М. Рильке, то Гумилев многократно до этого пробовал свое перо на описаниях хищных тропических кошек, так что подчинялся своей собственной инерции обращений к теме (ср. стихотворение «Ягуар», зарисовка охоты на леопарда в «Африканской охоте»). Вспомним яркий тезис С.Н. Бройтмана о лирике как «образце “восточного” пути» в литературе. Примечательно в этой связи, что Бунин пишет текст именно «восточного» типа, в то время как Гумилев отчетливо стремится к условно «западной» модели разделенных и (по крайней мере декларативно) равноправных субъектов. Потому с точки зрения поэтики стихотворение лидера русского акмеизма тяготеет к наррации, явным прообразом которой здесь выступает баллада. Бунин же остается в пределах лирики как таковой, причем даже представленные весьма скромно в оригинале Рильке повествовательные мотивы, как, например, тот факт, что наблюдатель видит пантеру в клетке (об этом сигнализирует подзаголовок - зверь живет в парижском ботаническом саду; он мечется на глазах у зрителей за железной решеткой), русским поэтом опущены. Меж тем риторика оригинала как раз и строится на антитезе двух взглядов: плененной 251 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева кошки - на прутья клетки (несвобода); ее же - внутрь самой себя, куда словно проваливается привходящий образ (дикая животная свобода). «Здесь границей между ними (внешним и внутренним пространствами. - К.А.) оказывается уже именно и только зрачок: через него входит “какой-то образ”, доходит до сердца и исчезает в нём», - верно подмечает Т.М. Двинятина [20. С. 164]. В глазах рябит. Куда не повернуть их - Одни лишь прутья, тысяч прутьев ряд. Лишь временами занавес зрачковый Бесшумно поднимается. Тогда По жилам бьет струя стихии новой, Чтоб в сердце смолкнуть навсегда [21. С. 42]. (Перевод К.П. Богатырева) Это мы читаем у Рильке. Бунин сохраняет только одно направление взгляда - внутрь. Черна, как копь, где солнце, где алмаз. Брезгливый взгляд полузакрытых глаз Томится, пьян, мерцает то угрозой, То роковой и неотступной грезой. Вот в царственном презрении ложится И вновь в себя, в свой жаркий сон глядится. Сощуривши, глаза отводит прочь, Как бы слепит их этот сон и ночь, Где черных копей знойное горнило, Где жгучих солнц алмазная могила [12. Т. 2. С. 192]. Если ситуацию первого четверостишия еще можно понимать гадательно - как подразумеваемую встречу двух взглядов, самой лениво полузакрывшей глаза пантеры и взирающего на нее лирического субъекта, т.е. допускать какое-то ее смотрение вовне, то словосочетание «вновь в себя глядится», звучащее во вто-252 Имагология / Imagology ром катрене, говорит о том, что и первый взгляд был тоже инвертированным и таинственным самонаблюдением, а не рассматриванием посторонних внешних предметов. Так у Бунина - и совсем иначе у Гумилева. В балладном стихотворении «Леопард» читатель знакомится с обширной повествовательной предысторией события - охоты на пятнистого зверя: местными абиссинскими (эфиопскими) мифами о нем, обстановкой петербургской квартиры, куда удачливым охотником доставлена снятая с застреленного хищника шкура, воспоминаниями героя об Африке, ворожбой леопарда, являющегося человеку призраком, их типично балладным диалогом, грезами самого героя, последняя из которых, обещающая гибель, вновь переносит его на черный континент. Условием столь богатых нарративности и событийности делается заведомая разделенность двух субъектов: охотника и ожившего в его видении зверя. Причем к двум участникам сюжета, в соответствии с балладным правилом, добавлен бегло упомянутый третий персонаж: Люди входят и уходят, Позже всех уходит та, Для которой в жилах бродит Золотая темнота [1. Т. 4. С. 117]. Эта таинственная посетительница героя на самом деле важна - в ее образе отражаются признаки африканского зверя: «золотой» цвет его меха, «темнота» пятен, а также известная пигментная мутация леопардов - их полностью черная, «темная» разновидность в виде пантер (ср. стихотворения Рильке и Бунина). Разнообразная балладная нечисть или, как выразился в своей «Ольге» П. Катенин, «сволочь», тоже присутствует: Поздно. Мыши засвистели, Глухо крякнул домовой, И мурлычет у постели Леопард, убитый мной [1. Т. 4. С. 117]. 253 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева И хотя никакой истинной суверенности обоих героев, зверя и человека, здесь нет и не может быть, ибо леопард - лишь призрак, фантом сознания героя, да и сам герой, убивший хищника, теперь связан с ним таинственными узами («Брат мой, враг мой», - так обращается к нему ночной гость), все же общая картина, выступающая фоном этого соединения, гораздо богаче, пестрее, разнообразнее, нежели у Бунина. Присущий старшему поэту острый интерес к феномену животного (ср.: рассказ «Сны Чанга», миниатюра «Телячья головка» и многие другие), по-видимому, одинаковый, о каком бы представителе фауны речь ни шла - экзотической пантере или привычных птицах и зверях, окружавших простого русского человека, живущего в деревне или усадьбе, у Гумилева находится в паре с тяжким и неумолимым притяжением того африканского пространства, в отношении которого леопард одновременно и малая часть, и организующий все сверхобраз. О первой ипостаси зверя свидетельствует его вполне конкретный вопрос: Брат мой, враг мой, ревы слышишь, Запах чуешь, видишь дым? Для чего ж тогда ты дышишь Этим воздухом сырым? [1. Т. 4. С. 118], интересуется он, подразумевая скорое расставание героя с Петербургом и возвращение в Абиссинию. И действительно: спустя мгновение тот снова видит себя посреди саванны. Пальмы... С неба страшный пламень Жжет песчаный водоем... Данакиль припал за камень С пламенеющим копьем [1. Т. 4. С. 118]. Второе свойство образа неизмеримо сложнее, оно позволяет рассматривать вообще весь мир этого стихотворения, включая и судьбу героя, как бы в перспективе леопарда. Вспомним о таинственно «той», которая покинула поздним вечером квартиру человека. К ней обращена «золотая темнота» страстей героя, тяга, синестетически 254 Имагология / Imagology «окрашенная» в цвета этого тотемного для Гумилева животного. Дальнейший ход событий с начала диалога со зверем, а затем гибельного видения как бы воскрешает убитую некогда на охоте пятнистую кошку. Об этом говорит и «сдавившая» «затылок» «точно медная рука» (медный цвет близок желтому), и заливающий все пространство золотой свет горячего африканского солнца («страшный пламень жжет...» - соединение желтого с черным). И даже упоминание о водопое жирафов («у жирафьего колодца / Я окончу жизнь мою») как точке пресечения судьбы вновь напоминает о леопарде: раскраска шкур в остальном столь несхожих зверей почти одинакова. Недаром Бунин, описывая ранее в «Храме Солнца» каирский зоопарк, подмечает это свойство и именует шкуру жирафа «песочно-пантеров[ой]» [14. С. 233]. Разными путями поэты приходят к общему итогу. Гумилев нанизывает на нить «соответствий» Африку, леопарда, избранницу героя, подводя эти концентрически сужающиеся образы (Африка бескрайня; леопард лишен индивидуальности, он представляет всю фауну черного континента, леопардов - много; избранница может быть только одна) наконец к уникальному Я самого героя, который пасует перед брутальной энергетикой влекущего его мира (в этом смысле сюжет баллады представляет собой инверсию поэмы «Блудный сын»). При довольно сильной «маскировке» субъекта и сбросе всех сюжетных подробностей в бунинском стихотворении его автор достигает схожего впечатления: зверь словно размыкает грани своего образа, оказываясь соприродным и одновременно иноприродным двойником наблюдателя. * * * Существенной в предпринятом сопоставлении «Востоков» Бунина и Гумилева представляется проблема своего рода интерференции контекстов. Напомним, что в «чужое» создатель «Жизни Арсеньева» всегда словно инвестировал частицу «своего». В «Пантере» эта инвестиция настолько значима, что зверь предстает почти исключительно как явление авторской мысли о нем. В иных примерах, напротив, преобладает «чужое», наблюдаемое объективным взором радующегося новым мирам путника, который, как не раз отмечалось исследователями, с упоением перечисляет и воспроизводит их многообразие и пестроту. Однако и в этих грандиозных 255 Анисимов К.В. Ближний Восток И.А. Бунина и Африка Н.С. Гумилева полотнах им всякий раз «резервируется» своеобразное микропространство для актуализации неповторимого, в какой-то степени не-фикционального Я повествователя - вспомним здесь о «моей руке», соединяющейся «с сизой рукой аравийского пленника». Подход поэта-акмеиста опять-таки иной: с одной стороны, важно отметить случаи резкого сравнительно с Буниным понижения этого «присутствия», заставлявшего бунинского путешественника или поминать Россию открыто, или иносказательно намечать разные пути к ней (resp. «к самому себе»). Вспомним здесь сцену расставания с одесским портом в «Храме Солнца», «следы» и «хвосты», намечавшие направление назад, присутствие на корабле разных примет русской деревни, воспоминания повествователя о России. Без труда можно догадаться, что ничего подобного аналогичная сцена отплытия из Одессы у Гумилева не содержит. Какие-нибудь две недели тому назад бушующее и опасное, Черное море было спокойно, как озеро. Волны мягко раздавались под напором парохода, где рылся, пульсируя, как сердце работающего человека, невидимый винт, не было видно пены, и только убегала бледно-зеленая малахитовая полоса потревоженной воды. Дельфины дружными стаями мчались за пароходом, то обгоняя его, то отставая, и по временам, как бы в безудержном припадке веселья, подскакивали, показывая лоснящиеся мокрые спины. Наступила ночь, первая на море, священная. Горели давно не виденные звезды, вода бурлила слышнее. Неужели есть люди, которые никогда не видели моря? [1. Т. 6. С. 72]. В гумилевском описании след, оставляемый пароходом с нарочито русским именем «Тамбов», «убегает» словно в никуда, а спутниками судна оказываются не чайки, птицы, лишь условно именуемые «морскими», но на самом деле - обитатели земли (их в первую очередь подмечает Бунин), а самые настоящие хозяева Черного моря -дельфины. Характерного для поэтики старшего писателя эластического «растягивания» памяти о знакомом и близком подход создателя русского акмеизма явно лишен. Один эпизод «Африканского дневника» способен как будто напомнить о бунинском арабе (стихотворение «В Аравийском мо-256 Имагология / Imagology ре»), показавшемся старшему поэту похожим на святого с русской иконы. Речь идет о наблюдении, сделанном Гумилевым на пути в Харрар. «Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зеленая трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор» [1. Т. 6. С. 87]. «Чужое» обнаруживает несомненный след «своего». Однако при ближайшем рассмотрении похожие, казалось бы, мысли обоих авторов обнаружат немалое различие. Так, Е.Ю. Куликова точно заметила: с этим пассажем травелога перекликается стихотворение «Судан», где тема рая развернута подробнее. «В стихотворении “Судан” африканские равнины напоминают райские места, но вовсе не заимствованные из стилизаций под лубок, а выглядящие как некое первозданное идиллическое пространство - перифраз Библейских или мифологических сказаний» [22. С. 540]. То есть приоритет здесь - и в стихотворении, и, вероятнее всего, в травелоге, - за раем, а лубок пришел художнику на ум из-за своей насыщенной, нарочитой красочности. Иными словами, русский лубок - вспомогательная часть вполне рационального сравнения. Согласно этому же правилу выстроены и иные аналогичные (впрочем, крайне редкие) образы. Ср., например: «Дворец дедьязмача - большой двухэтажный деревянный дом с крашеной верандой, выходящей во внутренний, довольно грязный , дом напоминал не очень хорошую дачу где-нибудь в Парголове или Териоках» [1. Т. 6. С. 93]. При всем сходстве установок обоих поэтов и путешественников на опознание «своего» в «чужом» бунинское стихотворение «В Аравийском море» реализует тему с помощью решительно иного приема. Обратим внимание на то, что иконография, т.е. референциальная для всех нижеследующих предикатов смысловая основа «архангельского» «взора», «бескровного» «лика», «смоляной бороды» героя стихотворения, полностью умолчана, а читатель обязан лишь среагировать на знакомое - сами эти «церковные» признаки во внешности араба. Бунин прибегает не к рациональному сравнению, а к сложной, требующей дешифровки метафоре, которая «частями», парадоксально напоминая метони
Гумилев Н.С. Полное собрание сочинений : в 10 т. М. : Воскресенье, 19982007.
Бунин И.А. Собрание сочинений : в 6 т. М. : Худож. лит., 1987-1988.
Лотман Ю.М. Два устных рассказа Бунина (К проблеме «Бунин и Достоевский») // Лотман Ю.М. О русской литературе. СПб. : «Искусство-СПб», 1997. С. 730-742.
Адамович. Г.В. Бунин. Воспоминания // Знамя. 1988. Кн. 4. С. 178-191.
Тюпа В.И. Постсимволизм. Теоретические очерки русской поэзии XX века. Самара : Сенсоры, модули, системы, 1998. 115 с.
Десятов В. Российское утопическое жизнетворчество и мессианизм. Случай Николая Гумилева // Lebenskunst - Kunstleben. Жизнетворчество в русской культуре ХѴШ-XX вв. / Hrsg. S. Schahadat. Munchen : Verlag Otto Sagner, 1998. С. 169-182.
Шатин Ю.В. Африка Андрея Белого и Николая Гумилева: лики травелога // Русский травелог XVIII-XX веков / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2015. С. 378-392.
Двинятина Т.М. Поэзия И.А. Бунина и акмеизм: Сопоставительный анализ поэтических систем : дис.. канд. филол. наук. СПб., 1999. 187 с.
Двинятина Т.М. Иван Бунин: Жизнь и поэзия // Бунин И.А. Стихотворения : в 2 т. / вступ. ст., сост., подг. текста, примеч. Т.М. Двинятиной. СПб. : Изд-во Пушкинского Дома ; Вита Нова, 2014. Т. 1. С. 5-91. (Новая библиотека поэта).
Давидсон А. Муза странствий Николая Гумилева. М. : Наука, 1992. 319 с.
Бройтман С.Н. Лирика в историческом освещении // Теория литературы. Т. III. Роды и жанры (основные проблемы в историческом освещении). М. : ИМЛИ РАН, 2003. С. 421-466.
Бунин И.А. Стихотворения : в 2 т. / вступ. ст., сост., подг. текста, примеч. Т.М. Двинятиной. СПб. : Изд-во Пушкинского Дома ; Вита Нова, 2014. (Новая библиотека поэта).
Бройтман С.Н., Магомедова Д.М. Иван Бунин // Русская литература рубежа веков (1890 - начало 1920-х годов). Кн. 1. М. : ИМЛИ РАН ; Наследие, 2001. С. 540-585.
Бунин И.А. Храм Солнца // Собрание сочинений : в 11 т. Берлин : Петрополис, 1936. Т. 1. С. 169-308.
Пономарев Е.Р. «Храм Солнца» или «Тень птицы»? Поэтика «путевых поэм» И. А. Бунина // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 69. С. 298-320.
Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. М. : ГИХЛ, 1935-1958.
Гинзбург Л.Я. О лирике. 2-е изд., доп. Л. : Советский писатель, 1974. 408 с.
Двинятина Т.М. Поэзия И.А. Бунина. Эволюция. Поэтика. Текстология : дис.. д-ра филол. наук. СПб., 2015. 441 с.
Владимиров О.Н. Проблематика и жанрово-стилевое своеобразие сонета И. Бунина «Могила в скале» // Проблемы метода и жанра. Томск : Изд-во ТГУ, 1991. Вып. 17. С. 172-182.
Двинятина Т.М. Der Panther Р.-М. Рильке и «Пантера» И.А. Бунина: типология и преемственность // Вестник Омского университета. 2014. № 3. С. 161-165.
Рильке Р.М. Новые стихотворения. Вторая часть / изд. подг. К.П. Богатырев, Г.И. Ратгауз, Н.И. Балашов. М. : Наука, 1977. 543 с.
Куликова Е.Ю. История. Проза. Поэзия? (Заметки об «Африканском дневнике» Николая Гумилева) // Универсалии русской литературы. Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2012. Вып. 4. С. 525-542.
Бальмонт К.Д. Собрание сочинений : в 7 т. М. : Книжный клуб «Книговек», 2010.
Кобринский А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб. : Вита Нова, 2007. 448 с.
Зобнин Ю. Николай Гумилев. М. : Вече, 2013. 480 с.
Древс-Сылла Г. «Тоска по мировой культуре» и “Civilisation de l’Universel”: поэтическое конструирование Африки и мировая культура в акмеизме и негритюде. Ч. 1 // Имагология и компаративистика. 2018. № 9. С. 80-110.
Куликова Е. Ю. Пространство и его динамический аспект в лирике акмеистов. Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2011. 530 с.
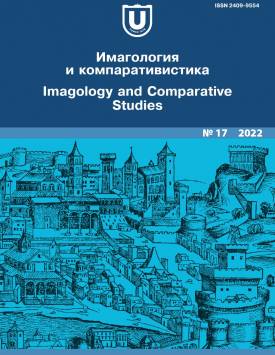

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью