Сон разума: экзистенциальные мотивы в рассказе В.М. Шукшина «Думы»
В статье доказывается, что ощущение тотальной смыслоутраты, характерное для шукшинских героев конца 1960-х - начала 1970-х гг., сродни экзистенциалистскому переживанию абсурдности бытия. Показано, что радикальная перемена мировосприятия главного героя рассказа «Думы», всю жизнь следовавшего социальным ритуалам, начинается с обнаружения в привычном странного. Ночные думы Матвея Рязанцева о любви и смерти вписаны в контекст философии Ницше и Камю, а также соотносятся с концепцией остранения Шкловского.
Sleep of Reason: Existential Motifs in Vasily Shukshin’s Story “Thoughts”.pdf Шукшина неприятно удивило, что его первый полнометражный фильм «Живет такой парень» многие сочли комедией. В «Послесловии к фильму» (1964) он посетовал: «Я в полном недоумении, ибо выяснилось, что мы сняли комедию» [1. Т. 8. С. 10]. А в набросках статьи о фильме «Живет такой парень» Шукшин выделил самый, наверное, острый для него вопрос: «Меня раздражает и злит, когда говорят, что герой мой - не интеллектуальный, слишком прост. Мне кажется, что это не так» [1. Т. 9. С. 24]. Восприятие фильма «Живет такой парень» как комедийного и в самом деле выдавало (и до сих пор выдает) полное непонимание авторского замысла. Шукшин, конечно, снимал серьезный фильм. Один из главных героев картины Кондрат Степанович не зря признается в разговоре с Пашкой Колокольниковым: «Думать шибко люблю». «Я тоже думать люблю», - подхватит Пашка [1. Т. 1. С. 296]. Шукшинские персонажи действительно имеют склонность размышлять над проблемами, которые иначе как философскими не назовешь. Например, в фильме «Живет такой парень» герои не раз пускаются в рассуждения о смерти, о любви, о смысле жизни. Колхозный сторож вроде бы немотивированно загадывает Пашке загадку про покойника, а старуха-хозяйка рассказывает целую сказку-притчу про смерть, которая перед войной «по земле ходила - саван себе искала» [1. Т. 1. С. 294]. Впрочем, Настя Платонова, явившись к Пашке во сне, предложит иную интерпретацию этого сюжета: - Так вот, ты не верь: это не смерть была, это любовь по земле ходит. - Как это? - Любовь. Ходит по земле. - А чего она ходит? - Чтобы люди знали ее, чтоб не забывали [1. Т. 1. С. 309]. Так, уже в раннем творчестве Шукшина обозначились два полюса - любовь и смерть, определяющие тематику философских размышлений его героев. Несмотря на обилие в фильме танатологических мотивов и символов, философия пессимизма режиссером наглядно опровергается. Жизнеутверждающим пафосом проникнута и финальная фраза фильма: «Значит, будем жить!» [1. Т. 1. С. 310]. 318 Имагология / Imagology У зрелого Шукшина оптимизма поубавилось. Показательно, что любовь по шукшинскому миру ходить больше не будет, а вот персонифицированная смерть появится неоднократно. В рассказе «Заревой дождь» (1966) Кирька рисует тяжело больному Ефиму безрадостную перспективу встречи со смертью: «И опять же так подумал: вот живем мы, живем - вроде так и надо. О смертыньке-то и не думаем. А она - раз! - тут как тут. Здрасте, говорит, забыли про меня?» [1. Т. 3. С. 24]. Умирая, главный герой рассказа «Залетный» (1970) Саня трижды обзывает смерть «дурой», а Филя, нисколько не сомневаясь в антропоморфности Смерти, уговаривает его: «Сань... ты не обзывай ее, может, она. это. отступит. Не ругай ее» [1. Т. 5. С. 143]. Собственной персоной смерть является к старику Степану в финале рассказа «Как помирал старик» (1967): А погляди-ко в углу-то кто? Кто там? - Где, Степан? - Да вон!.. - Старик приподнялся на локте, каким-то жутким взглядом смотрел в угол избы - в передний. - Вон же она, - сказал он, -вон. Сидит-то?.. [1. Т. 3. С. 114]. Последний рассказ особенно примечателен, поскольку вместе с рассказами «Думы» и «В профиль и анфас» был опубликован в журнале «Новый мир» (1967, № 9) в составе микроцикла, который смело можно назвать экзистенциальным. На сходство «отчаянных размышлений шукшинских персонажей о смысле жизни и смерти» в этих произведениях с философией экзистенциализма указал в свое время американский исследователь творчества Шукшина Джон Гивенс [2. С. 17]. Ощущение тотальной смыслоутраты, характерное для шукшинских героев конца 1960-х - начала 1970-х гг., действительно сродни экзистенциалистскому переживанию абсурдности бытия. Хотя, безусловно, центральный рассказ цикла называется «Думы», шукшинские герои, раньше так любившие думать, теперь всякого философствования по возможности избегают. Лейтмотив цикла: «Ты гони от себя эти разные мысли»; «Не думай всякие думы»; «Чего думать про это?» и т.п. [1. Т. 3. С. 112, 114, 139]. Ночные воспоминания и размышления главного героя рассказа «Думы» Матвея Рязанцева провоцирует гармонь влюбленного Коль-319 Куляпин А.И. Сон разума: экзистенциальные мотивы в рассказе В.М. Шукшина ки Малашкина: «А гармонь у него какая-то особенная - орет. Не голосит - орет». Не ограничившись двукратным повтором, Шукшин и в третий раз подчеркивает: «гармонь еще в переулке начинала орать» [1. Т. 3. С. 136]. Есть еще одно не совсем обычное определение звуков, которые издает Колькина гармонь, - «звон». Матвей просыпается по ночам, как только гармонь начинает «звенеть в переулке». Видимо, поэтому он дважды называет Кольку «звонарем» [1. Т. 3. С. 136, 140]. Совсем не мелодичные звуки Колькиной гармони функционально сродни звону будильника или даже тревожному гулу набата с непременно сопровождающими его крикам. «Люди после трудового дня отдыхают, а ты их будишь звонарь!» - упрекает Кольку Матвей Рязанцев, и каждую ночь собирается исключить его из колхоза, но ограничивается неопределенными предупреждениями: «Я вот те покажу право!» [1. Т. 3. С. 136]. Нарушение Колькой общественного порядка очевидно, но Шукшин, как обычно, «сочувствует неправому. Он встает на сторону героя, который по всем человеческим (не говоря уже об административных) законам загодя кругом не прав» [3. С. 239]. Впрочем, административное правонарушение, допущенное Колькой, должно волновать читателя меньше всего, ведь в данном случае общественный порядок - это понятие, не имеющее никакого отношения к уголовнопроцессуальному кодексу. В манифесте формальной школы - статье «Искусство как прием» (1917) В.Б. Шкловский цитирует запись из дневника Льва Толстого от 29 февраля 1897 г.: «Я обтирал пыль в комнате и, обойдя кругом, подошел к дивану и не мог вспомнить, обтирал ли я его или нет. Так как движения эти привычны и бессознательны, я не мог и чувствовал, что это уже невозможно вспомнить. Так что, если я обтирал и забыл это, т. е. действовал бессознательно, то это все равно, как не было. Если бы кто сознательный видел, то можно было бы восстановить. Если же никто не видал или видел, но бессознательно; если целая сложная жизнь многих проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была». «Так пропадает, в ничто вменяясь, жизнь, - подхватывает Шкловский. - Автоматизация съедает вещи, платье, мебель, жену и страх войны». После чего еще раз повторяет ключевой тезис Толстого: «Если целая сложная жизнь многих проходит бессознательно, то эта жизнь как бы не была» [4. С. 63]. 320 Имагология / Imagology Колька Малашкин не просто нарушает общественный порядок, он ломает бессознательно-автоматический порядок существования односельчан. Матвей не может понять, почему «проклятая гармонь» оживляет в памяти события той ночи, когда умер его младший брат Кузьма, а не что-то иное: «Ведь потом была целая жизнь: женитьба, коллективизация, война. И мало ли еще каких ночей было-перебыло! Но все как-то стерлось, поблекло» [1. Т. 3. С. 138]. «Стерлось» потому, что вся жизнь Матвея прошла бессознательно, а значит, ее как бы и не было. Толстой не мог вспомнить, обтирал ли он пыль с дивана, настолько привычны были его движения, Матвей по той же причине не может вспомнить ничего из своей долгой и вроде бы богатой на события жизни: «О чем думалось? Да так как-то... ни о чем. Вспоминалась жизнь. Но ничего определенного, смутные обрывки» [1. Т. 3. С. 137]. Жизнь Матвея прошла в механическом следовании социальным ритуалам: «Всю жизнь Матвей делал то, что надо было делать: сказали, надо идти в колхоз - пошел, пришла пора жениться - женился, рожали с Аленой детей, они вырастали. Пришла война - пошел воевать. По ранению вернулся домой раньше других мужиков. Сказали: “Становись, Матвей, председателем. Больше некому”. Стал. И как-то втянулся в это дело, и к нему тоже привыкли, так до сих пор и тянет эту лямку. И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне тоже - работа. И все заботы, и радости, и горести связаны были с работой» [1. Т. 3. С. 138]. Шукшин, следуя (может быть, невольно) за Толстым и Шкловским, трижды на одной странице употребляет слово «привычка»: «.и к нему тоже привыкли»; «Не притворяются, а привычка, что ли, такая у людей»; «Ты любила меня или так. по привычке вышла?» [Там же. С. 138]. В упомянутой выше статье Шкловский писал: «. становясь привычными, действия делаются автоматическими. Так уходят, например, в среду бессознательно-автоматического все наши навыки» [4. С. 62]. Вся жизнь Матвея как раз и состоит из «бессознательно-автоматических навыков». В полном соответствии с тезисом Шкловского в рассказе Шукшина «автоматизация съедает страх войны, жену, мебель». Война для Матвея - это работа, ничем не отличающаяся от любой другой: «И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа. И на войне тоже - работа» [1. Т. 3. С. 138]. О любви к жене герой говорит только в прошедшем време-321 Куляпин А.И. Сон разума: экзистенциальные мотивы в рассказе В.М. Шукшина ни, да еще с добавление вводного слова «наверно», выдающего неуверенность: «...он сам, наверно, любил когда-то Алену» [1. Т. 3. С. 138]. Функции руководителя колхоза Матвей исполняет, находясь в интимном пространстве спальни, в председательское кресло превращается кровать: «Матвей садился в кровати, опускал ноги на прохладный пол и говорил: “Все: завтра исключу из колхоза”». Еще более абсурдна сцена, когда «сидя на кровати», Матвей угрожает жене: «Поймаю - штраф по десять рублей» [1. Т. 3. С. 136, 139]. В статье «Воскрешение слова» (1914) Шкловский ставит точный диагноз своим современникам: «.мы потеряли ощущение мира; мы подобны скрипачу, который перестал осязать смычок и струны, мы перестали быть художниками в обыденной жизни, мы не любим наших домов и наших платьев и легко расстаемся с жизнью, которую не ощущаем» [4. С. 40]. У героя Шукшина те же симптомы внутренней опустошенности: о смерти он думает «без страха, без боли» и совсем ее не страшится [1. Т. 3. С. 139]. Шкловский не только диагностирует болезнь, охватившую людей ХХ в., но и предлагает рецепт лечения: «И вот для того, чтобы вернуть ощущение жизни, почувствовать вещи, для того, чтобы делать камень каменным, существует то, что называется искусством. Целью искусства является дать ощущение вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием “остранения” вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий трудность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве самоцелен и должен быть продлен» [4. С. 63]. Область применения открытого Шкловским принципа «остранения» далеко выходит за рамки искусства - это не только литературный прием, но и средство «вернуть ощущение жизни». Радикальная перемена мировосприятия начинается с удивления, с обнаружения в привычном странного. Из накатанной жизненной колеи Матвея Рязанцева выбивает детское воспоминание. «. Только странно: почему же проклятая гармонь оживила в памяти именно эти события? Эту ночь?» - недоумевает герой [1. Т. 3. С. 138]. На самом деле, понять несложно: ночные думы Матвея обращены к двум экзистенциальным темам - любви и смерти. А той черной ночью, когда умер Кузьма, тринадцатилетний Мотька впервые столкнулся со смертью. Его реакция неординарна: «Матвей с удивлением и с каким-то 322 Имагология / Imagology странным любопытством смотрел на брата. Вчера еще возились с ним на сене, а теперь лежал незнакомый, иссиня-белый чужой мальчик» [1. Т. 3. С. 137]. Шкловский вполне мог бы включить в свою статью эту цитату как классический пример «остранения». По А. Камю, первые ступени абсурдной свободы - «пробуждение сознания, бегство от сновидений повседневности» [5. С. 55-56]. Катализатором этого процесса является страх. «Вот с этого-то времени и возник страх, а ему сопутствовали раздумья», - подмечает главный герой романа «Чума» [6. С. 111]. Раздумья пробудившегося от сновидений повседневности Матвея Рязанцева рождены не страхом, а удивлением: «А то вдруг про смерть подумается: что скоро - все. Без страха, без боли, но как-то удивительно: все будет так же, это понятно, а тебя отнесут на могилки и зароют» [1. Т. 3. С. 139]. В этом пункте Шукшин расходится с А. Камю и экзистенциалистами. Важнейшим смыслообразующим стержнем рассказы «Думы» становится мотив сенокоса. На покосе умирает Кузьма: «днем в самую жару потный напился воды из ключа, а ночью у него “завалило” горло», и он задохнулся [1. Т. 3. С. 137]. Второй раз тема покосов возникает в ночном разговоре Матвея с женой. Алена сообщает мужу, что «уговорилась с бабами до свету за ягодами идти» и успокаивает его: «Да не на покосы твои не пужайся» [1. Т. 3. С. 139]. В ответ Матвей угрожает штрафами за порчу травы. Но, как выясняется в дальнейшем, Матвей Рязанцев собирается штрафовать других за то, что сам трепетно хранит в душе: «Еще вспоминались какие-то утра... Идешь по траве босиком. Она вся бусая от росы. И только след остается - ядовито-зеленый. И роса обжигает ноги. Даже теперь зябко ногам, как вспомнишь» [1. Т. 3. С. 139]. Три сцены покоса моделируют три типа мироощущения. Бессмысленна надежда продолжить существование в памяти потомков. Жизнь человека подобна мимолетному следу на траве: «Ну, лет десять-пятнадцать будут еще помнить, что был такой Матвей Рязанцев, а потом - все» [1. Т. 3. С. 139]. Нелеп сугубо утилитарный подход абсолютно ко всему: «И всю жизнь была только на уме работа, работа, работа» [1. Т. 3. С. 138]. Матвей Рязанцев предстает в рассказе современным Сизифом с его абсурдным трудом. 323 Куляпин А.И. Сон разума: экзистенциальные мотивы в рассказе В.М. Шукшина И лишь «дикий восторг» памятной ночи способен оправдать абсурд и трагедию человеческого существования: «Но как вспомнится опять та черная оглушительная ночь, когда он летел на коне, так сердце и сожмет - тревожно и сладко. Нет, что-то есть в жизни, чего-то ужасно жалко. До слез жалко» [1. Т. 3. С. 140]. По сути, тринадцатилетний Мотька достигает ницшевского «дионисийского идеала» - он от «переизбытка жизни, страдания и радости» переживает «... восторженность дионисического состояния, с его уничтожением обычных пределов и границ существования» [7. С. 82, 138]. Слились воедино конь и человек и летели в черную ночь. И ночь летела навстречу им, густо била в лицо тяжким запахом трав, отсыревших под росой. Какой-то дикий восторг обуял парнишку; кровь ударила в голову и гудела. Это было как полет - как будто оторвался он от земли и полетел. И ничего вокруг не видно: ни земли, ни неба, даже головы конской - только шум в ушах, только ночной огромный мир стронулся и понесся навстречу. О том, что там братишке плохо, совсем не думал тогда. И ни о чем не думал. Ликовала душа, каждая жилка играла в теле. Какой-то такой желанный, редкий миг непосильной радости [1. Т. 3. С. 137]. В художественном мире А. Камю «человеку дано пережить экстаз, ликующее слияние со стихийным бытием» [8. С. 6]. Герою Шукшина такое удается лишь единожды, причем в далеком детстве. Не дождавшись в одну из ночей Колькиной гармошки, Матвей впадает в уныние, возвращается в скучную обыденность: «Тоскливо сделалось Матвею. Он лег, хотел заснуть и не мог. Так до самого рассвета лежал, хлопал глазами. Хотел еще чего-нибудь вспомнить из своей жизни, но как-то совсем ничего не приходило в голову. Опять навалились колхозные заботы.» [1. Т. 3. С. 137]. Такой итог предвидеть несложно. Не случайно лейтмотивом рассказа о ночных думах становится призыв «спи», повторяющийся в тексте пять раз. Более того, «звонарь» Колька Малашкин, всколыхнувший у Матвея «желанную душевную хворь», сам всего лишь бездушный автомат. Он «заводится» [1. Т. 3. С. 136], механически следует одним и тем же маршрутом, повторяет одни и те же заученные слова. Любовь 324 Имагология / Imagology Кольки Матвей Рязанцев описывает, используя зооморфные понятия: он - «бычок», которого Нинка - «телка гладкая», «возьмет теперь за рога» [1. Т. 3. С. 139-140]. Женитьба для Кольки, по его собственным словам, не начало новой жизни, а остановка, конец пути: «Все, Матвей Иваныч, больше не буду будить вас по ночам. Копец. Бросил якорь» [1. Т. 3. С. 140]. Если в фильме «Живет такой парень» смерть перевоплощается в любовь, то в рассказе «Думы» все наоборот, любовь оборачивается смертью. Алена на вопрос мужа, страшится ли она смерти, отвечает: «Кто ее не страшится, косую?» [1. Т. 3. С. 139]. И смерть тут же персонифицируется, как это неоднократно происходило в произведениях Шукшина, на этот раз в образе «косого Фили-кузнеца». Про Филю Матвей вспоминает в связи с сенокосом, нередко ассоциирующимся в рассказах Шукшина с темой смерти: «Косить скоро, а половина косилок у кузницы стоит с задранными оглоблями. А этот черт косой Филя-кузнец, гуляет. Теперь еще на свадьбу зальется, считай, неделя улетела» [1. Т. 3. С. 140]. Знаменательно, что полного имени Фили в рассказе нет. Он может быть и Памфилом, и Филаретом, и Филимоном, и, что более вероятно, Филиппом. От этих полных имен остается только та составляющая, которая происходит от греческого «phileo» - любить. На свадьбе Кольки Малашкина гулять будет «любовь-смерть». Концовка рассказа «Думы» поразительно точно воспроизводит концовку рассказа «Светлые души», написанного в 1959 г. и опубликованного в 1961-м. Герой этого еще ученического опыта Шукшина Михайло Беспалов весь в колхозных заботах не может заснуть, среди ночи отправляется в сени, чтобы выпить квасу, и, распахнув двери, останавливается на пороге: Стояла удивительная ночь - огромная, светлая, тихая... По небу кое-где плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка. Вдыхая всей грудью вольный, настоянный на запахе полыни воздух, Михайло сказал негромко: - Ты гляди, что делается!.. Ночь-то!.. [1. Т. 1. С. 76]. Эта сцена в рассказе «Думы» воссоздана практически детально: «Матвей плохо спал. Просыпался, курил. Ходил в сени пить квас. Выходил на крыльцо, садился на приступку и курил. Светло было в 325 Куляпин А.И. Сон разума: экзистенциальные мотивы в рассказе В.М. Шукшина деревне. И ужасающе тихо» [1. Т. 3. С. 140]. Однако от оптимистического пафоса конца 1950-х - начала 1960-х гг. не остается ничего. Финальная «ужасающая тишина» - это тишина смерти. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 34
Ключевые слова
В.М. Шукшин, мотив, символ, экзистенциализм, абсурдАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Куляпин Александр Иванович | Алтайский государственный педагогический университет | д-р филол. наук, профессор кафедры литературы | iskander58@mail.ru |
Ссылки
Шукшин В.М. Собрание сочинений : в 9 т. Барнаул : Издательский Дом «Барнаул», 2014.
Гивенс Дж. Особенности реализации экзистенциалистских идей в прозе В.М. Шукшина // В.М. Шукшин - философ, историк, художник. Барнаул : АГУ, 1992. С. 11-36.
Аннинский Л. Тридцатые - семидесятые. Литературно-критические статьи. М. : Современник, 1977. 269 с.
Шкловский В.Б. Гамбургский счет: Статьи - воспоминания - эссе (19141933). М. : Сов. писатель, 1990. 544 с.
Камю А. Миф о Сизифе // Камю А. Бунтующий человек. Философия. Политика. Искусство. М. : Политиздат, 1990. С. 23-92.
Камю А. Чума // Камю А. Посторонний. Чума. Падение. Миф о Сизифе. Пьесы. Из «Записных книжек». М. : АсТ, 2003. С. 93-324.
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Сочинения : в 2 т. М. : Мысль, 1990. Т. 1. С. 47-157.
Зенкин С.Н. Человек в осаде. О писательском творчестве Жан-Поля Сартра // Сартр Ж.-П. Стена: Избранные произведения. М. : Политиздат, 1992. С. 3-14.
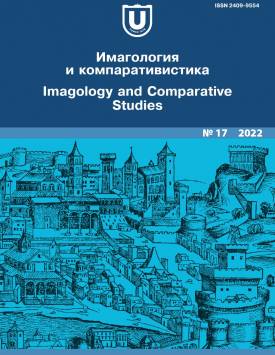
Сон разума: экзистенциальные мотивы в рассказе В.М. Шукшина «Думы» | Имагология и компаративистика. 2022. № 17. DOI: 10.17223/24099554/17/15
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 889

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью