«Клуб радости и удачи» Эми Тан: переосмысление имиджа Китая в сино-американском дискурсе
Статья посвящена имиджу Китая как дискурсивному художественному образу, имплицитно присутствующему во всех романах сино-американской писательницы Эми Тан и выступающему как иное Свое в силовом поле американской культуры. Прояснение семантики и поэтики гетеро- и автообразов китайскости, сино-американскости, американскости в романах писательницы дает возможность целостного понимания ее художественной концепции в репрезентации подвижной сущности сино-американской национально-культурной идентичности.
Amy Tan’s The Joy Luck Club: Reconsidering the Image of China within Chinese American Discourse.pdf Исследование творчества сино-американских писателей, таких как Эми Тан (р. 1952, англ. Amy Tan, кит. представляет осо бый интерес для компаративного имагологического исследования. Писательница уже фактом своего происхождения, воспитания и образования пребывает одновременно и в американской, и в китайской культуре, пересекая границы Своего и Чужого, выходя за рамки этой дихотомии. Анализ сино-американской литературы в аспекте проблематики имагологических студий представляется важным для осмысления феноменов «китайскости» и «американскости» как составляющих сино-американской культурной идентичности. Проблематика идентичности определяет магистральную линию сино-американского критического дискурса ХХ - начала ХХІ в. Однако исключительная сосредоточенность исследований на этническом, социологическом, а не художественно-эстетическом аспекте в изучении такой литературы неоднократно подвергалась критике и требует переосмысления. Художественная бифокальность «китайского текста», созданного на английском языке писательницей Эми Тан, интертекстуальная, гипертекстуальная, паратекстуальная соотнесенность её прозы с китайской классикой, американской и европейской литературами дает все основания для компаративного анализа разных культурных явлений, заложенных в самом тексте. В творчестве писателей-иммигрантов, а также их потомков западная литература и культура являются Своей средой, питающей их художественное творчество, а проблема Иной «культурной принадлежности», связь со своими восточными корнями - важная составляющая их художественных по-330 Имагология / Imagology исков. Анализ произведений Э. Тан свидетельствует, что «китай-скость» в бицентричной модели сино-американскости выступает новой ценностной категорией, изучение которой не сводимо ни к ориентально-экзотическим, ни к этноимиджевым стереотипам. Уже в центре первого романа писательницы, «Клуб радости и удачи» («The Joy Luck Club», 1989), имидж Китая - это не антимодель Америки, а Иное, но тоже Свое. Предметом художественного освоения являются не столько новые грани и варианты китайского и сино-американского мировоззрения, сколько их взаимоотражение в образах друг друга. Литературный имидж страны - это образ, созданный автором. Литературная имагология, анализируя образы-имиджи, соотносит их семантику с тем, как они репрезентированы художником. В данной статье предпринята попытка расширить исследовательское поле литературной имагологии, направляя анализ не только на то, что репрезентируется, но и на то, как художественно это выстроено, какие дополнительные художественные смыслы рождаются в процессе художественной текстуализации культурного факта. Проблема изучения имагологических аспектов творчества писателя с корнями в другой культуре не может быть сведена к инвентаризации этнообразов как отправной точке критико-аналитических построений, не опирающихся на филологический анализ единиц художественного целого. Важно помнить, что писатель, принадлежащий двум культурам одновременно, выстраивает свою художественную позицию эстетической «вненаходимости», одновременно оставаясь внутри каждой культуры. О создании образа Китая как задании художника заявляет Э. Тан, называя такой подход «fictive», «imaginary», подчеркивая не столько отдаленность от реального Китая, сколько принцип самого искусства, которое не снимок и не слепок, а, по словам М.М. Бахтина, то, что позволяет художнику возвыситься над реальностью: «Эстетическая деятельность собирает рассеянный в смыслах мир и сгущает его в законченный и самодовлеющий образ» [1. С. 163]. Это наблюдение М. М. Бахтина можно отнести и ко всем смыслам, рассеянным в дискурсе о Китае и Востоке. В отличие от этнообразов, образ-имидж Китая у Э. Тан в рамках одного произведения отмечен сложностью и многозначностью. Ху-331 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан дожественный образ-имидж - не прозрачное стекло, через которое можно увидеть факт, это не иллюстрация Китая или китайского национального характера. Писатель не дает готовое знание о стране/характере, а выстраивает художественную интерпретацию этого факта. Изучение имагологической проблематики творчества Э. Тан включает следующие аспекты: как рождается художественный образ в отталкивании от стереотипа, влияние которого усиливается; где граница между художественным образом и этноимиджем; как связана репрезентация сино-американской национально-культурной идентичности с бикультурностью автора произведения. «Клуб радости и удачи» - первый роман Э. Тан, созданный на пике популярности «китайской волны» в американской литературе, тематизации наследия китайской культуры, начатого сино-американскими писательницами Э.М. Итон, Дж.С. Вонг и М.Х. Кингстон. После него Э. Тан были написаны сложные по стилистике и семантике романы, в которых продолжает разрабатываться проблема сино-американской идентичности. Этот роман остается наиболее ярким и спорным произведением Э. Тан. Его изучению посвящены специальные исследования, составившие два тома авторитетной серии «Bloom’s Modern Critical Views» (2009) [2; 3]. В исследованиях истории сино- и азиато-американской литературы (Л. Лоув [4], Ш.Л. Лим [5], Р.С. Эванс [6]) роману «Клуб радости и удачи» неизменно отводится знаковая роль одного из произведений, положивших начало «новой» азиато-американской литературы. Роман Э. Тан «Клуб радости и удачи» попадает в поле зрения и российской науки. Это исследования Е.М. Бутениной [7; 8], Е.М. Караваевой [9], С.Г. Коровиной [10; 11], Т.А. Лупачевой [12], сосредоточенные на проблемах гибридности, межкультурного фронтира, ориентализма, репрезентации китайскости в английском тексте. Среди множества исследований первого романа Э. Тан практически нет работ, посвященных имагологическим аспектам, -литературно-имагологическая проблематика заменяется вопросами этничности и гендерности. Поэтому важным представляется сдвиг интереса от устоявшихся подходов исследований гибридных литератур к анализу литературного материала, при этом на первом плане - морально-этические, эстетические характеристики с точки 332 Имагология / Imagology зрения преломления в судьбе героев романа общечеловеческой проблематики. Об этом пишет и Г. Блум, анализируя культовый роман Э. Тан как «universal narrative» [13. P. 4]. В своем первом романе Э. Тан создает разные варианты микрокосма сино-американской семьи - прием, который дает писателю возможность раскрыть в деталях динамику осмысления разными поколениями иммигрантов своей национально-культурной и личностной принадлежности. Композиционно и семантически роман выстроен симметрично: четыре части разделены на четыре главы. Первая и четвертая образуют рамочную семантическую конструкцию - это рассказы матерей, вторая и третья - рассказы их дочерей. Единство роману придает внутренний сюжет, в основе которого - драматическое переживание китайскими матерями распада своей этнотрадиции и болезненное понимание дочерьми своего духовного разрыва с ними. Перед названием каждой главы романа указано имя её «автора» -повествователя. Главы первой части «Перышки из-за тридевяти ли»: «Цзинмэй У: Клуб радости и удачи»; «Аньмэй Сю: Шрам»; «Линьдо Чжун: Красная свеча», «Ин-ин Сент-Клэр: Госпожа Луна». Создается впечатление, что перед читателем - сборник рассказов, написанных разными писателями. Это «квази-авторство» героев-повествователей -художественный прием мистификации, свойственный постмодернистской литературе, который Э. Тан использует для того, чтобы создать иллюзию автобиографической правдивости истории китайского иммигранта - жанра, востребованного в период второй волны иммиграции (Л. Чу «Вкуси чашку чая», Дж. С. Вонг «Пятая китайская дочь», М.Х. Кингстон «Воительница»). Сложная структура повествования, которое ведется по очереди от лица каждой из матерей и дочерей, а «право голоса» передается как будто в произвольном порядке, создает объемность и многоплановость художественного мира романа. Разные голоса повествования создают полифонию смыслов, далекую от однозначности. Так, центральная тема взаимоотношения матерей и дочерей приобретает не национально-этническое, а общечеловеческое измерение. Китайские персонажи романа заметно отличаются от известных «этнических», «гибридных» стереотипов. Каждая из четырех историй, рассказанных в романе, - это семейная сага со своим конфликтом и выбором, на который наталкивают рассказы матерей. 333 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан В основе поэтики и семантики сино-американского дискурса первого романа Э. Тан главные вопросы: что значит быть китайцем за пределами Китая в Америке; как передается и как ощущает-ся/осмысляется китайскость поколениями китайцев, рожденными в Америке. В романе показано, что важнейшим каналом такой трансляции китайскости является живая литература «talk-stories» матерей - хранителей корневой культуры сино-американцев. Исследователи Тан эту форму ретранслированной китайской культуры называют «mediated chineseness» [14. P. 166]. Э. Тан разрабатывает уникальные по точности и индивидуа-лизции речевые ситуации, которые раскрывают духовную, а не декоративно экзотизированную китайскость. Так, Роуз не перестает удивляться пронзительной наблюдательности своей китайской матери, тому, как остро она ощущает новый для нее американский мир: «какие слова она подбирает, какой смысл вкладывает в них!», «...[её] слова значили намного больше. Их, наверное, не так легко перевести, поскольку они обозначают особое восприятие, свойственное только китайцам» (здесь и далее перевод мой. - Т.В.) [15. P. 188]. Это относится, прежде всего, к особенностям ее «языкового» освоения американской культуры через сопоставление со своим китайским опытом. Поэтому упреки некоторых критиков в незнании писателем китайских языковых тонкостей выглядят упрощением сложности искусства Э. Тан. Цель писателя - не воспроизведение и экзотизация точности речевых «китаизмов», а целостная дестереотипизация имаготипа первого поколения китайских иммигрантов как вечно Чужого для американской культуры. В отличие от исследователей творчества Э. Тан, которые подходят эссенциалист-ски к изучению китайской составляющей её сино-американского дискурса, Г. Блум видит в такой этничности лингвистически выстроенную репрезентацию [2. P. 15]. Важной лингвистической особенностью языкового портрета героев в «Клубе радости и удачи» является разработка писателем нового принципа передачи китайских слов. Писатель не использует стандартизированную систему романизации китайского языка, пи-ньинь, а передает само звучание иероглифов на английском языке при помощи транскрипции для создания наиболее точной картины речи ее героинь. К примеру, китайское слово (chabuduo, чхабу-334 Имагология / Imagology дуо, «почти»; «почти одно и то же») передается «фонетическим» пи-ньином «chabudwo». Понятно, что перевод без знания китайского языка (а именно этим отличаются переводы романа на русский и украинский языки) неизбежно связан с утратой этой звукоречевой аутентичности образов китайскости. Однако имагологическая концепция Эми Тан не сводится к репрезентации контаминированной речи матерей, а направлена на все культурно-релевантные языковые проводники культуры, включая особые тонкости восприятия и трактовки нового для них американского мира изнутри своей китайской культурной традиции. «Перевод» (здесь в широком семиотическом смысле) фиксирует напряженные духовные усилия в освоении и обживании Чужой культуры. Важно подчеркнуть, что в романе эта дестереотипизация имаготипа китайских иммигрантов, рожденных в Китае, идет от «Другого, но тоже Своего» - дочерей, рожденных в Америке. Так, в отталкивании от лингвокультурологического стереотипа в романе представлено рождение национально-культурного образа сино-американца, для которого перевод-освоение Чужой культуры является не только условием выживания, но и духовной потребностью. Роман открывается историей Цзинмэй У, которая сообщает о смерти своей матери. Медицинское заключение «кровоизлияние в мозг» противопоставлено умозаключению отца Цзинмэй: «у неё в голове возникла новая мысль, но, не успев выйти из её рта, эта мысль раздулась и лопнула. Видимо, это была очень плохая мысль» [15. Р. 19]. Китайские взгляды не противопоставлены американским как примитивные прогрессивным - они просто указывают на иное видение всего вокруг: от перышка птицы до причины смерти близких. И китайское, и американское в романе в равной мере становится объектом снисходительного отношения. Первые попытки Цзинмэй понять свою мать комичны. Цзинмэй отказывается различать два китайских высказывания, отличие которых очевидно даже для читателя, не владеющего китайским языком: «Почти одно и то же, чхабу-дуо. Или, может, она сказала бутхун, совсем не одно и то же» [15. P. 19]. Некомпетентность Цзинмэй вводит одну из ключевых тем всего творчества Э. Тан - имаготипа сино-американки, утрачивающей знание китайской культуры, но не перестающей ощущать и осмыслять свою этническую принадлежность. Этому стереотипу в 335 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан разном соотношении соответствуют многие персонажи Э. Тан: Рут («Дочь костоправа»), Оливия («Сто тайных чувств»), Биби Чен («Спасение тонущих рыб»). Так, Роуз Сю Джордан открывает в себе силы «speak up for herself», заявить о себе, отстоять свое право на жизнь. Уэверли Чжун понимает стремление и надежды матери по отношению к дочери, а Ин-Ин Сент-Клэр, сравнивая себя с тигром, в год которого она родилась, постигает природу своего собственного «я» [15. P. 248]. Цзинмэй У расшифровывает материнское послание о любви и понимании, символом которого является нефритовый медальон. Этот художественный принцип ретрансляции устойчивых образов Востока (нефритовый медальон, черепаха, сороки, фэн-шуй и китайская астрология, маджонг, будда, Фестиваль Луны, лакомства дяньсинь и другие блюда китайской кухни) - важный принцип создания образа интериоризованной китайскости. Бытующие стереотипы важны как отправная точка для выстраивания нового взгляда на природу сино-американского жизненного опыта героев романа. Э. Тан дает основание и героям, и читателям задуматься о важности сохранения национально-культурного «я», неотделимого от осознания связи со своими корнями. На основе talk-stories матерей в романе создается автоимидж Китая, овеянного грустью навсегда утраченных связей со своими корнями. Ему противопоставлен гротескно стереотипизированный гетероимидж Китая, намеченный пунктирно через ироническую дистанцию: «Китай - это место, где женщину оценивают по громкости отрыжки её мужа» [15. P. 17]. Важно уточнить, что такой имидж Китая очерчен на самой первой странице романа в предисловии к первой главе. В дальнейшем этот имидж станет сложнее и многоаспектнее. Каждая из героинь понимает Китай по-своему, и для каждой Америка, наряду с общим знаменателем «золотой горы» - образом счастья и благоденствия, символизирует что-то свое, воплощает глубоко личные переживания и надежды. Путь к решению центральной проблемы романа - понять и принять материнскую любовь, принять выстраданную китайскую мудрость, заметить то, что всегда было на виду, оставаясь незамеченным - очерчен в первом эпизоде. Ключ к нему дает Цзинмэй У, изображая своих тетушек, которые регулярно устраи-336 Имагология / Imagology вают встречи своего клуба, чтобы поиграть в маджонг. Объединение женщин в «Клуб радости и удачи» (англ. «The Joy Luck Club», кит. «в?!то»), организованный несколько десятилетий назад, имеет социализирующую значимость для участников. Сохраняется обычай играть в маджонг и вместе готовить изысканные китайские блюда, но добавляются и американские детали. Подобно американскому среднему классу, тетушки ведут игру на бирже, на выигранные в маджонг деньги приобретают ценные бумаги. «Американизация» участниц клуба отражена и в том, как меняется клуб в глазах Цзинмэй У. Рожденная в Америке, в детские годы она сравнивает тетушек, собравшихся для игры в маджонг, с тайными сходками ку-клукс-клана, для неё это экзотика другого мира: «Клуб радости и удачи казался мне постыдным китайским обычаем, вроде секретных сходок ку-клукс-клана или боевых танцев индейцев, которые показывали по телевизору» [15. P. 28]. Повзрослев, Цзинмэй уже не замечает экзотичности клуба, эти собрания уже не выпадают из американского контекста, становятся органичным продолжением повседневной жизни: «Но сегодня в нем не было загадочности. Тетушки надели слаксы, блузы с яркими аппликациями, прочные удобные ботинки. Мы все расположились вокруг обеденного стола под светильником, похожим на испанский канделябр» [15. P. 28]. Через внешнюю бытовую детализацию каж-додневности существования проблематизируется бикультурность старшего поколения сино-американцев. Но, превращаясь в американцев по образу жизни, они остаются китайцами по духу, в душах и сознании происходят сложные процессы совмещения американско-сти и китайскости. Для их дочерей «американскость» матерей неочевидна, а «китайскость» остается непонятой. В романе звучит не один «сино-американский голос», а сложная полифония индивидуальных голосов, с разной, индивидуальной, а не стереотипизированной ки-тайскостью. Поэтому каждая из четырех историй имеет свою версию и аутентичной, и американизированной китайскости. В романе очерчены различные проявления китайскости. Каждый из героев по-своему прочитывает китайскую культуру и откликается на неё сердцем. Китайская составляющая сино-американского дискурса, помимо сложной поэтики дестереотипизации, проявлена в романе претекстами китайской классической культуры, которые 337 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан подключены по-разному: интекстно, имплицитно, в непреднамеренных ассоциациях, когда читатель, знакомый с культурой Китая, находит неявные связи. Так, история детства Ин-ин, её взрослая жизнь и жизнь её дочери Лины связаны через образ Госпожи Луны Чан-Э (англ. Chang-O, кит. - мифической обитательницы луны. Чан-Э - женское божество, покровительница супружеских отношений и фертильности. Китайские реалии, описания Фестиваля Луны глазами маленькой Ин-ин намеренно неэкзотичны: «В тот день вместо легкой хлопковой рубахи и свободного жакета А-ма принесла желтую куртку из плотного шелка и юбку с черными вставками. “Сегодня не до игр, - сказала А-ма, разворачивая полосатую куртку, - мама к Фестивалю Луны приготовила тебе новый костюм тигра”. Она надела на меня штаны, приговаривая: “Очень важный день, и теперь ты уже большая, можешь пойти на праздник”» [15. P. 69]. Семья Ин-ин отправляется на прогулку по озеру. Четырехлетняя Ин-ин, оставшись без присмотра, падает за борт. Её спасают рыбаки, вытащив девочку из воды. Они не могут понять, из бедной она семьи или богатой, и Ин-ин верит в каждую из предложенных ими версий. Её неуверенность настолько глубока, что, когда родные находят её, она уверена, что «нашли не ту девочку». Повзрослев, Ин-ин больше не вспоминает о своей детской трагедии - истории, которую она расскажет лишь своей дочери. Несчастье, случившееся с Ин-ин во время Фестиваля Луны, по её мнению, предвещает трагическое замужество и возможное несчастье Лины. Над судьбой Ин-ин нависает проклятие - так в романе изображается таинственная сторона жизни - тема, традиционная для китайской литературы («Записи о поисках духов», II-III вв., «Продолжение записей о поисках духов» Тао Юаньмина, V в., «Лисьи Наваждения» Пу Сунлина, новеллы чуаньци XVII-XVIII вв.), которая будет развернута в романе Э. Тан «Сто тайных чувств» («The Hundred Secret Senses», 1995). После падения в озеро и спасения Ин-ин попадает в театр и там встречает Госпожу Луну (Moon Lady), однако Ин-ин не успевает загадать свое заветное желание - быть найденной. Госпожа Луна снимает маску и оказывается мужчиной-актером. Этот эпизод прочитывается героиней аллегорически: покровительница семейного очага и женского плодородия отворачивается от Ин-ин. Создается 338 Имагология / Imagology новый миф о «потерянных» китайских женщинах, которые хотят быть «найденными», прежде всего своими дочерьми. Расширение границ китайской мифологии проведено с исключительной тонкостью. Миф, который в китайской традиции имеет несколько вариантов, обогащается еще одним, в котором Стрелок И (Archer Yi, кит. Йш), муж Чан-Э, не гибнет, а живет на Солнце: «Моя судьба и мое наказание... жить здесь на луне, а мой муж живет на солнце, каждый день, каждую ночь мы проходим мимо, не видя друг друга, кроме одного единственного вечера в году, в ночь середины осени» [15. P. 80]. История о Чан-Э связана с исключительно значимой для Э. Тан мифопоэтикой женского и мужского начал инь-ян. Эта дуальная модель приобретает личное измерение, служит средством передачи чувств. В имени Ин-ин много смыслов: оно идентифицируется с темным женским началом: «Потому что женщины - это инь, они наполнены тьмой, в которой таятся неукротимые страсти. Мужчины - это ян, они несут истину, озаряющую разум» [15. P. 81]. Уединение Чан-Э на Луне получает новую трактовку. Одиночество Ин-ин - это продолжение темы одиночества Чан-Э, которое становится метафорой поиска, самоопределения человека в мире: «Но теперь, когда я состарилась, и с каждым годом приближаюсь к финалу жизненного пути, я чувствую, что стала ближе к его началу. Я помню все события того дня, потому что для меня эти события происходили много раз. Та самая невинность, доверие, нетерпение, удивление, страх и одиночество» [15. P. 83]. Ударное слово в этой градации, «loneliness», раскрывает ситуацию жизни человека, оторвавшегося от своих корней. Тема жизни иммигрантов первого поколения в инокультурной и «чужой» Америке, острота их воспоминаний о Китае, их духовные тонкие связи со своей родиной, не нова для сино-американского дискурса. Наиболее удачно эта тема подчеркивается китайским фразеологизмом («падая, листва возвращается к корням»), выбранном сино-американской писательницей Аделайн Йен-Ма для названия своего романа «Падающие листья» («Falling Leaves», 1997). В романе-автобиографии писательница размышляет над важностью фундамента первичной культуры, заложенной в детстве. Именно об этом, овеянном лиризмом и грустью, все романы Эми Тан. 339 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан Ин-ин долгое время думает, что её жизнь в Китае должна оставаться тайной для дочери, тем самым создается «пропасть», которую её близкие ошибочно связывают с «проблемой перевода» слов матери с китайского на английский. Непереводимость китайской речи на английский связана с тем, что «переводчик» - дочь - понимая слова, не способна уловить глубину смысла, вкладываемого матерью в китайскую речь, и это происходит не из-за «американизированности» дочери. Причина этой непереводимости прежде всего в том, что дочери не разрешено ничего узнать о тайне матери. Ин-ин Сент-Клэр, приехав в Америку, выйдя замуж за американца, вырастив амери-канку-дочь, не позволяет себе заговорить по-английски, опасаясь, что её настоящее «я» навредит дочери: «Все эти годы я держала рот закрытым, чтобы не выпускать на волю эгоистичные желания. И потому, что я молчала так долго, моя дочь теперь не слышит меня... Все эти годы я скрывала свою истинную природу. и потому, что я передвигалась так осторожно, моя дочь теперь не видит меня» [15. P. 67]. Молчание Ин-ин - это не барьер, не пропасть между культурами, а знак, полный глубокого личностного смысла, который не могут прочитать её дочь и муж только потому, что сама Ин-ин не позволяет им этого знать, оберегая их от боли, скрытой внутри нее. Вопросы её дочери Лины остаются без ответа: «Тебе не следует никуда ходить, только в школу и домой, - так меня предупреждала мама, позволяя мне самостоятельно ходить в школу. - Почему? - Тебе этого не понять. - Почему? - Потому, что я еще не заложила тебе это в голову» [15. P. 106]. Рассказывая о своем детстве, Лина говорит и о том, что ощущает в себе китайскость, унаследованную от матери. Это «тайное знание» дочери - тема, которая станет главной в следующем романе Э. Тан «Сто тайных чувств»: «Я стала видеть ужасные вещи. Я видела их китайскими глазами, той частью себя, которая досталась мне от матери. Я видела, как черти неистово танцуют под ямой, которую я выкопала в песочнице. Я видела, что у молнии есть глаза, и она высматривает, в какого малютку лучше ударить. Я видела, что у пчелы, которую я ловко раздавила колесом трехколесного велосипеда, было лицо ребенка. А когда я стала старше, я видела то, что не видели белые девочки» [16. P. 103-104]. Китайскость тайного зрения Лины, тайная сторона ее «китайской» жизни в первом романе в том, что 340 Имагология / Imagology она знает, что это наследство матери, но никому не доверяет свой секрет. Для матери Лина является американкой уже потому, что родилась в Америке: «Почему у вас американцев в голове такие отвратительные мысли? - воскликнула моя мама по-китайски» [15. P. 103]. Любой её поступок, любое слово оцениваются мате-рью-китаянкой как проявление американскости, поэтому Ин-ин и Лина, мать и дочь, живут во власти стереотипов инаковости. За этой игрой скрыта естественная и потому неосознаваемая погруженность дочери в китайское. Другая героиня романа, Чжун, для своей семьи - американка, которая не желает разбираться в «ингредиентах китайского супа»: «Моя чаша была всегда полна, трехразовое питание по пять перемен блюд, начиная с супа, полного загадочных вещей, названия которых даже знать не хочется» [15. P. 89]. Но для незнакомцев она китаянка, перед которой чайнатаун может раскрыть все тайны. Вместе с другими детьми она подшучивает над белым туристом, который опасается зайти в ресторан с меню на китайском языке, в котором, по мнению Чжун, ему предложат «Кишки и утиные лапы, и желудки осьминога» [15. P. 91]. Сложное отношение героини к китайскости (приня-тие/отрицание/мистификация) прослеживается в аллюзиях. Паро-дийно-мистификационный модус задан эпиграфом, в котором просматриваются сюжеты европейских сказок (утенок, превратившийся в прекрасного лебедя, как символ надежды китайских матерей - аллюзия на всемирно известную сказку Г.-Х. Андерсена; в описании мужа высвечиваются аллюзии на сказки о великанах; лебединое перо как символ творчества - аллюзия на финские сказки). Иронически интерпретированы трудолюбие и покорность - центральные женские добродетели (ЙЙ) в Китае. Э. Тан художественно тонко, без прямых критических инвектив «подрывает» узнаваемые маркеры примитивизации китайской культуры. Её тактика дестереотипизации китайскости в романе заключается в высвечивании нелепости таких суждений. Интертекстуальный диалог-мистификация с китайскими текстами проявлен в истории детства Лины. В отличие от произведений сино-американского писателя Фрэнка Чина, в которых открыто звучит 341 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан пафос борьбы со стереотипами ложной/^fake» китайскости, а феномен ассимилированной сино-американскости превалирует над художественным изображением этнопсихологической динамики жизни его героев, Э. Тан, наоборот, в своем первом романе создает эмоционально-отстраненное, дистанцированное изображение китайскости. Это проявлено в главе «Уэверли Чжун: Правила игры», композиционно выстроенной в форме вопросно-ответного разговора матери и дочери. Мать запрещает маленькой дочери отходить далеко от дома, подтверждая опасность такого поступка ссылкой на древнекитайскую книгу «Двадцать шесть ворот зла» [15. P. 87]. Название этой книги выдумано матерью по аналогии с названием известного древнего военного трактата «36 стратагем» («Н+Aif»). Стилистика иносказательности создает комический эффект мимикрии под древнекитайскую культуру, понятную лишь специалистам-синологам. Но непосвященный читатель может принять эту мистификацию за правду. Если Ф. Чин использует «Тридцать шесть стратагем» интертекстуально, пародийно транспонируя их в современную культуру, то Э. Тан не менее изобретательно создает эффект квазиинтертекстуальности, придумывая в духе освященной древностью китайской классики текст для урезонивания обычного бунта ребенка. Поучения матери, в которых упомянута эта книга, даны в эпиграфе к пятой главе романа. Э. Тан показывает, что такая «поддельная» китайскость нужна Ин-ин как инструмент воспитания дочери и одновременно как способ скрыть от неё трагический опыт жизни в Китае. Лина расшифровывает эту мистификацию, сама учится использовать невинную ложь: «Я знала, что это был неправдивый ответ. Но я тоже придумывала ложь, чтобы избежать чего-то плохого. Я часто врала, когда мне приходилось ей переводить» [15. P. 106]. Разговор матери и дочери становится полем противостояния. Лина выстраивает свою китайскость не согласно советам или поучениям матери, а не согласовывая, опираясь на свою китайскую интуицию, которую она называет «Chinese eyes». Лина отмечает способность матери предвидеть события: «Я полагаю, что у моей матери есть загадочная способность предвидеть события. Свое знание будущего она называет китайской поговоркой чхуньван чихань: без губ зубы мерзнут. Это значит, как я предполагаю, что одно событие -342 Имагология / Imagology это всегда результат другого» [15. P. 149]. Наблюдения дочери за матерью выстраиваются в прочтении/переводе китайскости, который, подобно квазицитатам из «Двадцати шести путей зла», представляет квазиперевод древнекитайского идиоматического выражения «Щ^ёЯ». Главное в этом фразеологизме - «одно не может существовать без другого, малое несчастье влечет большое горе». Так, одно китайское значение подменяется другим. Названа или изображена лишь деталь, за которой скрыта цепь смыслов. Такой деталью в части романа под названием «Пёрышки из-за тридевяти ли» является лебединое перо как символ надежды на счастливую жизнь в Америке и как лирический образ всех женщин-китаянок, покинувших свою родину. Все, что остается от прошлого и от родины, - это перо китайской птицы, которую отобрали на американской таможне. Простота и значимость культурного смысла, на первый взгляд, обыденной мудрости, которую матери стремятся передать дочерям в словах, - кульминационный момент каждой из четырех сюжетных линий. Перо птицы - сквозной образ романа - придает имиджу китайскости особый лиризм и поэтичность. Во всех этих образах просвечивает иносказательность культурных смыслов, понятная только китаянкам-матерям. Как и нефритовый медальон, который был подарен Цзинмэй матерью, эти детали начисто лишены декоративной экзотичности. Это «эпифанические» образы самого ценного из того, что осталось от близких. Цзинмэй, пытаясь понять, что хотела выразить её мама, подарив ей медальон из зеленого нефрита, вплотную приближается к разгадке. Думая, что ей никогда не догадаться, что видела Суюань У в узорах нефрита, Цзинмэй ищет ответ у других китайцев. Однажды Цзинмэй видит такой же медальон на груди продавца в китайском магазинчике. Медальон ему также был подарен матерью после того, как он развелся. Он лишь догадывается о значении этого подарка: «Я думаю, так мама говорила мне, что я все еще чего-то стою» [15. P. 198]. Окончательного ответа на вопрос Цзинмэй в романе нет, вместо этого намек на то, что такой ответ не может быть сформулирован словами. Нефритовый медальон как символ невысказанной материнской надежды, плющ, вросший в кирпичную кладку дома Роуз Сент-Клэр, красный суп из фасоли, упомянутые как бы мимоходом, создают об-343 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан раз-атмосферу китайскости в романе. Эта поэтика, на первый взгляд, нейтральной детали проникнута не только духом китайской литературы (вспоминаются строки Ду Фу о сорванной ветром крыше соломенной хижины, Ли Цинчжао об увядающей герани, тонкой струйке дыма из курительницы, Ли Бо о дорожке лунного света перед кроватью), но и узнаваемой изысканностью китайских пейзажных миниатюр. Так выстраивается художественная концепция альтернативной китайскости с её открытым противостоянием негативным стереотипам - таким как «yellow peril» и «dog-eating». Задача младшего поколения сино-американцев - научиться понимать чувства других людей и понять себя, постичь сердце самого близкого человека. В каждой из четырех сюжетных линий романа есть личностная история передачи китайского духовного опыта. Наиболее полная её версия - это история Аньмэй Сю и Роуз Сю Джордан. Осознание неразрывности связи с матерью изображено в романе как неожиданное узнавание, после которого не остается сомнений и колебаний: «Мама посмотрела на меня. И тогда я увидела, что на меня смотрит мое собственное лицо» [15. P. 45]. Идея такого сродства выстраивается через ряд узнаваемых образов китайской мифологии: дочь, кормящая умирающую мать супом, в который добавлен кусок её плоти; мать-дерево, тень и защита которого необходимы дереву-дочери, чтобы вырасти прямо и стройно, а не бессмысленно и беспорядочно стелиться по земле; черепаха и сороки, черпающие радость из чужих слез; образ китайской богини-защитницы Сиванму (ШЭН), повелительницы Западных Небес. Воспоминания о детстве Аньмэй - это всегда воспоминания о матери, которая, обеспечив материальное благополучие своей дочери, дала ей мистиче-ски-метафорический материнский завет в иносказании о черепахе и сороке, радостно пьющих чужие слезы [15. P. 217]. Этот параболический образ может показаться реально китайским -такова логика художественной установки писателя: создать не образ декорации китайскости, а образы, близкие по духу китайской культуре и узнаваемые как китайские. Эта тонкость в изображении Иного как понятного и одновременно Своего либо остается незамеченной исследователями, либо трактуется тенденциозно идеологически. Морально-этический совет Аньмэй своей дочери Роуз: «Девочка - как молодое деревце... ты должна стоять прямо и слушать маму, 344 Имагология / Imagology которая стоит рядом. Только так можно вырасти сильной и прямой. А если ты будешь склоняться и слушать других, ты вырастешь искривленной и слабой. Первый порыв сильного ветра повалит тебя. И тогда ты станешь, как сорняк, беспорядочно тянуться в разные стороны, стелиться по земле, пока кто-нибудь не вырвет тебя с корнем и не выбросит» [15. P. 191] - приходится впору девушке, находящейся в американском окружении с массово пропагандируемой свободой выбора. Постепенно Роуз приходит к осознанию правоты своей матери, иронично отзываясь о своей «American version»: «И только намного позже я поняла, что в американской версии был серьезный изъян. Легко растеряться от слишком большого выбора и выбрать не то, что нужно» [15. P. 191]. Сравнение дочери с молодым деревцем, которому нужна защита от солнца и ветра, прежде чем оно станет достаточно сильным, чтобы не гнуться под ударами жизни, - это сквозной сюжет жизни самой Роуз. Выстраивается система скрытых сравнений, намеков, как бы случайных, незначительных образов, через которые в американской жизни Роуз просвечивает иная культурная реальность - её корни. Совет матери «to speak up», который остается без ответа, запускает скрытое, подсознательное «я» Роуз, которая видит запущенный сад, побеги плюща на стенах дома, вросшие в кладку, вспоминает предсказание из детского печенья и то, что муж, собираясь покинуть дом, не будет заботиться о саде. Все это дает Роуз силы отстоять свою жизнь. Она сообщает мужу о своем решении остаться в этом доме и в его жизни. В её словах «Ты не можешь просто так вырвать меня из своей жизни и выбросить» [15. P. 196] звучит и унаследованная от мамы стойкость, умение не только терпеть, но и отстаивать право на жизнь и счастье. В романе «Клуб радости и удачи» китайскость представлена как «материнская основа» сино-американскости. На такой образ сино-американскости наслаивается бикультурность автора текста. Отсюда особая динамика изображения, разомкнутость сино-американского дискурса в актуальную проблематику духовной целостности мира и человека. Причем с каждым романом этот дискурс о сино-американскости будет многоаспектней, и художественно и семантически. В сино-американском дискурсе в творчестве Э. Тан имидж Китая и китайскости - это не дополнение к картине американской жизни её 345 Вечоринская Т.В. «Клубрадости и удачи» Эми Тан сино-американских героев, и не оппозиция «чужого» к «своему», и не «зеркало» для постижения своей сути, и не прямолинейное проецирование в неё себя. Опасность такого однопланового подхода в том, что Китай, этот удаленный от Э. Тан мир, своими внутренними законами хорошо знаком ей, поэтому его бытие - всегда внутри её художественного мира. Она показывает, что найти себя, постигнуть свою сино-американскую идентичность невозможно, если искать себя только в самом себе. Поэтому в романе «Клуб радости и удачи» многоаспектные репрезентации Кита
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 53
Ключевые слова
Эми Тан, «Клуб радости и удачи», сино-американский дискурс, имидж, иное СвоеАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Вечоринская Татьяна Викторовна | Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко | канд. филол. наук, доцент кафедры языков и литератур Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии Института филологии | t.vechorynska@gmail.com |
Ссылки
Бахтин М.М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. СПб. : Азбука, 2000. С. 9-226.
Bloom H. Amy Tan. N.Y. : Infobase Publishing, 2009. 206 p.
Bloom H. Amy Tan's The Joy Luck Club. N.Y. : Infobase Publishing, 2009. 194 p.
Lowe L. Immigrant Acts: On Asian American Cultural Politics. Durham : Duke University Press, 1996. 252 p.
Lim S.G. Transnational Asian America: Literary Sites and Transits. Philadelphia : Temple University Press, 2006. 306 p.
Evans R.C. Critical insights. The Joy Luck Club by Amy Tan. N.Y. : Salem Press, 2010. 323 p.
Бутенина Е.М. Творчество Эми Тан как феномен литературного пограничья // Литература во взаимоотношении с другими видами искусства. М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. С. 257-261.
Бутенина Е.М. Межкультурные топосы в китайско-американской литературе // Вестник Томского государственного университета. 2011. № 343. С. 10-14.
Караваева Е.М. Конфликт поколений в романах Максин Хонг Кингстон и Эми Тан: к проблеме поиска идентичности в азиато-американской литературе США последней трети XX века : автореф. дис.. канд. филол. наук. М., 2009. 20 с.
Коровина С.Г. Особенности употребления символа в творчестве американской писательницы китайского происхождения Эми Тань. 2002. URL: http://vladivostok.com/speaking_in_tongues/tan3.html
Коровина С.Г. Творчество Эми Тань 1980-х - 90-х гг. в контексте азиатоамериканской литературной традиции : автореф. дис. канд. филол. наук. Казань, 2002. 25 с.
Лупачева Т.А. Функционирование китайских вкраплений в произведениях американской писательницы Эми Тэн : автореф. дис.. канд. филол. наук. Владивосток, 2005. 24 с.
Bloom H. Amy Tan. Philadelphia : Chelsea House Publishers, 2001. 352 р.
Adams B. Amy Tan. Manchester : Manchester University Press, 2005. 232 р.
Tan A. The Joy Luck Club. N.Y. : Penguin Books, 2006. 288 p.
Tan A. The Hundred Secret Senses. N.Y. : Penguin Books, 2010. 358 p.
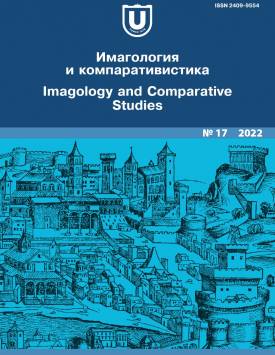
«Клуб радости и удачи» Эми Тан: переосмысление имиджа Китая в сино-американском дискурсе | Имагология и компаративистика. 2022. № 17. DOI: 10.17223/24099554/17/16
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 890

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью