Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном: петербургско-венецианский текст Г. Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви»
Раскрывается архитектоника повести Густава Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви» - система ее интертекстуальных связей в соотношении с внутренним устройством текста. Констатируется, что Герлинг-Грудзинский вступает в диалог с русской литературой XIX в., в первую очередь с «петербургской» повестью Достоевского «Белые ночи». Также утверждается, что в повести Герлинга-Грудзинского дается трактовка венецианского текста, в том числе новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции». Делается вывод о том, что структура повести раскрывается с помощью системы бинарных оппозиций: Петербург - Венеция, жизнь - смерть, любовь - одиночество, женское -мужское, Восток - Запад.
Between Dostoevsky and Thomas Mann: Saint Petersburg-Venetian Texts of Gustaw Herling-Grudzinski’s White Night of Lov.pdf 1. Повесть Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви» в контексте русской классической литературы Повесть Густава Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви» («Biala noc milosci. Opowiesc teatralna», 1998-1999) представляет собой художественный синтез литературных традиций России и Запада. В широком интертекстуальном горизонте повести (от Шекспира до Беккета, от Тургенева до Пастернака) выделяются два произведения, входящие в канон петербургского и венецианского текста, - соответственно повесть «Белые ночи» (1848) Достоевского и новелла «Смерть в Венеции» («Der Tod in Venedig», 1912) Томаса Манна. Повесть Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви» представляет, с одной стороны, хроникальное линейное повествование о детстве, юности, зрелости, старости и смерти Лукаша и Уршули Клебанов, которых связывают кровосмесительные отношения брата-мужа и сестры-жены. С другой стороны, это художественная реализация «полифонической (двухгеройной, двухголосой) модели прозы» [1. С. 92]. В основе части первой «Брат и сестра» лежит «безмолвная автобиография», внутренний монолог, солилоквиум Лукаша Клебана, 351 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном последовательно рассказывающего о довоенной молодости, драматических перипетиях семейной жизни в период войны и о последующих десятилетиях лондонской эмиграции. Часть вторая «Лица Венеции» более «компактна» как во времени, так и в пространстве -она охватывает период с 15 декабря 1998 г. по 7 января 1999 г., проведенный Лукашом и Уршулей в Венеции, и приводит к трагической развязке - неудачной окулистической операции, стоившей Лукашу зрения. Если часть первая является цельным текстом, соответствующим модели реалистического повествования, то в части второй, построенной по законам постмодернистского полиморфизма, наряду с объективно-повествовательным планом, введен критическо-дискурсивный план размышлений Уршули над книгой британского литературоведа Тони Таннера «Желанная Венеция» («Venice Desired», 1992), имеющий только косвенное отношение к семейнобиографическому сюжету повести. Таким образом, в двуединой структуре текста сталкиваются классический и постклассический типы повествования, соответствующие «мужскому» и «женскому» мировосприятию1. Мировосприятие Лукаша как повествующего субъекта первой части «Брат и сестра» характеризуется доминированием темпоральности над спациально-стью, в связи с чем основную роль в его автобиографическом монологе играют мотивы поисков «утраченного времени» и жажды бессмертия. Жизнеощущение Уршули отличается меньшей чувствительностью к проблеме течения времени и большим вниманием к категории пространства. Венеция воспринимается Уршулей как замкнутый топос, в котором события предстают не в линейной перспективе прошлого, настоящего и будущего, а в циклической бесконечности, с «прозрачными» границами между жизнью и смертью. В интерпретации Уршули «безмолвная автобиография», рассказанная Лукашем, трансформируется в нелинейный текст, основными 1 Сближая классический тип повествования с мужским мировосприятием, а постклассический - с женским, мы опираемся на компаративистскую концепцию Л. Вишневской, выделившей следующие бинарные оппозиции: новый миф Бога - архаический миф природы, классическая (линейная) - постклассическая (круговая) модель времени, Ренессанс - Барокко (по Г. Вёльфлину), мужское -женское начало [2]. 352 Имагология / Imagology признаками которого, по определению Герлинга-Грудзинского, являются «многозначность» и «неопределенность» («Моя цель - показать мир, в котором все многозначно. Поэтому я ввел эпизод, разыгрывающийся в Венеции» [3. S. 315]1; «Можно меня упрекнуть в том, что я подрываю человеческую тоску по определенности» [3. S. 317]). Помимо структурно-повествовательной и хронотопической гетерогенности первой и второй частей повести «Белая ночь любви», обращает на себя внимание специфическое соотношение их интертекстуальных источников. Первая часть «Брат и сестра» находится в «ауре» русской литературной классики, представленной повестью «Белые ночи» Достоевского и драматургией Чехова («Чайка», «Три сестры», «Иванов»). Об этом свидетельствует тургеневский эпиграф к повести «Белые ночи» в неточной передаче Достоевского, воспроизведенный Герлингом-Грудзинским в качестве эпиграфа к повести «Белая ночь любви» («Иль был он создан для того, / Чтобы побыть хотя мгновенье, / В соседстве сердца твоего?...» [4. S. 5]2). Словно в подражание небрежности Достоевского, эпиграфом части первой «Брат и сестра» Герлинг-Грудзинский делает неточно пересказанные им самим слова Треплева из пьесы «Чайка»: «Живые люди3! Надо изображать жизнь не такою, как она есть, и не такою, как должна быть, а такою, как она представляется в мечтах» [4. S. 7]. В свою очередь, эпиграфом части второй «Лица Венеции» являются слова Томаса Манна из новеллы «Смерть в Венеции», воспроизведенные польским автором близко к оригиналу: «Венеция, самая неправдоподобная из городов» [4. S. 68]4. В двухчастной структуре повести Герлинга-Грудзинского выбор цитаты из новеллы Манна создает интертекстуальный параллелизм петербургского текста Достоевского и венецианского текста Манна. Скрытой параллелью к манновской характеристике «неправдоподобной» Венеции является суждение антигероя «Записок из подполья» о Петербурге как 1 Здесь и далее перевод с польского автора статьи. 2 Ср. тургеневский первоисточник: «Знать, был он создан для того, / Чтобы побыть хотя мгновенье / В соседстве сердца твоего...» [5. Т. 9. С. 32]. 3 В чеховском оригинале - «Живые лица!» [6. Т. 7. С. 149]. 4 См. для сравнения характеризующийся своими семантическими нюансами русский перевод Н. Ман: «самый диковинный из всех городов» [7. C. 172]. 353 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном «самом отвлеченном и умышленном городе на всем земном шаре» [8. Т. 4. С. 455]. Использование манновской цитаты в качестве эпиграфа второй части повести является ассиметричным приемом в системе эпиграфов Герлинга-Грудзинского. Достоевский и Чехов выступают своего рода «dramatis personae» первой части повести «Брат и сестра», в которой Лукаш рассказывает о своей карьере театрального режиссера, во многом, если не во всем, обязанного творческими успехами классикам русской литературы. И наоборот, текст новеллы Манна, несмотря на то что он является эпиграфическим краеугольным камнем второй части, не становится в повести Герлинга-Грудзинского объектом изучения и переосмысления, в отличие от произведений Достоевского и Чехова. Вместо Манна внимание Герлинга-Грудзинского привлекают писатели, рассмотренные в монографии Таннера «Желанная Венеция»: Байрон, Рескин, Джеймс и Гофмансталь. Содержание книги английского литературоведа излагается Г ерлингом-Грудзинским в сокращенном виде -создается впечатление, что Уршуля не дочитывает до конца книгу Таннера, оставляя вне поля зрения образы Венеции в творчестве Марселя Пруста и Эзры Паунда. Однако процесс чтения перебивается размышлениями героини о дополнительном венецианском сюжете, связанном с современником Томаса Манна Фредериком Рольфом (бароном Корво), оставленным за скобками в книге Таннера. Такие приемы, как неточные эпиграфы, не до конца пересказанные «чужие тексты», отступление от магистральной сюжетной линии, композиционная асимметрия двух частей, - архитектоническая «хромота» повести Герлинга-Грудзинского, вызывающая метафорические ассоциации с хромотой ее главного героя Лукаша Клебана, усиливают эффект «многозначности» и «неопределенности», соотносящийся с авторской установкой на фрагментаризацию повествования, что проявляется в альтернативных «Двух эпилогах», наделенных общим эпиграфом (возможно, псевдоэпиграфом) венецианского анонима: «Конец? Только Бог знает, что есть настоящий конец. А иногда не знает даже Он» [4. S. 104]. Однако поэтика «неопределенности» не получает исчерпывающей реализации в тексте повести «Белая ночь любви» с ее кристаллически четкой структурой кольцевых обрамлений, посредством которой этико-философский смысл повести формулируется с тезисной 354 Имагология / Imagology однозначностью. Смыслообразующей доминантой произведения Герлинга-Грудзинского является категория любви, посредством которой создаются интертекстуальные переклички текстов Достоевского, Чехова и Манна. В начале «безмолвной автобиографии» Лукаш Клебан рассказывает о профессиональном завете, полученном им от матери, провинциальной русской актрисы Софьи Криспиной: «Лука, сынок мой дорогой, ты обязательно должен любить 1 Антона Павловича» [4. S. 16]. В конце первой части повести этот императив обретает значимость максимы о глубинном смысле русской литературы: «Ни в одной другой литературе мира подспудная вера в лекарство любви так не сильна. Я это заметил в довольно мелком мотиве на страницах “Белых ночей”, где петербургский отшельник лечит Настеньку, она же, не отдавая себе в этом отчета, изгоняет из него любовью болезнь одиночества (префигурация подполья), и сама выходит из своей раковины в мир благодаря его любви. Даже прекрасная “Первая любовь” Тургенева... есть что-то вроде жестокой и болезненной хирургической операции, проводимой с помощью скальпеля любви на подрастающем мальчике» [4. S. 67]. В этом утверждении прослеживается интертекстуальная перекличка со словами Томаса Манна из новеллы «Тонио Крёгер»: «...ибо достойнейшая преклонения русская литература есть та самая святая литература» [7. С. 125]. Традиционный перевод передает возвышенный аспект ман-новского концепта «die heilige Literatur», прикрывая приземленное значение прилагательного heilige, связанного с глаголом heilen -«целить, лечить». А. Доброхотов верно замечает в связи с этим: «Целостность, преодолевающая раскол; целительное средство от болезни духа, - на эту миссию искусства русская художница (Лизавета Ивановна. - Л.М.) указывает совершенно определенно, на что и Тонио откликается, сожалея об исчезающем “царстве здоровья”» [9. С. 41]. Персонаж Герлинга-Грудзинского Лукаш Клебан добавляет в манновский концепт «святой»/«целительной» русской литературы понятие любви, рассматривая «любовь» и «подполье» в качестве полюсов здоровья и болезни в творчестве Достоевского. Появление у Герлинга-Грудзинского трансформированного ман-новского концепта «святой»/«целительной» русской литературы и 1 Подчеркивание здесь и далее наше - Л.М. 355 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном связанной с ним метафоры «хирургической операции, проводимой с помощью скальпеля любви», параболически соотносится с развязкой второй части «Лица Венеции»: Лукаш Клебан, наследник великих традиций русской классики, оказывается на операционном столе, и операция оборачивается неудачей. Параболический план этого события содержит постмодернистский диагноз неудачи великой классической традиции в ее миссии врачевания душ. Однако на фоне этой катастрофической развязки Лукашем и Уршулей разыгрывается сентиментальная сцена, являющаяся символическим актом превращения поражения в победу: «Он крикнул слабым, но радостным голосом: “Белая ночь в Венеции!”... Они целовались как молодые, как когда-то в Гродно, все не сытые, их голоса переплетались в общем возгласе: “Белая ночь в Венеции!” Она первая поправила этот возглас: “Белая ночь любви”» [4. S. 103]. Подхваченный Уршулей возглас Лукаша «Белая ночь в Венеции!» представляет собой контаминацию названий петербургского и венецианского текстов Достоевского и Манна «Белые ночи» + «Смерть в Венеции» при редуцировании лексемы «смерть» 1 . В.Н. Топоров в статье «Италия в Петербурге» резонно указывает на асимметричность сопоставления двух городов в русской культуре: чтобы понять genius loci Петербурга, часто прибегают к его сравнению с Италией, прежде всего с Венецией, однако через Петербург никогда не пытаются раскрыть итальянский (венецианский) колорит («...в центр ставится Петербург, а “итальянское” - только способ описания Петербурга, “итальянский” код его» [11. С. 49]). Достоев-ско-манновской контаминацией «белая ночь в Венеции» ослепший Лукаш Клебан словно инверсирует традиционную формулу «Италия в Петербурге» - «Петербург в Италии». Уточнение Уршули «Белая ночь любви!» отражает тождество ее мироощущения с позицией автора, давшего название повести будто бы со слов героини. Вводя концепт любви, Герлинг-Грудзинский сигнализирует отрицание манновского концепта смерти, что представля- 1 Показательна в этой связи работа О.Н. Николаенко, в которой вводится понятие «петербургско-венецианского текста». Сходство между двумя городскими текстами исследовательница усматривает в эсхатологичности обоих «эксцентрических» городов [10]. 356 Имагология / Imagology ет собой с античной точки зрения победу Эроса над Танатосом, а с иудеохристианской - торжество любви как онтологической противосилы смерти («.. .ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы огненные, она пламень весьма сильный» (Песн. 8: 6)). Таким образом, «святая»/ «целительная» русская литература, опирающаяся на классическую и библейскую традицию, согласно концепции Герлинга-Грудзинского, является орудием победы над смертью, хотя в художественной атмосфере «неопределенности» сохраняется возможность не только оптимистической, но и пессимистической трактовки развязки повести Герлинга-Грудзинского. 2. «Белые ночи» Достоевского в трактовке героев повести «Белая ночь любви» Г ерлинга-Г рудзинского В «безмолвной автобиографии» Лукаша Клебана, составившей композиционную основу первой части повести, одной из движущих сил является мотив мечты, проявляемый в выше цитированном эпиграфе к пьесе «Чайка». Отсюда интертекстуальная перекличка названий части первой «Брат и сестра» («Rodzenstwo») с пьесой Чехова «Три сестры»: если для чеховских сестер топосом мечты является Москва, то для пожилых Лукаша и Уршули - Венеция [1. С. 97]. В период пребывания молодых Лукаша и Уршули в Гродно романтическо-сентиментальным топосом мечты, аналогичным Венеции, становится майский Ленинград 1941 г., где Лукаш и Уршуля, согласно авторскому вымыслу, представляют спектакль по повести Достоевского под открытым небом, в естественных декорациях петербургских белых ночей. Ленинградский эпизод «Белой ночи любви» является смыслоопределяющим элементом художественной конструкции повести, фокусом житейской философии ее героев, зиждущейся на органическом двуединстве жизни и творчества, любви и искусства. Программное отклонение героев «Белой ночи любви» от текста «Белых ночей» Достоевского имеет в повести Герлинга-Грудзинского этикопсихологическое обоснование, связанное с тем, что появление третьего персонажа, создающего непреодолимый барьер между Настенькой и Мечтателем, разрушает, по мнению Уршули, художественную органи-357 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном ку повести Достоевского1. «В действительности родилась вторая, истинная любовь, - констатирует героиня. - Или ожидаемый мужчина не приходит совсем, или является слишком поздно. Скорее первое» [4. S. 42]. Критический взгляд на психологию внезапных перемен и развязок, часто выражаемых у Достоевского наречием «вдруг» [12], Уршуля проецирует на свои отношения с братом, заверяя Лукаша в том, что в их жизни никогда не появится неожиданный третий: «...это пьеса для двоих, для тебя и для меня» [4. S. 42-43]. Таким образом, элиминация горькой финальной сцены повести Достоевского является «минусприемом», при котором «минус на минус дает плюс»: испытав изначальное недоумение по поводу редукции канонического текста, читатель (зритель) в конце концов делает вывод, что оставить Настеньку в объятиях Мечтателя - наилучший исход повести (спектакля). Основной смысл интертекстуального «превращения» «Белых ночей» в «Белую ночь любви» выражен дилеммой «или - или»: «Театр есть или иной мир, существующий по собственным законам, замкнутый космос человеческой драмы, или обособленный эпизод, быстро выгорающее событие» [4. S. 21]. Организация художественного времени в повести Достоевского определяется представлениями Мечтателя о мимолетности счастья (см. последние слова повести: «Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?» [8. Т. 2. C. 202]). С мотивом быстротечности связаны также особенности петербургского топоса «Белых ночей», проявляемые в рассуждениях Мечтателя о «неизъяснимотрогательном в петербургской природе»: «И жаль вам, что так скоро, так безвозвратно завяла мгновенная красота, что так обманчиво и напрасно блеснула она перед вами, - жаль оттого, что даже полюбить ее вам не было времени» [8. Т. 2. С. 157]. В темпоральном аспекте повесть Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви» является антитезой «Белых ночей» Достоевского, поскольку, согласно жизненной философии главного героя Герлинга-Грудзинского, для полноты счастья нужно не мгновение, а вечность, почти по «Фаусту» Гете: «Оста- 1 Эта точка зрения героини повести полностью совпадает с суждением Герлинга-Грудзинского в интервью В. Болецкому. «Я смотрел фильм Висконти «Белые ночи», в котором очевидно, что момент, когда приходит тот третий, есть с жизненной точки зрения абсурдный» [3. S. 315]. 358 Имагология / Imagology новись, мгновенье, ты прекрасно». Заключительные слова Лукаша из «безмолвной автобиографии» («Когда любишь так, как я Уршулю, трудно воспротивиться смешной мечте о бессмертии» [4. S. 67]) демонстрируют запредельность мечтаний Лукаша. Однако философия тотального счастья, исповедуемая героем «Белой ночи любви», оборачивается в автобиографическом повествовании Лукаша трагедией старения и ожидания смерти: «Люди любят друг друга, живут вместе, с течением лет их любовь становится сильнее и богаче, но, пожалуй, она не доходит до такого срастания, при котором сама мысль о разлуке вызывает невыносимые физические мучения» [4. S. 97]. Обращение Герлинга-Грудзинского к повести «Белые ночи» Достоевского обусловлено параллелизмом творческой судьбы русского и польского писателя. Созданная накануне каторги, повесть «Белые ночи» Достоевского была проявлением жизнеутверждающего идеализма перед трагическим испытанием, получившим художественное осмысление в «Записках из Мертвого дома». Первая часть анализируемой повести Герлинга-Грудзинского содержит автобиографический намек на гродненский эпизод жизни писателя (1940), ознаменовавшийся тесным контактом начинающего литератора с театром [3. S. 318-319]. Гродненский эпизод стал для Герлинга-Грудзинского прелюдией к трагическому испытанию ГУЛАГом в 1940-1942 гг., о котором идет речь в книге «Иной мир. Советские записки» (1949-1950), продолжающей, по словам автора, литературные традиции «Записок из Мертвого дома» Достоевского '. «Представителем» «иного мира» в повести «Белая ночь любви» является освобожденный из ГУЛАГа профессор русской литературы Л., лапидарно выразивший суть театральной постановки «Белых ночей» в интерпретации Лукаша и Уршули: «Вам как-то удалось воздержаться от всей злобы “Записок из подполья”» [4. S. 50]. Отвечая на возражение Лукаша о том, что Мечтатель является «предшественником “Записок из подполья”», Л. дает нравственно-психологическую форму- 1 Вариант названия книги «Иной мир» закрепился в русском языке благодаря переводу Натальи Горбаневской, однако в русскоязычном интервью 1977 г. писатель дал собственное название книги - «Особый мир» [13], максимально приближенное к цитате из «Записок из Мертвого дома» Достоевского: «Тут был свой особый мир, ни на что не похожий...» [8. Т. 3. С. 210], взятой в качестве эпиграфа к книге «Иной мир». 359 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном лу «Белых ночей» Достоевского в русле манновского концепта «целительной русской литературы»: «Настенька своей любовью освободила его от растущей день за днем злобы, которая в будущем должна была превратиться в революционный фитиль» [4. S. 51]. Образы героя Достоевского, раздвоенного между мечтой и подпольем, и героини, которая своей любовью спасает героя от «подпольных» умонастроений, «проецируются» в повести «Белая ночь любви» на экзистенциальную психологию Лукаша Клебана, счастье которого омрачено чувством вины в смерти Богдана, первого возлюбленного Уршули. Если в условном мире спектакля по повести «Белые ночи» Достоевского «устранение» третьего персонажа происходит безболезенно, то в реальности подобное событие граничит с преступлением, оборачивающимся для героя неразрешимой внутренней проблемой. С этим связано появление в «безмолвной автобиографии» Лукаша еще одного интертекстуального источника -повести «Падение» Камю как вариации «Записок из подполья» Достоевского. В трактовке Герлинга-Грудзинского ключевым становится эпизод, в котором Жан-Батист Кламанс не приходит на помощь тонувшей девушке, что становится морально-психологической катастрофой для упомянутого антигероя Камю. Этот эпизод «Падения» Лукаш Клебан трактует как скрытую аналогию автобиографического «любовного треугольника» Богдан - Уршуля - Лукаш, а также как экзистенциально-эсхатологическую параболу, смысл которой выражается противоположными максимами Камю: «Надо набраться терпения и ждать Страшного суда» [14. Т. 3. С. 507] и «Не ждите Страшного суда. Он происходит каждый день» [14. Т. 3. С. 522]. Здесь Лукаш попадает в экзистенциальный кризис, в который ввергнуты также многие одинокие герои Герлинга-Грудзинского, соотносимые с художественным мифом о свенток-шиском пилигриме из рассказа Герлинга-Грудзинского «Башня» [1. С. 150-155]. В этом контексте не безосновательно, хотя и не бесспорно мнение Мариуша Вилька о том, что «микророман1 “Белая 1 В польской жанровой терминологии выделение повести как среднего эпического жанра крайне редко, чаще используется термин «микророман», однако мы принимаем в качестве «рабочей» жанровую номинацию, введенную в данном случае самим Герлингом-Грудзинским «театральная повесть» («opowiesc teatralna»). 360 Имагология / Imagology ночь любви” - вопреки названию - не столько о любви, сколько об одиночестве» [15. С. 26]. Действительно, мотивы одиночества играют здесь довольно важную, но все-таки не доминантную роль. В повести «Белая ночь любви», как, пожалуй, ни в одном другом произведении, писатель остро ставит вопрос о любви как «лекарстве» от «подпольной» болезни одиночества. В начале повести «Белые ночи» Мечтатель переживает обострение «подпольной» болезни, когда летний Петербург едет «на дачу» («...словно забыли меня, словно я для них был и в самом деле чужой!» [8. Т. 2. С. 156]. Это меланхолическое настроение героя Достоевского неразрывно связано с топосом Петербурга, который в русской литературоведческой традиции воспринимается «эксцентрическим» городом, продуцирующим эсхатологические мифы [16. С. 209], «пороговой ситуацией, кромкой жизни, откуда видна метафизическая тайна жизни и особенно смерти» [17. С. 51]. Закономерно, что петербургский текст русской литературы связан с опытом «пограничных ситуаций» экзистенциализма. Например, размышляя о петербургском генезисе экзистенциализма поэта-эмигранта Георгия Иванова, в повести которого «Распад атома» чувствуется интертекстуальный отголосок «Записок из подполья» Достоевского, Р. Б. Гуль с полным правом утверждает, что «русский экзистенциализм... много старше сен-жерменского экзистенциализма» [18]. В повести Герлинга-Груд-зинского отсутствует прямая связь топоса Петербурга (Ленинграда) с экзистенциальным опытом «подполья», поскольку период взаимот-чуждения Лукаша и Уршули приходится, по сюжету повести, на более поздний лондонский период их биографии, в то время как художественный образ Ленинграда пропитан у польского автора сентиментально-идиллической эмоциональностью. Театральное представление под открытым небом по мотивам повести Достоевского является наиболее отдаленным от реальности, фантастическим и аисторичным эпизодом повести «Белая ночь любви», учитывая то, что театральная постановка «Белых ночей» происходит в мае 1941 г., и апокалиптическая тень будущей блокады объективно создает разительный контраст с идиллическим эпизодом белых ночей, о которой рассказывается в «безмолвной автобиографии» Лукаша Клебана. Образ Ленинграда - Петербурга кристаллизуется в повести «Белая ночь любви» под воздействием русской литературы, занимавшей 361 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном большое место в круге чтения польского писателя. Ленинградский эпизод обнаруживает явное расхождение вымысла и правды в художественной структуре полуавтобиографической повести «Белая ночь любви». Сентиментально-идиллической петербургской атмосфере повести «Белая ночь любви» противопоставляется реалистически деловой тон книги «Иной мир», в которой говорится о пребывании автора в Ленинграде в ноябре 1940 г. Впечатления о городе у 21летнего заключенного складываются, по вынужденным обстоятельствам, крайне скудные («Зажатый между товарищами, почти задыхаясь в деревянном ящике без окон и вентиляторов, я не имел возможности увидеть город. Только на поворотах движение машины сталкивало меня с лавочки, и на мгновение я распознавал через щель в кабине шофера фрагменты зданий, скверов и людской толпы» [19. T. 1. S. 19]). Единственной «петербургской» аллюзией «Иного мира» является именование одним из «бытовых» заключенных собственной тюрьмы «нашим Зимним Дворцом» [19. T. 1. S. 22]. В воспоминаниях Герлинга-Грудзинского создается образ тюремного «антимира» Ленинграда как части ГУЛАГа, коллективного «подполья» и «мертвого дома», антитезой которого является идиллическая атмосфера белых ночей в анализируемой повести Г ерлинга-Грудзинского. Таким образом, «иному миру» ГУЛАГа польский автор противопоставляет жизнеутверждающий мир русской классической литературы, предлагая читателю сложный образ России в ее двух антиномичных ипостасях [20. C. 365-366]. 3. Образ Венеции и диалог Г ерлинга-Г рудзинского с Томасом Манном Часть вторая «Лица Венеции» («Twarze Wenecji») придает художественной структуре повести «Белая ночь любви» эллипсно-«сильвическую» специфику. Признаки «сильвической» поэтики1 определяются встраиванием в эпическое повествование иножанровых эле- 1 Термин «сильвичность» ввел в научный обиход Р. Ныч для обозначения тенденции к смешению жанров в польской прозе ХХ в. [21] (термин происходит от явления польской письменности эпохи Барокко, получившего название «silva rerum» (лат. «лес вещей»)). 362 Имагология / Imagology ментов дневника и эссепредставленных в композиционной форме размышлений Уршули Клебан над книгой Тони Таннера о Венеции. Эллипсность2 композиции состоит в том, что, наряду линейно построенной «семейной хроникой» Лукаша Клебана, в произведении организуется особый повествовательный узел с Венецией в роли «главной героини». Уршуля Клебан пытается, по ее же словам, «раскусить» («rozgryzc») [4. S. 87] загадку города, персонифицированную в фигуре венецианского актера Тонино Тонини, в апартаментах которого поселяются Лукаш и Уршула на время их пребывания в городе на лагунах. Обращает на себя внимание совпадение имени и фамилии реального британского литературоведа и вымышленного итальянского героя повести: Тони Таннер - Тонино Тонини - прием «сильвизации» повествования, одной из признаков которой является стирание границы между документальной правдой и художественным вымыслом. Географическое перемещение героев повести с Востока на Запад Европы и их профессиональный интерес как к русской классике, так и к опыту писателей романо-германского мира, диалог между Pax Orthodoxa и Pax Latina (симптоматично, что, по сюжету повести, главный герой Лукаш Клебан, русский по матери, является православным по вероисповеданию) - вся эта интеллектуально культурная «мозаика» повести выражается в образе Венеции как то-посе «встречи» культурно-цивилизационных традиций России и Запада. Справедливо суждение Н.Е. Меднис, исследователя русской венецианы: «Венеция, может быть, особенно дорога русскому сознанию, стремящемуся вопреки историческим коллизиям обрести то пространство единения, где могут бесконфликтно встретиться Запад и Восток, наследники Рима и Византии» [23]. Исключительность венецианского топоса, по Н.Е. Меднис, обусловлена не только его культурно-цивилизационным универсализ- 1 В повести «Белая ночь любви» Герлинг-Грудзинский представляет развернутую версию критического комментария к книге Таннера «Желанная Венеция», предварительно набросанного им в «Дневнике, писавшемся ночью» от 7.IX.1992 г. 2 См. об эллипсной организации новеллы работу В. А. Лукова [22]. Вторая часть анализируемого произведения Герлинга-Грудзинского рассматривается нами как пример эллипсного усложнения жанровой структуры повести. 363 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном мом, но и экзистенциальной мифологией «встречи» Эроса и Танато-са, благодаря которой трагичность памяти смертной смягчается любовной чувственностью, минимизирующей экзистенциальную проблему смерти. Как следствие, «венецианский мир... изображается отдельными авторами как светлый мир Танатоса» [24], что проявляется и в повести «Белая ночь любви». Однако Герлинг-Грудзинский избегает прецедентной и, казалось бы, предвосхищаемой читателем смертной развязки в духе новеллы Манна, вместо нее вводя мотив слепоты в Венеции. Замена манновского мотива смерти мотивом слепоты имеет коннотации, соотносимые с часто цитируемой Гер-лингом-Грудзинским 26-й максимой Ларошфуко: «Ни на солнце, ни на смерть нельзя смотреть в упор» [25. С. 32]. Лукаш испытывает страх перед потерей зрения, будучи уверен в том, что когда ослепнет, он не будет больше в состоянии любить Уршулю. Для Лукаша слепота - это «пограничная ситуация», связанная с кьеркегоровским «страхом-к-смерти», когда человек «зависает» между жизнью и смертью, обреченный, подобно покинутому Настенькой Мечтателю, на одиночество и на трагедию «подполья». Герой Герлинга-Грудзинского не относится к героям, верящим в «светлый мир Танатоса», следовательно, не является по духу венецианским персонажем и в этом смысле противоположен по жизнеощущению своей сестре-жене. Психологическое размежевание героев, обусловленное либо страхом смерти, либо, наоборот, ее спокойным принятием, отражено в размышлениях Уршули по поводу венецианских мотивов творчества Генри Джеймса, раскрываемых в книге Таннера. Уршуля вспоминает о резко отрицательной реакции Лукаша на ее предложение разыграть спектакль по произведению «Алтарь мертвых» Джеймса, который в единстве с ленинградским спектаклем по мотивам «Белых ночей» мог бы составить «диптих о любви рождающейся и умирающей» [4. S. 83]: «Он (Лукаш. - Л.М.) не хотел об этом слышать, враждебно замкнулся, кто знает, не говорила ли в нем неприязнь к теме умершей любви... Она жила в его объятьях, расцветала, а потом гасла и застывала надгробием любви. А он хотел жить и любить вечно!» [4. S. 84]. Если Лукаш всегда тяготел к постоянству, то Венеция для Уршу-ли привлекательна, наоборот, «элементом непредсказуемости в любви» [4. C. 82]. Сопоставляя уловленный Джеймсом дух «вечной из-364 Имагология / Imagology менчивости» Венеции с неизменностью собственной жизни, Уршуля приходит к грустному выводу: «Та, кто всю жизнь сохраняет верность одному мужчине, склонна думать о Венеции обокраденной, обнищавшей» [4. S. 82-83]. Если «безмолвная автобиография» Лукаша разворачивает цепочку действительных событий, то размышления Уршули над книгой Таннера о Венеции приводят ее к сожалению о несбывшемся, например, о том, какие перспективы могла бы иметь совместная жизнь Уршули с ее погибшим любовником Богданом. Другая несбывшаяся мечта - о потерянном ребенке Лукаша и Уршули - возникает у героини перед загадочной картиной Джорджоне «Гроза», выставленной в венецианской Академии: «Обнаженная женщина с младенцем выглядела как часть пейзажа, как плод урожайной земли, умытый дождем. Ах, как все было бы по-другому, если бы не этот ребенок, потерянный в Гродно! А может быть, все и есть хорошо? Может, дитя брата и сестры было бы источником вечных страданий?» [4. S. 95]. Осмысливая картину Джорджоне, Уршу-ля замечает, что женщина с ребенком, являющаяся органической частью природы, и мужчина, воспринимаемый как постронний, являются «символами чего-то». Идейно-художественный смысл экфра-зиса Герлинга-Грудзинского созвучен интерпретации картины Джорджоне, предложенной Т.В. Сониной, согласно которой полотно можно разделить на две «половины» - «мужскую» и «женскую» [26. C. 139]1. «Мужская» часть картины связана с геометрической строгостью архитектурных форм, находящей соответствие в «определенности» и «однозначности» как жизненном принципе Лукаша Клеба-на. «Женская» половина «Грозы», наоборот, запечатлевает щедрую красоту природы и, следовательно, преобладание живописного начала над линейным. Двухчастность композиции является определяющим признаком поэтики Герлинга-Грудзинского2. Эта особенность отражает христологический закон двуединства смерти и воскресения, поэтому и в картине Джорджоне, с точки зрения Герлинга- 1 См. в этом контексте сравнительную характеристику «сюжетных» и «концептуальных» интерпретаций «Грозы» Джорджоне в статье А.Б. Езерницкой [27]. 2 Помимо повести «Белая ночь любви», примерами двухчастной композиции являются книга «Иной мир» и «двухстворчатый» диптих «Створы алтаря» (1960), состоящий из рассказов-«створов» «Башня» и «Pieta dell’Isola». 365 Мальцев Л.А. Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном Грудзинского, «важнее всего... был пейзаж», одновременно показавший «бессмертие природы и смертность людей» [4. S. 95]. Увиденная в сюжетной перспективе повести «Белая ночь любви», картина Джорджоне символизирует два противоположных типа мироощущения - «мужской» и «женский». Представителем «мужского» типа, находящего соответствие в цивилизационном типе западной культуры, является Лукаш со свойственными ему «пограничными ситуациями» вины и смертного страха. «Женский» тип жизнеощущения, более близкий к природе и к цивилизационному типу Востока, воплощает Уршуля Клебан. Согласно интерпретации картины Джорджоне в повести Герлинга-Грудзинского, женщина, благодаря заложенной в ней природой «программе» деторождения, теснее, чем мужчина, связана с вечностью природы, следовательно, менее зависима от страха смерти. Ввиду структурирования повести Герлинга-Грудзинского по принципу бинарной оппозиции женское - мужское, на периферию авторского внимания отодвинуты мотивы гомосексуальности, играющие ведущую роль в новелле Манна «Смерть в Венеции». Однако, несмотря на то что этот текст немецкого прозаика упоминается только в связи с эпиграфом ко второй части, а сам Герлинг-Грудзинский в «Дневнике, писавшемся ночью» критически высказывается о новелле Манна как о «переоцененной» [19. T. 7. S. 425], тексты повести Герлинга-Грудзинского и новеллы Манна находятся в сложных диалогических отношениях. Сходство между ними определяется тем, что главным героем является европейская знаменитость преклонных лет, принадлежащая миру искусства, а также то, что происхождение героев является смешанным (у Лукаша Клебана польско-русское, у Уршули - польско-еврейское, у манновского героя Густава Ашенбаха - немецко-чешское). В обоих текстах Венеция является топосом лиминального испытания, что отражает мифологическую универсальность Венеции как города-«границы» между сушей и морем (в географическом смысле), между Востоком и Западом (в геокультурном), между жизнью и смертью (в смысле геометафизическом). Не менее существенны различия текстов Герлинга-Грудзинского и Манна. Густав Ашенбах, по сюжету новеллы, - одинокий вдовец, Лукаш Клебан - человек женатый, для которого его брак с Уршулей 366 Имагология / Imagology являетя экзистенциальной необходимостью. Ашенбах выступает в не соответствующей его высокому имиджу роли авантюрного героя, тогда как активность Лукаша ограничена критическим состоянием его здоровья. В новелле Манна вводится катастрофистский мотив эпидемии холеры, аналог которого отсутствует в повести Г ерлинга-Грудзинского1. Главным различием сопоставляемых текстов является образ Венеции и венецианцев. Герлинг-Грудзинский дистанцируется от произведения Манна, вероятно, по той причине, что психологически сложный образ Ашенбаха заслоняет образ Венеции, которая изображена с туристической точки зрения извне, что делает манновский образ города стереотипно-конвенциональным. Если природноархитектурный ансамбль Венеции, по неостроумной реплике анонимного матроса из новеллы Манна, характеризует ее как «город неотразимого очарования для человека образованного» [7. С. 169], то человеческий фактор вызывает отвращение Ашенбаха к «корыстному торгашескому духу этой падшей царицы» [7. С. 187]. Венецианцы в новелле Манна - лавоч
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 41
Ключевые слова
Герлинг-Грудзинский, Достоевский, Томас Манн, петербургский текст, венецианский текст, интертекстуальность, экзистенциализм, мужское - женское, Запад - ВостокАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Мальцев Леонид Алексеевич | Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | д-р филол. наук, профессор Института гуманитарных наук | lamaltsev23@mail.ru |
Ссылки
Мальцев Л.А. Между Россией и Западом: традиция экзистенциализма в творчестве Г. Герлинга-Грудзинского. М. : Изд-во БФУ им. И. Канта, 2008. 242 с.
Wisniewska L. Kopmaratystyka wieloaspektowa: (zlozony) model i (wielowymiarowa) praktyka porownania // Polonistyka wobec wyzwan wspolczesnosci. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. T. 1. S. 133-149.
Herling-Grudzinski G., Bolecki W. Rozmowy w Neapolu. Warszawa: Szpak, 2000. 360 s.
Herling-Grudzinski G. Biala noc milosci. Opowiesc teatralna. Warszawa : Czytelnik, 1999. 124 s.
Тургенев И.С. Собрание сочинений : в 12 т. М. : Гос. изд-во худож. лит., 1956.
Чехов А.П. Собрание сочинений : в 8 т. М. : Правда, 1970.
Манн Т. Новеллы. М. : Художественная литература, 1973. 384 с.
Достоевский Ф.М. Собрание сочинений : в 15 т. Л. : Наука, 1988-1996.
Доброхотов А. «Рука об руку идти в будущее»: русская литература в размышлениях Томаса Манна // Кёнигсберг - Калининград. Нобелевские лауреаты в диалоге со временем. Т. Манн, Г. Грасс, А. Солженицын, И. Бродский. Материалы междунар. науч. конф. Калининград : Кладезь, 2015. С. 39-49.
Николаенко О.Н. Эсхатологические мотивы петербургско-венецианского текста. Соотнесение Петербурга и Венеции в сознании русских реципиентов // Сибирский филологический журнал. 2014. № 2. С. 126-131.
Топоров В.Н. Италия в Петербурге // Италия и славянский мир. Советскоитальянский симпозиум in honorem professore E. Lo Gatto. М. : Ин-т славяноведения РАН, 1990. С. 49-81.
Ружицкий И.В. Текстообразующая функция слова «вдруг» в произведениях Ф.М. Достоевского // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2011. № 3. С. 18-25.
Gustaw Herling-Grudziski w Waszyngtonie - 1977 r. Multimedia. Kultura paryska. URL: http://kulturaparyska.com/pl/ludzie/pokaz/h/gustaw-herling-grudzinski/ multimedia?fbdid=IwAR251jYIUEK6Auc2PQiI-3OKSQI0o25HkHneALTWJ5FP2cVI RtWvv9V9bvw
Камю А. Собрание сочинений : в 5 т. Харьков : Фолио, 1998.
Вильк М. Лабиринт Герлинга // Герлинг-Грудзинский Г. Неаполитанская летопись. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2017. С. 5-36.
Лотман Ю.М. Символика Петербурга и проблемы семиотики города // Лотман Ю.М. История и типология русской культуры. СПб. : Искусство-СПб, 2002. С. 208-220.
Топоров В.Н. Петербургский текст русской литературы. СПб. : Искусство-СПб, 2003. 616 с.
Гуль Р.Б. Георгий Иванов // Новый журнал. 1955. № 42. URL: https://www.litmir.me/br/?b=130795
Herling-Grudzinski G. Pisma zebrane. Warszawa : Czytelnik, 1995-2002. T. 1-12.
Мальцев Л.А. Русский человек в творчестве Г. Герлинга-Грудзинского // Россия и русский человек в восприятии славянских народов. М. : Центр книги Рудомино, 2014. С. 360-371.
Nycz R. Sylwy wspolczesne. Wroclaw; Warszawa; Krakow : Wydawnictwo PAN, 1984. 154 s.
Луков В.А. Проспер Мериме. Исследование персональной модели художественного творчества. М. : Изд-во Моск. гумм. ун-та, 2006. 110 с. URL: https://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/monographs/Lukov_Merime/
Меднис Н.Е. Венецианский текст русской литературы // Меднис Н.Е. Сверхтексты в русской литературе. URL: http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=35&id=9
Меднис Н.Е. Смерть в Венеции // Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. URL: http://rassvet.websib.ru/text.htm?no=19&id=17
Ларошфуко Ф. и др. Суждения и афоризмы. М. : Политиздат, 1990. 384 с.
Сонина Т.В. Поэтическая трансформация мифа в картине Джорджоне «Гроза» // Миф в культуре Возрождения. М. : Наука, 2003. С. 135-143.
Езерницкая А.Б. Сюжетные и концептуальные аспекты интерпретации картины Джорджоне «Гроза» // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. 2015. № 1. С. 19-32.
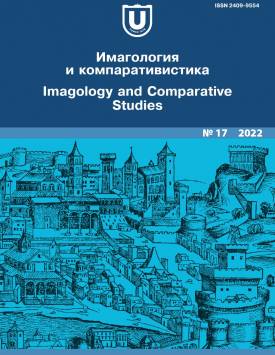
Между Ф.М. Достоевским и Т. Манном: петербургско-венецианский текст Г. Герлинга-Грудзинского «Белая ночь любви» | Имагология и компаративистика. 2022. № 17. DOI: 10.17223/24099554/17/17
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 889

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью