Русский нигилизм как источник американского объективизма (Рецензия на книгу: Weinacht A. Nikolai Chemyshevskii and Ayn Rand: Russian Nihilism Travels to America. Lanham: Lexington Books, 2021. 167 p.)
Рассматривается монография американского ученого, историка, профессора Западного университета Монтаны А. Вайнахта «Николай Чернышевский и Айн Рэнд: Русский нигилизм путешествует в Америку», в которой на примере двух авторов исследуется интеллектуальная история идей нигилизма, оказавшихся важными в разное время как для России, так и для США. Акцентируется внимание на историографическом аппарате работы, ее научной актуальности, новизне и основных методологических принципах анализа изучаемого явления.
Russian Nihilism as a Source of American Objectivism (Book Review: Weinacht, A. (2021) Nikolai Chernyshevskii and Ayn.pdf Книга А. Вайнахта «Николай Чернышевский и Айн Рэнд: Русский нигилизм путешествует в Америку» посвящена «интеллектуальной истории» идей русского нигилизма. Автор сосредоточивается на различных «контекстуально обусловленных» намерениях таких двух писателей, как Н.Г. Чернышевский и Айн Рэнд. При анализе 375 Григоровская А.В. Русский нигилизм как источник американского объективизма идей нигилизма ученый учитывает три компонента: авторский замысел, контекст и «непреднамеренные последствия» реализации идеи. Идеи русской эмигрантки, американской писательницы и философа Айн Рэнд (Алисы Розенбаум) (1905-1982) являются формальным продолжением русского разговора, берущего начало в 1860-е гг. - время формирования «нового режима дискурсивности», характеризующегося появлением художественных текстов, релевантных «не только для внутренней вселенной, представленной в тексте, но и для мира действительного» [1. С. 157-158]. Эта концепция своим обоснованием может считать недавно вышедшую публикацию американского ученого К.М. Шабарры, подготовленную совместно с русско-итальянским ученым П. Соловьевым, которая стала продолжением многолетнего исследования первого. Наибольший интерес представляет копия университетского диплома писательницы, предоставленная Центральным государственным архивом г. Санкт-Петербурга. Ее анализ позволяет авторам сделать вывод о том, что Рэнд была обучена методам диалектического исследования, что заложило фундамент для создания ею авторской системы объективизма [2]. Несмотря на то что книга Вайнахта не содержит ссылок на данный источник (он был опубликован позже выхода книги), очевидно, что он является подтверждением мыслей автора, хотя последний и не делает диалектический подход ключевым аргументом, связывающим Чернышевского и Рэнд (что, сразу заметим, является большим минусом данной работы). Русские корни Рэнд, безусловно, являются важным и перспективным объектом исследования, которому практически не уделяется внимания в современной науке. Нужно отметить, что речь идет не только о влиянии на творчество писательницы Чернышевского, но и о воздействии на нее русской интеллектуальной традиции в целом. Выявление такого рода влияний лежит в плоскости типологических схождений, которые обнаруживаются вовсе не в факте чтения Рэнд произведений Чернышевского, но в общем способе восприятия мира, свойственном обоим писателям. «Поразительное сходство» между двумя романами Рэнд и Чернышевского («Атлант расправил плечи» и «Что делать?»), на которое совершенно справедливо указывает Вайнахт, посвящая анализу этого явления целую книгу (но никак его не обосновывая), объясняется образованием, полученным писательницей в России. 376 Рецензии / Reviews Так, одним из основателей и преподавателей гимназии М.Н. Стоюниной, где с 1914 по 1918 г. обучалась Алиса Розенбаум, был выдающийся русский педагог и литературовед В.Я. Стоюнин. А. Вдовин и К. Зубков отмечают: «Нетрудно распознать в педагогике Стоюнина следование идее “реального образования”, а с точки зрения интерпретативных процедур - воздействие на него идей его старших современников Чернышевского и Добролюбова (“реальной критики”)» [3. С. 170]. Рэнд отмечала в своей письменной работе 1917-1918 учебного года, что поэма А.С. Пушкина «Евгений Онегин» позволила ей понять, что о героях следует судить по их поступкам. К.М. Шабарра делает вывод, что именно исходя из этой установки Рэнд и формулирует свою концепцию «мышления в принципах» [4. С. 66]. Чернышевский также опирается на диалектический метод, утверждая, что нет никакого конфликта между эгоизмом и альтруизмом. Снимая противоречия между конфликтующими сторонами, он, как и другие «шестидесятники» (например, Д.И. Писарев), выдвиагает альтернативу, интеграционное третье - соединение идей общинности и индивидуализма, которое может быть определено как «секулярная соборность». Недостатком работы также является та часть книги, в которой автор делает обзор степени изученности проблемы. Вайнахт упоминает в качестве основного источника, в котором представлена попытка связать Рэнд с русским контекстом, книгу К.М. Шабарры Ayn Rand: The Russian Radical (1995; 2013) [4]. Это, безусловно, классическая работа, которая может и должна считаться основной при изучении взаимосвязей Рэнд с русской традицией. При этом автор книги почему-то игнорирует работу, которая является очень важной для изучения данной темы, - биографию Б. Бранден 1986 г., хотя она содержит воспоминания самой писательницы о России, записанные автором «из первых уст» [5]. И, конечно, досадным упущением выглядит то, что автор книги, кажется, совершенно не знаком с русскоязычными исследованиями, посвященными русскому контексту жизни и творчества писательницы, в первую очередь речь идет о работе А. Эткинда [6], биографии Л. Никифоровой и М. Кизилова [7] и монографии А.В. Григоровской [8] (последняя полностью посвящена изучению взаимосвязей писательницы с русской литературой, а первая глава - идеям «разумного эгоизма» в ее романах). И если то, 377 Григоровская А.В. Русский нигилизм как источник американского объективизма что в работе нет упоминания о монографии, можно объяснить тем, і что она недоступна англоязычному читателю , то отсутствие ссылок на работы автора рецензии, опубликованные на английском языке, выглядит существенным пробелом [10-13]. Тем не менее перейдем к обзору самой книги. Первая глава «Утверждая нигилистскую аксиому. Разумный эгоизм Чернышевского, Писарева и Рэнд» посвящена анализу концепции «разумного эгоизма» - ключевой как для русских «шестидесятников», так и для американской писательницы и философа. Сравнивая интерпретации эгоизма в романах Чернышевского и Рэнд, Вайнахт резюмирует, что разные социально-политические тезисы двух авторов служат средствами для достижения одной и той же цели, а именно - реализации потенциала собственного «Я». Автор книги верно определяет главную задачу magnum opus писателей («Что делать?» и «Атлант расправил плечи») - заставить читателя задуматься о цели собственной жизни и демонстрирует, что их главные героини (Вера Павловна Ро-зальская и Дагни Таггерт) удовлетворяют собственные желания, реализуясь в выбранной профессии. Вайнахт обращается к работам Д.И. Писарева для дальнейшей иллюстрации сходств между концепциями эгоизма Рэнд и «шестидесятников», отмечая, что в работах Писарева, как и у Рэнд, делается акцент на свободе личности и обнаруживаются схожие основания для критики концепции Платона об «общем благе». В заключительной части первой главы автор работы обращается к понятию целостной личности, свободной от внутренних противоречий, наличествующей в работах Рэнд и русских «шестидесятников». Вайнахт цитирует эссе первой For The New Intellectual (1961), в которой она примиряет «человека мысли» и «человека дела». За скобками исследования остается важная мысль: концентрация Рэнд на антропологической проблеме должна быть включена в широкий контекст русской интеллектуальной культуры, в которой существовал разрыв между «ценностным» и «практическим» типами рациональности, а не постулироваться как продолжающая только лишь размышления русских «шестидесятников» о рассогласованности идеального и практического начал в человеке. 1 Хотя обзор монографии был представлен англоязычной общественности в следующей публикации: [9]. 378 Рецензии / Reviews Во второй главе «Героизм и творческий принцип как традиция нигилизма» автор книги обращается к теме синтеза искусства и жизни как специфической особенности русского нигилизма. Вайнахт справедливо утверждает, что центральное место в характерах Чернышевского и Рэнд занимает их стремление созидать материальные и духовные ценности. Конечной целью такого созидания должно стать «жизнетворчество», когда «все философские утверждения имеют непосредственное жизненное значение и все жизненные действия содержат предельные философские принципы»1 [14. P. 57]. Принцип творчества служит Вайнахту основанием для разделения героев Чернышевского и Рэнд на «творцов» и «паразитов». Общей для обоих авторов выступает позиция, исходя из которой «паразиты» недостойны существовать, так как они не выражают свое индивидуальное эго через акт творения. Американский ученый приводит в качестве примера слияния искусства и жизни такое научно-техническое изобретение, как «вечный двигатель» Джона Голта. Не совсем понятно, при чем тут нигилизм и Чернышевский: на наш взгляд, здесь очевидно влияние ренессансного типа мышления, который был воспринят на рубеже XIX-XX вв. интеллектуалами русской культуры Серебряного века [8. С. 129-130]. Тем не менее верным выглядит утверждение, что русские нигилисты вдохновили более поздних соцреалистов на понимание категории «реального» как того, что может быть «рационально предусмотрено» (на основе определенных принципов), и именно такое мировосприятие характерно для мировоззрения Рэнд. В завершающей части второй главы Вайнахт переходит к сопоставительному анализу двух центральных персонажей Чернышевского и Рэнд - Рахметова и Джона Голта, отмечая их экстраординарность, противопоставленную ординарности других героев. Ключевым моментом в сопоставлении «особенных людей» двух авторов выступает секуляризация религиозной идеи о дихотомии между «спасенными» и «потерянными». В третьей главе «Молодость, страдания и проблема Человекобога» автор книги продолжает развивать эту тему. Он утверждает, что 1 Перевод с английского автора рецензии. 379 Григоровская А.В. Русский нигилизм как источник американского объективизма Рахметов и Джон Голт представляют собой инверсию из парадигмы «бог, ставший человеком» (Иисус Христос) в парадигму «человек, ставший богом»1. Инверсия, как отмечает Вайнахт, обусловлена отказом «санкционировать необходимость страданий» [14. P. 89]. Автор книги, таким образом, включает Рэнд в контекст спора об Иисусе Христе, развернувшегося в 1860-х гг. в России. Главными действующими лицами спора были Ф.М. Достоевский и Н.Г. Чернышевский, представлявшие собой два лагеря - низводивших «Иисуса Христа до статуса обычного человека» и материалистов, «которые и вовсе сбросили Иисуса с парохода современности и заменили его другим сакральным прообразом - истовым революционером, которому предназначено возвестить эру справедливости под знаменем науки и прогресса» [15. С. 61]. Вайнахт касается в третьей главе эпизода, присутствующего в романах как Чернышевского, так и Рэнд. Речь идет об аллюзии на «распятого Христа», которую автор трактует как «очевидную отсылку к христианской традиции» [14. P. 101-102]. В попытках объяснить, зачем писатели вводят в свои романы данный религиозный образ, ученый высказывает предположение, что Рахметов и Голт страдают, чтобы остальным «новым людям» не пришлось этого делать. Попутно автор обвиняет обоих писателей в «непоследовательности» по отношению к неприятию страдания в качестве «искупительного принципа». Данное объяснение, конечно, выглядит довольно странным, если учесть, что Рэнд, как и Чернышевский, следует традиции антрополатрии (т.е. обожествления человека, свойственного русской интеллектуальной традиции) в рамках диалектического принципа (соединение религиозного и секулярного), а значит, и идея распятия у нее вообще не может трактоваться в парадигме страдания. Идеи французских христианских социалистов (В. Консидерана и Л. Фейербаха) об «улучшении» и практическом применении христианства активно обсуждались в кружке М.В. Петрашевского, который посещали Чернышевский и Достоевский в конце 1840-х гг. Айн Рэнд 1 Вайнахт также упоминает американского писателя в жанре фэнтези Терри Гудкайнда, который, будучи объективистом, воссоздает в своих книгах ту же парадигму, демонстрируя таким образом влияние русской интеллектуальной традиции уже на современную американскую масс-культуру [14. P. 112-114]. 380 Рецензии / Reviews же, в свою очередь, сознательно использует символ распятия в своем романе, о чем свидетельствует, например, фраза из заметок к «Атланту...»: «А знак доллара похож на знак креста - тайный символ героев и мучеников» [16. P. 560]. Аллюзия к образу страдающего Христа у обоих писателей поэтому объясняется символической «кристаллизацией» характера «особенного человека», своеобразным испытанием на прочность, а вовсе не является искупительной интенцией, как в ортодоксальном христианстве. Так, одним из подтверждений этого является постоянно возникающая в текстах метафора металла, которая сопровождает портретную характеристику Рахметова и Голта1. Четвертая глава «Любовь, секс и отношения» рассматривает функции гендерных отношений в романах Чернышевского и Рэнд. Автор книги приходит к выводу, что поскольку каждый аспект жизни героев наделен философским смыслом, то и сфера любви становится показателем прогресса на пути к рациональности. Ученый делает верное умозаключение о том, что взгляды Рэнд противоречат феминизму, так как она считает гендер «биологически обусловленным». Отметим, что конфликт между антропоцентрической концепцией объективизма, направленной на индивидуализацию человека, и ее этическим постулатом об асимметрии феминности и маскулинности достаточно подробно рассмотрен в классической работе Feminist Interpretations of Ayn Rand (1999) [17], ссылка на которую также отсутствует в тексте книги. Резюмируя, отметим, что на наш взгляд, автор книги на протяжении всего повествования допускает одну и ту же ошибку, заключающуюся в абсолютизации роли нигилизма в творчестве Рэнд. Ее философия и художественные тексты должны быть включены в широкий контекст русской интеллектуальной традиции, основным принципом которой выступает диалектический. Поэтому концепция Вайнахта выглядит упрощенной и схематичной: такому частному вопросу, как связи идей русского нигилизма и мировоззрения Рэнд, уделяется очень много внимания, тогда как роли остальных влияний (среди которых и вскользь упомянутое автором книги «русское ницшеанство») остаются совершенно не раскрытыми. Тем не менее сам факт обраще- 1 См. об этом: [8. С. 35]. 381 Григоровская А.В. Русский нигилизм как источник американского объективизма ния американской науки к такому вопросу, как воздействие русской традиции на взгляды Рэнд, искони считающейся американским философом и писательницей, выглядит важным революционным шагом к пониманию истинных истоков ее мировоззрения. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Ключевые слова
интеллектуальная история,
русский нигилизм,
Россия,
США,
Н.Г. Чернышевский,
Айн РэндАвторы
| Григоровская Анастасия Васильевна | Тюменский государственный университет | канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы | a.v.grigorovskaya@utmn.ru |
Всего: 1
Ссылки
Корчинский А. Форманты мысли: Литература и философский дискурс. М. : Языки славянской культуры, 2015. 288 с.
Sciabarra C.M., Solovyev P. The Rand Transcript Revealed // The Journal of Ayn Rand Studies. 2021. Vol. 21, № 2. P. 141-229.
Вдовин А., Зубков К Генеалогия школьного историзма: литературная критика, историческая наука и изучение словесности в гимназии 1860-1900-х годов // Новое литературное обозрение. 2020. № 4. С. 161-176.
Sciabarra C.M. Ayn Rand. The Russian Radical. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press, 2013. 477 p.
Branden B. The Passion of Ayn Rand. N.Y. : Doubleday & Company, 1986. 535 p.
Эткинд А. Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах. М. : Новое литературное обозрение, 2001. 496 с.
Никифорова Л.Л., Кизилов М.Б. Айн Рэнд. М. : Мол. гвардия, 2020. 333 с.
Григоровская А.В. Художественное творчество Айн Рэнд в русском контексте : монография. М. : ФЛИНТА, 2020. 268 с.
Kizilov M. Re-reading Rand through a Russian Lens // The Journal of Ayn Rand Studies. 2021. Vol. 21, № 1. P. 105-110.
Grigorovskaya A. V. The new type of hero in Ayn Rand’ s novels and Its historical roots // The Journal of Ayn Rand Studies. 2017. Vol. 17, № 2. P. 275-284.
Grigorovskaya A. V. Emigres on the October Revolution: The Suicide of Russia in the Novels of Ayn Rand and Mark Aldanov // The Journal of Ayn Rand Studies. 2018. Vol. 18, № 1. P. 43-54.
Grigorovskaya A.V. Ayn Rand’s “Integrated man” and Russian Nietzscheanism // The Journal of Ayn Rand Studies. 2018. Vol. 18, № 2. P. 308-334.
Grigorovskaya A. V. The representation of trauma in Ayn Rand’s novel Atlas Shrugged // The Journal of Ayn Rand Studies. 2019. Vol. 19, № 2. P. 243-258.
Weinacht A. Nikolai Chernyshevskii and Ayn Rand: Russian Nihilism Travels to America. Lanham : Lexington Books, 2021. 167 p.
Гивенс Дж. Образ Христа в русской литературе: Достоевский, Толстой, Булгаков, Пастернак : пер. с англ. СПб. : Academic Studies Press, 2021. 351 с.
Journals of Ayn Rand / ed. by D. Harriman. N.Y. : Plume Book, 1999. 659 p.
Feminist Interpretations of Ayn Rand / ed. by M.R. Gladstein and C.M. Sciabarra. Pennsylvania : The Pennsylvania University Press, 1999. 413 p.
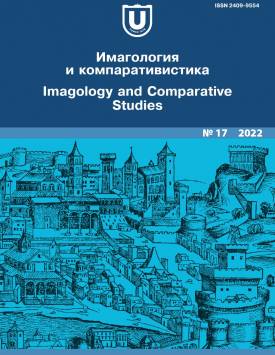

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью