В русской поэзии XVIII - начала XIX в. гвоздика ('цветок рода Dianthus’) появляется изредка и как атрибут определенных литературных ситуаций, заимствованных из западноевропейской лирики: прежде всего, в качестве одного из элементов цветочного идиллического каталога или части антитезы, противопоставляющей дикие и благородные цветы. Позднее актуализируется традиционная связь любовноэротической и цветочной тем, и гвоздика начинает выступать в качестве знака любовной страсти. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов. Автор выражает сердечную благодарность А.С. Белоусовой, А.А. Добрицыну, А. Шеле, Н.В. Перцову и И.А. Пильщикову, прочитавшим эту статью в рукописи, высказавшим ценные замечания и указавшим на неточности, которые удалось исправить. Особая признательность - М. В. Ослону за советы, консультации и поддержку.
The poetics of the carnation: The word and the image in Russian poetry from Trediakovsky to Brodsky (in the context of E.pdf Гвоздика в языке русской поэзии: от В. Тредиаковского до К. Случевского «Словарь пиитико-исторических примечаний» 1781 г., составленный А.Д. Байбаковым и включающий «вещи к изобретению и ра-зумножению в поэзии служащие», дает особый список «цветов приятных и трав». Среди них, четвертой по счету, находим гвоздику: «Тюлипанъ, Роза, Лилія, Гвоздика, Пацинтъ, Фіялка, Нарциссъ, Маеранъ, Васильки, Рута, Мята, проч.» [1. С. 48], но поэтических текстов XVIII столетия, где она бы упоминалась, обнаруживается чрезвычайно мало. Успехи гвоздики в русских садах и цветниках мало способствовали ее проникновению в литературу. Первые поэтические Dianthus ы фигурируют (правда, в непривычном словесном облике) в, наверное, самом раннем русском стихотворном идиллическом пейзаже [2. С. 131] - стихотворении «В сем месте море не лихо...» В.К. Тредиаковского из романа «Езда в остров любви» (1730). Следуя тальмановскому оригиналу и традиционной схеме описания locus amoenus (ветерок, зефиры - тихие воды, ручейки - ковер цветов и т. д.), переводчик дает серию конкретных растительных наименований: 9 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 В сем месте море не лихо, Как бы самой малой поток. А пресладкий зефир тихо, Дыша от воды не высок Розы, тюлипы, жасмины Благовонность испускают, Ольеты, также и крины. («В сем месте море не лихо...», [3. С. 102]). (= En ce lieu la Mer est paisible / Comme le plus petit Ruisseau; / Un doux Z[e]phir presque insensible, / Effleurant le deffus de l’eau De mille belles fleurs tous les bords sont remplis; / Les Jasmins, les Oeillets, les Roses, & les Lis / Etalent a l’envy leurs beautez nompareilles, / Et ne sont de ce lieu que les moindres merveilles [4. P. 11].) В этих стихах внимание современного читателя на себя обраща- 1 , ют тюлипы вместо тюльпанов (им, кстати, нет соответствия во французском оригинале), высокий, полученный через церковнославянское посредство грецизм крины, который поэты XVIII в. употребляли на равных с лилеями, но больше всего - ольеты, варваризм от фр. Millets ('гвоздики’)2. Слово, предложенное Тредиаковским, не вошло ни в русскую поэзию, ни в язык, и вообще не вполне ясно, чем поэт руководствовался при его выборе. Как мы помним, садовые цветы рода Dianthus стали зваться по-русски гвоздиками уже в XVII в., «Новый лексикон» (1764) С.С. Волчкова уверенно дает для Millet ‘цветок’ русское соответствие - гвоздика [5. C. 506, s.v. oeillet], так что вряд ли дело в незнании русского соответствия. Возможно, Тредиаковский счел гвоздику негодной для языка поэзии? В любом случае этот языковой эксперимент не нашел поддержки. Само же риторическое клише - серии, составленные из наименований изыс- 1 Ср. стилизацию С.М. Соловьева: «Под сень ветвистой липы / Взойдем на склоне дня, / Где скромно спят тюлипы, / Головки наклоня» («К Делии», 1906- 1909). Здесь и далее тексты цитируются по НКРЯ, если не указано иное. 2 Понятные и привычные жасмины в XVIII в. обычно назывались ясминами: «Но боле там ясмин пред прочими блистал, / И где царевна шла, навстречу вырастал» (И.Ф. Богданович. «Душенька. Книга вторая», 1775-1782). 3 Как мы уже заметили в разделе 1.2.3 части 1, les jasmins, les Millets, les roses, les lys, les viollettes часто соседствуют во французских поэтических текстах XVI-XVII вв. 10 Компаративистика / Comparative Studies канных, редких и благоухающих цветов, трав, деревьев - было стремительно освоено русской поэзией. Первые поэтические гвоздики обнаруживаются сорока годами позже и тоже в переводе. М.Н. Муравьев переложил экспромт [6. C. 89] Мадлены де Скюдери, написанный будто бы в Венсенском замке в момент созерцания гвоздик, выращенных Великим Конде (Людовик II де Бурбон, принц Конде; 1621-1686). Заточенный по приказу Мазарини полководец, к удивлению гостей, занимался в неволе садоводством: Гвоздики видя те, что воин возрастил Победоносною своей всегда рукою, Воспомни, что стеной вкруг ограждал Феб Трою, И не дивись тому, что Марс садовник был. («Стихи г-жи Скюдери на гвоздики, саженные князем Конде», [7. C. 280]). (= En voyant ces raillets qu’un illustre Guerrier / Arrosa d’une main qui gagna des batailles, / Souviens-toi qu’Apollon batissoit des murailles, / Et ne t’etonne point que Mars soit Jardinier [8. P. 482].) Здесь наши цветы не деталь идиллического пейзажа, а элемент бытовой, не условно-поэтической реальности. Во второй половине 1750-х душистая гвоздичка встречается в прямом значении в идиллии А. А. Нартова («Пучекроз нежных невеличек / К венку свяжу, / Вокруг снижу / Душистых ряд гвоздичек ». «Нисса», 1757) и как метафора женщины в эклоге А. Сумарокова «Калиста» (1759-1768). Атис безответно любит Калисту, а его самого любит Аль-физа, которая упрекает Атиса и зовет к себе: Покинь суровую, ищи другой любви И злое утоли терзание крови! Пускай Калиста всех приятнее красою, Но, зная, что тебя, как смерть, косит косою, Отстань и позабудь ты розин дух и вид: Всё то тебе тогда гвоздичка заменит! [9. C. 145]. То есть «забудь Калисту-розу (розин дух), люби меня, Альфизу-■ 1 гвоздику»! 1 См. также каталог цветов и плодов в притче «Иссея»: «Уже не веселятъ, Иссею, больше розы, / И тщетенъ гіяцинтъ, предъ нею, и тюльпанъ; / Не вкусны 11 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 Не случайно соседство розы и гвоздики. Цветы объединяют общие атрибуты (цвет, аромат, яркая красота), они же подсказывают мотив соперничества: гвоздика хотела бы превзойти розу, но не может. Сходством двух цветов объясняется и то, что гвоздика может выступать в поэтических контекстах субститутом розы - той же розой, но менее тривиальной. Так цветочный топос недолговечной юности и красоты, известный прежде всего в связи с розой, обнаруживается в четверостишии П.С. Молчанова (возможно, переводном), где не роза, а гвоздика выступает метафорой быстротечности жизни: Гвоздика поутру была безъ красоты, Когда листковъ своихъ еще не распускала, Къ полудню расцвѣла, а къ вечеру опала. Съ гвоздикой сходенъ кто? О смертный! это ты! («Гвоздика», 1787 [11. C. 224]). Это первое, насколько удалось установить, русское стихотворение, где название нашего цветка вынесено в заголовок. Как фигуральное обозначение женщин используются названия разных цветов, в том числе гвоздик, в опубликованном в «Полном собрании сочинений и переводов» (1802) стихотворении Е.И. Кострова «К бабочке». Насекомое здесь - аллегория любовного непостоянства (с эротическим подтекстом), порхает с гвоздики на розу, с розы на лилию, фиалку, незабудку: Лети и с нежностью гвоздичку поцелуй, Оставь ее и торжествуй Над целомудрием и розы и лилеи. («К бабочке», 1779-1796 [12. С. 188]). Во французском оригинале этого мадригала, установленном А.А. Добрицыным [13. С. 67-68], гвоздика не упоминается, там «мо-тыльку-волоките» поэт советует лететь от розы к новой розе. Расши-персиеи, не вкусны априкозы, / Противны стали ей и виноградны лозы, / Дающи нектары во вкусѣ разныхъ винъ. / На что гвоздики ей, нарциссъ, левкой, фіоля? / Испорченна совсѣмъ ея блаженна доля» [10. C. 255]. 12 Компаративистика / Comparative Studies рение источника у Кострова происходит путем внесения в заданный сюжет заготовленного традицией цветочного ряда. Любопытно, что бабочка сперва летит именно к гвоздике, а лишь после - к розе, это противоречит не только костровскому источнику, но и традиции то-поса «розы и летучего существа (соловья, зефира, мотылька и т.д.)» (формулировка Н. Мазур: [14. С. 346, примеч. 3]). В притче П.М. Карабанова «Лилия и другие цветы» (1792) реализуется тот же принцип аллегорического наименования: лилия ревнует к другим цветам, в том числе к гвоздике. В окружении разных цветов появляется гвоздика в оригинальном, насколько сегодня известно, стихотворении В. Л. Пушкина. Героиня, ожидающая свидания, обращается к «зефирам нежным» и молит о поруке в любовном деле, сравнивая себя с цветами: И васъ в природѣ все, зефиры, утѣшаетъ: Для васъ и скромная фіялочка цвѣтетъ, Для васъ свои листы и роза распускаетъ, Гвоздика поцѣлуев ждетъ. Я такѣ же жду теперь Милона моего. Зефиры нѣжные, несите мнѣ его! («Песня. Подражание древним», ) [15. С. 54]1). В «Херсониде» С. С. Боброва гвоздика вместе с розой, фиалкой и другими цветами украшает крымский пейзаж после дождя. Здесь в наших примерах впервые, хоть и перифрастически, дается указание на красный цвет гвоздики, которая снова соседствует в строке с розой: В фиалках, васильках душистых, В иссопе и подлесках нежных Синеет лучше цвет небесный; Алее в розах и гвоздиках Заря румяна торжествует; Желтей в подсолнечниках гибких 1 См. другое стихотворение В.Л. Пушкина с гвоздикой - «Совет огорченному» (): «Надѣйся и терпи: все время исцѣляетъ! / Зима пройдетъ, въ лугахъ гвоздика расцвѣтаетъ; / Судьба за горемъ вслѣдъ веселія даетъ, / И бурный вѣтръ подчасъ насъ къ пристани ведетъ» [15. С. 94]. 13 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 Играет солнца луч златый; Ясней в лилеях поражает Млечнъіх белизна облачков. («Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсонисе Таврическом», , [16. С. 152]). У Боброва и других авторов XVIII в. можно заметить условность и скупость в изображении гвоздики и прочих цветов. Они характерны для всех поэтических «букетов» - простых перечислений, которым довольно самых общих эпитетов, свободно присовокупляемых к разным цветочным элементам. Душистый, нежный, ароматный -основные характеристики, которые могут быть приписаны любому члену цветочного ряда. Определения отчетливо абстрактны, как и сами детали пейзажа (не только цветы), - все они легко могут быть поменяны местами. И. Клейн описывал подобную отвлеченность в языке классицистической пасторали и идиллии: «..перед нами абстрактное единство, в котором затушевано и без того не слишком выраженное многообразие деталей», и элементы, в том числе цветы, подставляются «условно-поэтические» [17. С. 95-96]. Притом если роза, фиалка, лилия всё же имеют свои специальные закрепленные в традиции особые черты (гордость, скромность, нежность), эмблемами которых часто выступают, то гвоздика на этом этапе их лишена. Цветочные серии, включающие гвоздику, встречаются и в более поздних, разрабатывающих тот же антикизированный идеальный топос, белых амфибрахиях «Моей богини» (1809) Жуковского и ам-фибрахо-ямбическом пентаметре идиллии Дельвига «Дамон» (1821) [18. С. 58]. Потока дубравного И, струек с журчанием Мешая гармонию Волшебного шепота, Наводит задумчивость, Дремоту и легкий сон, Иль, быстро с зефирами По дремлющим лилиям, 14 Компаративистика / Comparative Studies Гвоздикам узорчатым, Фиалкам и ландышам Порхая, питается Душистым дыханием Цветов, ожемчуженных Росинками светлыми («Моя богиня», 1809 [19. C. 145]). Красивы тюльпан и гвоздика и мак пурпуровый, Ясмин и лилея красивы, но краше их роза; Приятны крылатых певцов сладкозвучные песни: Приятней полночное пенье твое, Филомела! Все ваши прекрасны дары, о бессмертные боги! Прекраснее всех красотою цветущая младость («Дамон», 1821 [20. C. 23]). «Моя богиня» - вольный, сильно расширенный и дополненный перевод философической оды Гёте «Meine Gottin» (это первое обращение Жуковского к творчеству немецкого поэта [21. C. 539]), но гвоздики (как и фиалки с ландышами) в русском тексте появляются по прихоти русского стихотворца и не находят соответствия в немецком оригинале. У Гёте упоминаются поименно только роза и лилия («Sie mag rosenbekranzt / Mit dem Lilienstengel / Blumentaler betreten »; = Она любит розой увенчанная / C лилиевым стеблем / В цветочные долины выходить). Идиллия Дельвига также связана с немецкоязычной предромантической культурой, хотя и не является переводом какого-либо конкретного текста (влияние С. Геснера, отразившееся в этой идиллии, отмечено в: [22. C. 82]). Укажем здесь на другие Dianthus’bi, связанные, прямо или косвенно, с немецкой поэтической традицией. Во-первых, на стихотворение «Гвоздика», опубликованное в «Вестнике Европы» в 1816 г. Его лирическому герою шутник Амур предлагает выбрать один цветок из множества, надеясь, что выбор падет на колючую розу: «Я розу взять было хотелъ; / Но хитрость зналъ его велику / Взялъ скромную себѣ гвоздику. - / “Вѣдь, роза лучше!” - Нужды нѣть, - / Сказалъ Амуру я въ ответь: - / Гвоздика мой любимой цвѣтъ» [23. C. 104]. Текст имеет примечание к заглавию: «Послана при переводѣ 15 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 из Нѣмецкаго Цвѣтника статьи О разведеніи гвоздикъ» и подписан «И-»1. Во-вторых, на «Прекрасный цвет» С.П. Шевырева - перевод “Das Btomlein Wunderschon” Гёте, опубликованный в «Северной лире» на 1827 год. В этом переводе в соответствии с подлинником фигурируют разные цветы, в том числе гвоздика. Усвоенный русскими лириками топос цветочных и вообще растительных перечислений и условность его языка были высмеяны в «Студенте» (1817) Грибоедова и Катенина, где Беневольский гордо читает Федьке свое поэтическое произведение, рифмующее розу и туберозу. Гвоздика тоже попадает в стихотворную строку: «(Продолжает) Как обновленный свет Собой украсит роза? Гвоздика, милый цвет, Тюльпан и тубероза Узорчатым ковром Блеснут пред томным взором? (Федьке) Сколько цветов поэзии! А? Федька. Нечего сказать, что много цветов-с». Набор и число растений, попадающих в цветочные списки, значительно варьировались. Идиллическая абстрактность в них соперничала с георгической2 любовью к подробностям, позволяющей заметно растягивать серии однотипных существительных, составляющих единый семантический ряд . 1 По предположению И.А. Пильщикова, вероятный автор этого стихотворения - казанский поэт Н.М. Ибрагимов (1778-1818). См. строки: «Есть Саша у меня въ Ка - ни / (Цари должны платить ей дани!)» [23. C. 106]. О каком «Немецком цветнике» и о какой статье из него идет речь в примечании, пока установить не удалось. 2 См. строки Вергилия в переводе С. Шервинского: «Прежде всего, дерева создает различно природа. / ветла мягколистная, тополь, / Гибкий дрок и с листвою седой серебристая ива. / Часть же деревьев растет, коль посажено семя: каштаны / Стройные, и в лесу высочайший Юпитеров эскул / С пышною кроной и дуб, что у греков оракулом признан. / Целый лес прегустой иные от корня пускают: / Вишня иль вяз, например; сам лавр парнасский - он тоже, / Маленький, тянется вверх, осенен материнскою тенью» [24. С. 78]. 3 См. уникальный в своем роде «дендрокаталог» Тредиаковского, включающий 11 видов деревьев: «Здесь береза, ольха, ясень, ель, шумит и клен; / Здесь тополь и липа; странных род совокуплен; / Всяк невреден дуб всегда; бук толь престарелый; / Друг и виноградный вяз; кедр младый, созрелый» («Все вы счастливы седмь крат солнцем освещенны...», «Аргенида», 1751). 16 Компаративистика / Comparative Studies Через полтора столетия И. Бродский, приверженец античной традиции, даст в «Холмах» (1962) последовательность из 15 флорони-мов, в том числе гвоздики: «Розы, герань, гиацинты, / пионы, сирень, ирис - / на страшный их гроб из цинка - / розы, герань, нарцисс, / лилии, словно из басмы, / запах их прян и дик, / левкой, орхидеи, астры, / розы и сноп гвоздик». Итак, гвоздика для поэтов конца XVIII - начала XIX в. являлась одним из цветов поэзии и элементом греко-римской или антикизи-рованной декорации. Притом само помещение гвоздики в такой контекст не могло опираться на собственно античные образцы, а было воспринято из европейской традиции (см. часть 1). Устойчивость псевдоантичного ореола вокруг гвоздики хорошо иллюстрирует решение А.Ф. Мерзлякова, дающего в переводе VI и VII эклог Вергилия в качестве аналога существительного baccar, baccaris (растение, денотат которого не установлен) именно Dianthus: О кроткій сынъ небесъ! - Склони нѣжнѣйшу длань, -Поля не ждутъ трудовъ, тебѣ готова дань: Гедеру блѣдную, и черныя гвоздики, Смѣющійся акантъ и розмарины дики! - И колыбель сама, твою лелѣя младость, Произраститъ цвѣты, очей твоихъ на радость! Погибнетъ всякъ недугъ, всѣ язвы, аспидъ злой! -Погибнутъ! - Всякой плодъ созрѣет самъ собой! 1 [25. С. 30-31]; (ср. позднюю редакцию, где строка с гвоздикой оставлена без изменений [26. С. 213]) (= At tibi prima, puer, nullo munuscula cultu / errantis hederas passim cum baccare tellus / mixtaque ridenti colocasia fundet acantho. ipsa 1 Ср. с переводом С. Шервинского, который транслитерирует baccar и colocasia, colocasiae из этого пассажа: «Мальчик, в подарок тебе земля, не возделана вовсе, / Лучших первин принесет, с плющом блуждающий баккар / Перемешав и цветы колокассий с аканфом веселым. / / Будет сама колыбель услаждать тебя щедро цветами. / Сгинет навеки змея, и трава с предательским ядом / Сгинет, но будет расти повсеместно аммом ассирийский» [24. C. 50-51]. 17 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 tibi blandos fundent cunabula flores, / occidet et serpens, et fallax herba veneni / Occident, Assyrium volgo nascetur amomum1.) В процитированном пассаже любопытен не только выбор гвоздики, но и постановка диких розмаринов на месте флоронима colocasia, colocasiae, обозначающего «индийскую кувшинку»2. В VII вергилиевой эклоге «Мелибей» Мерзляков сопровождает строчку с гвоздикой (тоже на месте baccar оригинала) специальным примечанием, сообщающим, что растение употреблялась как предохранительное средство от дурного глаза [25. С. 99, 102, примеч. 3]. Тирсисъ. Вѣнчайте пастухи Поэта молодого, Вѣнчайте лаврами къ досадѣ Кодра злаго, Да чувства зависти грудь гордую тѣснятъ! Но есть ли онъ польстилъ... хвала завистныхъ ядъ!.. Вѣнчайте пастуха волшебною гвоздикой. Коридонъ. О Делiя! Миконъ, ловецъ пустыни дикой [25. С. 63]3 (= Pastores, hedera crescentem ornate poetam, / Arcades, invidia rumpantur ut ilia Codro; / aut si ultra placitum laudarit, baccare frontem / cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.) Помещение гвоздики в античный контекст характерно не только для поэзии XVIII и XIX вв. И. Анненский венчает дочь Хирона гвоздикой в своей трагедии «Меланиппа-философ» (1901) («Ты венчанную гвоздикой / Дочь Хирона поборол »). У М. Кузмина в «Александрийских песнях» гвоздику бросает героиня на празднике 1 Латинский текст Вергилия здесь и далее цитируется по электронной библиотеке Perseus: http://www.perseus.tufts.edu/. 2 Обсуждение лексемы baccar и стоящего за ней растения, в том числе его аромата, но без отсылки к гвоздике, Мерзляков мог найти в комментированных изданиях. К сожалению, установить, какие именно материалы были доступны поэту, мне не удалось, возможно, он опирался на чью-то интерпретацию лексемы. 3 См. перевод С. Шервинского: «Вы увенчайте плющом, пастухи, молодого поэта - / Пусть же у Кодра кишки от зависти лопнут, - но если / Станет расхваливать он чересчур, наперстянкой натрите / Лоб мне, чтобы певца он не сглазил своими хвалами» [24. С. 61]. 18 Компаративистика / Comparative Studies Адониса («и когда на празднике Адониса я бросила тебе гвоздику, / посмотрел равнодушно своими светлыми глазами». «Их было четверо в этот месяц...», 1905-1908). Из маков и гвоздик сплетены венки для дионисийских обрядов у И. Эренбурга («Возлагая благовонные венцы / Из багровых маков и гвоздики, / В исступленной пляске девы и жрецы / Сбрасывали пышные туники». «Дионис», 1911). В этих примерах красная гвоздика, по-видимому, снова играет роль субститута красной розы, использование которой в греческих обрядах описано и задокументировано. Другой повторяющийся в литературе конца XVIII - начала XIX в. «гвоздичный» контекст устроен совершенно иначе: гвоздика не включается в ряд других, подобных ей, цветов, а противопоставляется одному или нескольким растениям. Первый такой обнаруженный пример - басня Ф.П. Ключарева «Подсолнечник и гвоздика» (1795). В саду подсолнечник с гвоздикою цвели И спор друг с другом завели: Подсолнечник гордился Своею высотой И красотой; Цветок хвалиться не стыдился, Что он душист родился. Во время распри той Ребята глупые на первого напали И расщипали; Другая часть с гвоздикою была: Красавица гвоздику сорвала Для украшения своей прелестной груди. Различье их сии показывают люди [27. С. 301]. Здесь реализуется традиционный топос «спора цветов» [28. С. 355-358, а также примеч. 63, 64], частый в том числе во французских баснях'. Второй пример - крохотная басня И.И. Дмитриева 1 Эта тема имеет самые разные вариации, см. например: «Роза и ананас» (между 1763 и 1767) В.И. Майкова, «Роза и лилея» (1792) А.И. Бухарского, «Фиалка и подсолнечник» () Н.Ф. Остолопова, «Цветы» (1816) И. А. Крылова о споре «цветов поддельных с живыми» и др. 19 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 «Полевой цветок и гвоздика» (1805), перевод “La Renoncule et L’ffiillet” Л.П. Беранже: Простой цветочек, дикой, Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой; И что же? От нее душистым стал и сам. - Хорошее всегда знакомство в прибыль нам [29. С. 233]. И у Ключарева, и у Дмитриева из свойств и черт гвоздики выделена «душистость». Сама же антитетическая композиция басни Беранже-Дмитриева позволяет вычленить дополнительные характеристики интересующего нас образа: гвоздика противопоставляется дикому цветочку (лютику во французском оригинале) как цветок декоративный, изысканный и ценный. Ключарев в своем тексте указывает место действия - это сад («В саду подсолнечник с гвоздикою цвели»). Похожая оппозиция (декоративные цветы vs полевые) обнаруживается, кстати, и в басне Александра Незабудкина (А.Н. Глебова) «Лопух в цветнике» («В цветник с тюльпанами, с нарциссами, с гвоздикой...», 1826?), где уже в заглавии дается место развертывания сюжета. Все эти детали вместе позволяют выделить вариацию образа гвоздики, отличную от описанной выше «античной». Если в тех примерах гвоздика произрастала в условном идиллическом пейзаже, окруженная прелестными цветами, сама по себе, то здесь перед нами садовое растение, требующее специального ухода, культивируемое и принадлежащее не только условной поэтической реальности. Такая декоративная гвоздика обнаруживается и вне басенного контекста и характерных для него антитез. Например, вместе с розой и гиацинтом гвоздика противопоставлена «обыкновенным» и немодным цветам в одноактной комедии для детей «Великодушие в низком состоянии», переделанной на русские нравы с западноевропейского образца1 и опубликованной в новиковском «Детском чтении для сердца и разума»: ЯВЛЕНИЕ VI. Лизанька. Ѳединька. Петръ несетъ корзинку со цвѣтами. 1 Об авторстве и источнике этого произведения см. [30. С. 106; 31. С. 146]. 20 Компаративистика / Comparative Studies Лизанька. Насилу ты пришелъ! - Ты долго заставляешь себя дожидаться. Петръ. Нѣтъ, сударыня; я торопился прійти какъ можно скорѣе. Вотъ цвѣты! (подает ей корзинку.) Лизанька. Подай мнѣ. - Фи! что это за дрянь! (бросаетъ корзинку.) Ѳединька И! сестрица, цвѣты право хороши; когда онѣ тебѣ не надобны, такъ я ихъ себѣ возьму. (подбираетъ цвѣты.) Петръ. Какая дрянь? У насъ во всемъ саду нѣтъ лу[ч]ше этих цвѣтовъ. - У васъ въ городѣ будто лучше есть? Лизанька. И конечно есть! гіацинты, розы, гвоздики [курсив источника; 32. С. 109-110]. В кругу декоративных цветов гвоздика появляется у Н. Иванчи-на-Писарева: «Тамъ роза, гіацинтъ, гвоздика, незабудка...» («Дитя и цвѣты») [33. С. 184]. А оппозиция садовые цветы (гвоздика, роза, лилия) vs дикие цветы присутствует в «Российском Жилблазе» (1814) В.Т. Нарежного: в рассуждении Гаврилы Симоновича Чистякова она становится частью развернутой метафоры, описывающей английские и немецкие трагедии. «Английские трагедии и списки их немецкие большею частию похожи на пространную долину, коей взор обнять не может. Там пенятся реки, кипят ручьи - подле болот, где квакают лягушки и шипят змеи. Прекрасные цветы - розы, лилеи и гвоздики - растут, перепутаны крапивою и репейником » [34. С. 367]1. Объединяет «античные» и «садово-декоративные» коннотации гвоздики послание П.А. Вяземского «К подруге» (1815), построенное на игре и постоянном переключении между эпикурейско-горацианским и «домашним» тоном. Вяземский обращается к жене, 1 Само противопоставление садовые / окультуренные растения vs дикие представляет собой риторическое клише. См., например, знаменитое суждение Пьетро Бембо о «Комедии» Данте, согласно которому она подобна красивому и большому полю пшеницы, где полезные травы перемешаны с вредными (“la sua Comedia giustamente rassomigliare ad un bello e spazioso campo di grano, che sia tutto d’avene e di logli e d’erbe sterili e dannose mescolato” [35. P. 73]). Ср. также с метафорой поэта-садовника, имеющей длинную культурную историю [36. C. 67-126]. 21 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 противопоставляя счастливую жизнь на лоне природы в Остафьеве шуму и суете света, и представляет усадьбу как своеобразный locus amoenus: Ты всё обозреваешь: Здесь мирты поливаешь, Гвоздику расправляешь, Склоненную к земли; А там тропу от спальни К беседке у купальни Прокладываешь ты! [37. C. 77]. Здесь происходит совмещение двух планов - реального и условно-поэтического сада - и если гвоздика может относиться к ним обоим, то мирты - только ко второму. Мерцание домашней реальности сквозь поэтическую завесу конституирует весь текст, в котором Карамзин предстает «бессмертным сыном Клии», а Батюшков -«сладкогласным Тибуллом». В целом, в текстах русских поэтов XVIII - начала XIX в. налицо «невысокий спрос» на поэтические гвоздики. Используя выражение А.Н. Веселовского, скажем, что емкость1 этого образа была еще невелика, облик цветка размыт, не определен и лишен конкретных черт и выраженного характера. Однако со второй четверти - середины XIX в. гвоздика все яснее концентрирует вокруг себя общие с розой любовно-эротические смыслы. Такая символика в поэтических текстах согласуется с основным значением гвоздики в «языке цветов», где дикая гвоздика служит знаком любовного томления («меня томитъ к тебѣ любовь» [39. C. 66]2), хотя первостепенной роли традиция селама играть не 1 См.: «Как зарождается и развивается символика цветов, без которой не обошлась ни одна народная или художественная поэзия? Качества местной флоры определили тот или другой выбор ; красота цветка выдвинули его перед другими, вызвали ряд ассоциаций; от емкости образа зависит их количество и разнообразие; на них-то и перенесен интерес, нередко образ цветка почти исчезает за подсказанным ему человеческим содержанием» («Из поэтики розы») [38. C. 132]. 2 В 1830 г. была опубликована книга Д.П. Ознобишина «Селам, или Язык цветов», основу которой составили, по признанию автора, сведения из немецко- 22 Компаративистика / Comparative Studies могла (в нем большинство цветов имеют те или иные любовные значения), важнее - продолжение процесса переноса на гвоздику традиционных значений розы. В “Cache-cache”1 (1828) Ф. Тютчева герой, ожидая возлюбленную, разглядывает ее комнату, где «гвоздики и розы стоят у окна» и стоят «недаром». Мотылек, что «влетел» в текст стихотворения в последней строфе и стал порхать с цветка на цветок, - очевидная отсылка к традиции, о которой уже шла речь выше. (См. также франкоязычное тютчевское стихотворение “Un reve” (1847), где лепестки красных розы и гвоздики из гербария оживляют воспоминание о былой любви.) В переводе Аполлона Майкова из Гейне «Ночи теплый мрак гвоздики...» (1857) (“Wie die Nelken duftig athmen!..”) гвоздики в соответствии с оригиналом тоже появляются как атрибут предстоящего любовного контакта («Сладкий трепет; робкий шепот, / Нега счастья и любви...»). И у Гейне, и Майкова отмечен аромат (“Nelken duftig”) цветка («Благовонием поят »), а кроме того, гвоздикам вновь сопутствуют розы и летучие существа - соловьи: “Und die jungen Rosen lauschen, / Und die Nachtigallen singen” (= И юные розы прислушиваются / И соловьи поют). Майков передает эти строки так: «И - внимательнее розы, / Вдохновенней соловьи»2. В другом переводе из Гейне - «Ратклифе» (1862-1865) М.Л. Михайлова - цветы, среди которых и гвоздика, сладострастно сливают-го издания “Die Blumenschprache, oder Bedeutung der Blumen nach orientalischer Art” (Berlin, 1823). Изучению «флоропоэтики» и рецепции «языка цветов» в России посвящены работы К.И. Шарафадиной (прежде всего: [40, 41]). 1 А.А. Николаев указывает, что Р. Лэйн интерпретировал это стихотворение Тютчева как переложение из Л. Уланда (“Nahe” (= Близость), “Ich tret in deinen Garten...”, 1809) [42. С. 375]. Комментаторы новейшего издания эту связь не упоминают [43. С. 317], хотя сходство ситуаций в двух стихотворениях действительно заметно. Для нас важно, что в более коротком тексте Уланда (12 строк) тоже фигурируют мотылек (первый катрен) и цветы (второй катрен), которые, однако, не конкретизированы, упоминается лишь «цветочный аромат» (“Und mit den Blumenduften ”). 2 Ср. также с более поздним, но близким майковскому, переводом Петра Вейнберга: «Чудный запахъ льютъ гвоздики, / Робкій шопотъ, сладкій трепетъ, / Ласки нѣжныя любви - / И подслушиваютъ розы, / И рокочутъ соловьи» [44. С. 175-176]. 23 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 ся в экстатическом порыве, и переводчик, следуя за оригиналом, олицетворяет их: С нежностью любви Фиялки любовались друг на друга; Один к другому припадали страстно Венцы лилей; порывисто дышали, В горячей неге замирали розы; Огнём вилось дыхание гвоздик, -И все цветы в благоуханьи млели, Все обливались страстными слезами, Шептали все: «Любовь! любовь! любовь!» [45. С. 258-259] . (= Es stiegen Nebelbilder aus den Feldern, / Umschlangen sich mit weiben, weichen Armen; / Die Veilchen sahn sich zartlich an, sehnstichtig / Zusammenbeugten sich die Liljenkelche; / Aus allen Rosen gltihten Wollustgluthen; / Die Nelken wollten sich im Hauch entztinden; / In sel’gen Dtiften schwelgten alle Blumen, / Und alle weinten stille Won-nethranen, / Und alle jauchzten: Liebe! Liebe! Liebe! [46. S. 136].)1 Здесь следует обратить внимание на новую характеристику аромата / дыхания гвоздики как огненного (“Die Nelken wollten sich im Hauch entztinden”). Цветочный пейзаж из «Ратклифа» дает возможность составить общее впечатление о «насыщенной цветочности» Гейне (формулировка И. Анненского [47. С. 403]), который имел исключительное влияние на русскую лирику второй половины XIX в. Из поэзии Гейне усваивается новая трактовка традиционной связки любовноэротической и цветочной темы, заметно более аффективная и чув-ственная2. Гвоздика на фоне прочих цветов начинает выделяться 1 Ср. также перевод Вейнберга: «Фіалки съ нѣжностью смотрѣли другъ на друга, / Г орѣли розы нѣгой сладострастной, / Въ истомѣ лиліи одна къ другой клонились, / Благоуханіемъ гвоздики загорались, / Въ блаженномъ запахѣ покоились цвѣты, / И плакали всѣ сладкими слезами, / И пѣли всѣ: Любовь! Любовь! Любовь!» [44. С. 113]. 2 См. также у Веселовского: «Роза и лилия как-то затерялись среди экзотической флоры современной поэзии, но еще не увяли и по-прежнему служат тем же целям символизма, выразителями которого были в течение веков. Средство 24 Компаративистика / Comparative Studies прежде всего своим особенным ароматом (эта характеристика, вероятно, подкреплена связью с гвоздикой-пряностью) и алым цветом: и обе эти черты приобретают устойчивую связь с пламенем (традиционную для розы, которой свойственно «пылать», вплоть до почти стертой метафоры «пылают розы щек»). Выглядящее тривиальным сегодня сравнение огня и гвоздики, по всей видимости, не было таковым в XIX в. Во всех обнаруженных и рассмотренных примерах XVIII-XIX вв. поэтические гвоздики «пылают» и «горят» только у почитателя Гейне К. Случевского1: « Снег под ногами хрустит; / Рядом со снегом, что пурпур, / Кустик гвоздики горит; Дружно пылают гвоздики, / Рдеют с бессчетных вершин » («Мурманские отголоски», 1889). Позже связь гвоздики и огня становится устойчивой. См., например, строку В.И. Нарбута: «И горели гвоздикой куртины («Вишня», 1909), - и многочисленные примеры из Бальмонта в следующей части. Позднее клишированный мотив пародируется у Маяковского в «Клопе» (1928): «Гвоздика огня / и дымная роза // гарантируют / 100 / процентов / склероза» (антитабачная агитка). У П.Д. Бутурлина в одном из стихотворений цикла «Подражания тосканским мадригалам XIV в.» (1880-1893; итальянские источники не установлены) эффект пряного гвоздичного аромата сравнивается с любовным мороком, а также возникает знакомая нам уже цветочная тема быстротечности и хрупкости красоты («Гвоздика красная, твой запах, как любовь, / Он мысли путает, спирает в горле дух... / Лишь день один блеснуть всем блеском красоты?». В шутливом стихотворении В.В. Гофмана «В альбом» (1901) лирический герой ищет цветок, подходящий для сравнения с дамой, и отвергает гвоздику потому, что она «шаловлива»: «Нет, шаловливою гвоздикой / Я не решаюсь вас назвать, / Ведь, право, было б слишком дико / Вам шаловливость приписать». В более поздних текстах, уже не связанных с иноязычными традициями, гвоздика может выпол-осталось, содержание символа стало другое, более отвлеченное, личное, нервное, расчленяющее; многие из образов Гейне были бы непонятны поэтам, певшим о розовой юности (rosea juventa) и создавшим эпитет “лилейный”» [38. С. 132]. 1 О цветах Г ейне в связи с поэзией К. Случевского писала Леа Пильд (см.: [48. С. 159-160]). 25 Полилова В.С. Поэтика гвоздики: слово и образ в русской поэзии... Часть 2 нять роль ясного знака плотской любви, как в стихотворениях Софии Парнок и Игоря Северянина: И не по-женски страстная рука Сжимает выгиб семиструнной лиры... Гвоздики темные. От солнца ль томный жар? (С.Я. Парнок. «О, чудный час, когда душа вольна...», 1917) И алостью дикой гвоздики Покрылась земля, где твоим Ставал под усладные всклики, Где двое ставали одним... (Игорь Северянин. «Диво», 7 сентября 1933) - и опять же у Бальмонта (см. часть 3). В завершение этой части, хочу обратить внимание читателя на рифму гвоздика : дико, использованную в стихотворении Гофмана. Эта пара и ее вариации (гвоздика/гвоздик : дикий/дик и т.п. и обратный порядок) относится к числу исключительно устойчивых рифменных пар в русской стихотворной традиции: она использована в подавляющем большинстве тех случаев, когда гвоздика попадает в рифменную позицию. Мы уже видели ее в наших примерах: в басне «Полевой цветок и гвоздика» (1805) Дмитриева, который, видимо, первым нашел эту рифму («Простой цветочек, дикой, / Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой»), дважды у Мерзлякова в переводах эклог Вергилия (1807) («Гедеру блѣдную, и черныя гвоздики, / Смѣющійся акантъ и розмарины дики!»; «Вѣнчайте пастуха волшебною гвоздикой / О Делiя! Миконъ, ловецъ пустыни дикой »), у Бродского (« запах их прян и дик, / левкой, орхидеи, астры, / розы и сноп гвоздик»). Вот некоторые другие случаи употребления этой пары: У ног его немой и дикий Утес в расщелине любовно приютил Цветок малиновой гвоздики (Д.С Мережковский. «На Тарпейской скале», 1884) Нет ни единого в небе луча. Вихри ненастные мечутся дико. 26 Компаративистика / Comparative Studies В темных стенах, на груди, у плеча, Красная, красная сохнет гвоздика. (Д.М. Цензор. «Красная гвоздика», 1906). Развязен вид, и вовсе мне не дики Нескромный галстук, красные гвоздики... (Г.В. Иванов. «Еще с Адмиралтейскою иглой...», 1912). Ах, не говорите: «Кровь из раны». Это - дико! Просто избранных из бранных одаривали гвоздикой. (В.В. Маяковский. «Великолепные нелепости», 1915). Лугом пройдешь, как садом, Садом в цветенье диком, Ты не удержишься взглядом, Чтоб не припасть к гвоздикам. Лугом пройдешь, как садом. (С.А. Есенин. «Воздух прозрачный и синий...», 1925). Нет, не про Фергали с его гвоздикою -Я про пустыню думаю про дикую (К.М. Симонов. «Гвоздика», 1960).
Аполлос (= Байбаков А.Д.). Словарь пиитико-исторических примечаний <..>: В пользу юношества обучающагося поезии в семинарии Троицкой. М. : Унив. тип., у Н. Новикова, 1781. 51 с.
Эпштейн М.Н. «Природа, мир, тайник вселенной..»: Система пейзажных образов в русской поэзии. М. : Высшая школа, 1990. 302 с.
Тредиаковский В.К. Избранные произведения / вступ. статья и подгот. текста Л.И. Тимофеева, примеч. Я.М. Строчкова. Л. : Сов. писатель, 1963. 577 с.
Recueil de quelques pieces nouvelles et galantes. 1re partie. Cologne : Pierre du Marteau, 1667. 235 p.
Новый вояжиров лексикон на французском, немецком, латинском и российском языках / пер. С. Волчкова. Ч. II: С литеры G до конца алфавита. СПб. : Имп. Акад. наук, 1764. 1282 с.
Топоров В.Н. Из истории русской литературы. Т. II: Русская литература второй половины XVIII в. Исследования, материалы, публикации. М.Н. Муравьев. Введение в творческое наследие. Кн. II. М. : Языки славянской культуры, 2003. 921 с.
Муравьев М.Н. Стихотворения / вступ. статья, подгот. текста и примеч. Л.И. Кулаковой. Л. : Сов. писатель, 1967. 387 с.
Bibliotheque Poetique, ou nouveau choix des plus belles pieces de vers en tout genre, depuis Marot jusqu’aux poetes de nos jours: avec leurs vies et des remarques sur leurs ouvrages. Paris : Briasson, 1745. T. 2. 542 p.
Сумароков А.П. Избранные произведения / вступ. статья и примеч. П.Н. Беркова. Л. : Сов. писатель, 1957. 608 с.
Сумароков А.П. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. М.: Унив. тип., у Н. Новикова, 1781. Ч. VII. 377 с.
Молчанов П.С. Гвоздика // Распускающийся цветок, или Собрание разных сочинений и переводов <..>. М., 1787. C. 224. Подпись: «П. Мол.»
Поэты XVIII века : в 2 т. Л. : Сов. писатель, 1972. Т. 2. 592 с.
Добрицын А.А. Вечный жанр: западноевропейские истоки русской эпиграммы XVIII - начала XIX века. Bern : Peter Lang, 2008. 560 с. (Slavica Helvetica; vol. 79).
Мазур Н.Н. Еще раз о деве-розе (в связи со стихотворением Баратынского «Еще как патриарх не древен я..») // Пушкинские чтения в Тарту. Вып. 4: Пушкинская эпоха: проблемы рефлексии и комментария. Тарту : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2007. С. 345-378.
Пушкин В.Л. Сочинения / изд. под ред. В.И. Саитова. СПб. : Евг. Евдокимов, 1893. 158 с.
Поэты 1790-1810-х годов. Л. : Сов. писатель, 1971. 911 с.
Клейн И. Пути культурного импорта: Труды по русской литературе ХѴІІІ века. М.: Языки славянской культуры, 2005. 576 с.
Шапир М.И. Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина: (О формальносемантической деривации стихотворных размеров) // Philologica. 1994. Т. 1, № 1/2. С. 43-107.
Жуковский В.А. Полное собрание сочинений и писем : в 20 т. М. : Языки русской культуры, 1999. Т. 1. 760 с.
Дельвиг А.А. Сочинения / сост., вступ. ст., и комм. В.Э. Вацуро. Л. : Худож. лит., 1986. 470 с.
Жирмунский В.М. Гете в русской поэзии // Литературное наследство. Т. 4/6: Гете. М. : Журнально-газетное объединение, 1932. С. 505-650.
Данилевский Р.Ю. Россия и Швейцария: Литературные связи XVIII-XIX вв. Л. : Наука, 1984. 276 с.
Гвоздика // Вестник Европы. 1816. Ч. 86, № 5. С. 103-106. Подпись: «И -» (Н.М. Ибрагимов?).
Вергилий. Буколики: Георгики: Энеида / пер. с лат., вступ. статья М. Гаспарова, комм. Н. Старостиной и Е. Рабинович. М. : Худож. лит., 1979. 550 с.
Мерзляков А.Ф. Эклоги П. Виргилия Марона. М. : Дубровин и Мерзляков, 1807. 96 с.
Мерзляков А.Ф. Подражания и переводы из греческих и латинских стихотворцев. М. : Унив. тип., 1826. Ч. 2. 359 с.
Поэты ХѴШ века : в 2 т. Л. : Сов. писатель, 1972. Т. 1. 623 с.
Алексеев М.П. Споры о стихотворении «Роза» // Алексеев М.П. Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. Л. : Наука, 1972. С. 326-377.
Дмитриев И.И. Полное собрание стихотворений / сост., вступ. статья и комм. Г.П. Макогоненко. Л. : Сов. писатель, 1967. 502 с.
Привалова Е.П. Социальная проблема на страницах журнала Новикова «Детское чтение для сердца и разума» // XVIII век. Л. : Наука, 1976. Сб. 11. С. 104-112.
Сетин Ф.И. История русской детской литературы: Конец X - первая половина XIX в. М. : Просвещение, 1990. 301 с.
Детское чтение для сердца и разума. М., 1786. Ч. VI. 192 с.
Иванчин-Писарев Н.Д. Сочинения и переводы в стихах. М. : С. Селивановский, 1819. 331 с.
Нарежный В.Т. Избранные сочинения : в 2 т. М. : Худож. лит., 1983. Т. 2. 478 с.
Antologia della critica letteraria: dantesca e storica. Firenze : Le Monnier, 1969. T. 1. 513 p.
Сазонова Л.И. Память культуры: Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2012. 471 с.
Вяземский П.А. Стихотворения. Л. : Сов. писатель, 1958. 507 с.
Веселовский А.Н. Из поэтики розы (1898) // Веселовский А.Н. Избранные статьи. Л. : ГИХЛ, 1939. С. 132-139.
Ознобишин Д.П. Селам, или Язык цветов. СПб. : Деп. нар. просвещения, 1830. 132 с.
Шарафадина К.И. «Алфавит Флоры» в образном языке литературы пушкинской эпохи: Источники, семантика, формы. СПб. : Петербург. ин-т печати, 2003. 309 с.
Шарафадина К.И. Селам, откройся!: Флоропоэтика в образном языке русской и зарубежной литературы. СПб. : Нестор-История, 2018. 543 с.
Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л. : Сов. писатель, 1987. 446 с.
Тютчев Ф.И. Полное собрание сочинений и письма : в 6 т. М. : Классика, 2002. Т. 1. 525 с.
Гейне Г. Полное собрание сочинений / под ред. и с биограф. очерком П. Вейнберга. 2-е изд. СПб. : А.Ф. Маркс, 1904. Т. 5. 407 с.
Михайлов М.Л. Собрание стихотворений / вступ. ст., подгот. текста и примеч. Ю.Д. Левина. Л. : Сов. писатель, 1969. 620 с.
Heine H. Sakularausgabe: Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse, Bd. 1: Gedichte 1812-1827 / Bearbeiter H. Bohm. Berlin : Akademie-Verlag, Paris: Editions du CNRS, 1979. 272 S.
Анненский И. Книги отражений. М. : Наука, 1979. 679 с.
Пильд Л. Гейне в литературном диалоге К. Случевского и Вл. Соловьёва // «На меже меж Голосом и Эхом»: Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян / сост. Л.О. Зайонц. М. : Новое издательство, 2007. C. 156-164.
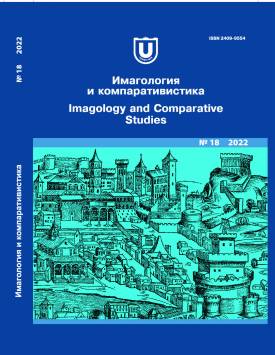

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью