Вечноженственные образы, связанные с теофанией, занимают важное место в системе эстетических взглядов Вяч. Иванова. Однако при единстве сюжетной и мотивно-образной составляющей природа Вечноженственного в конкретных стихотворениях Иванова проявлена по-разному. Согласно гипотезе, высказанной в статье, в двух книгах стихов поэта, «Кормчие звезды» и «Прозрачность», объединенных метасюжетом мистического откровения, происходит постепенное «развеществление» художественного образа от конкретно-явленного к своеобразному «присутствию». Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Poetics of theophany in Kormchiye zvyozdy (1902-1903) and Prozrachnost’ (1904) by Vyacheslav Ivanov: Trans.pdf Одно из центральных мест в системе эстетических взглядов Вяч. Иванова занимают образы Вечноженственного и связанные с ними символические мотивы и сюжеты, в частности, мотивы теофании, постоянного предчувствия, ожидания и уже свершившегося и свершающегося каждый миг явления Божественного. «При каждом взгляде на окружающее, при каждом прикосновении к вещам должно осознавать, что ты общаешься с Богом, что Бог предстоит тебе и Себя открывает, окружая тебя Собою; ты лицезришь Его тайну и читаешь Его мысли» [1. С. 806], - записывал он в дневнике (1910, 14 апреля). Это представление о Божественном в мире, сопровождающее различные проявления творческой мысли Иванова в разные периоды жизни, во многом восходит к средневековой теософии, для которой теофания была «явлением», естественнейшим в мире, но оттого не менее таинственным и многозначащим. Комментируя его, Л.П. Карсавин писал: «Все сущее, живое, разумное и умное предстает нам, как теофания или Богоявление: все - даже самое мерзкое и ничтожное, ибо мерзко и ничтожно оно только для нашего неведения или недоверия, сотворено же “добро зело”» [2. С. 26]. Но, продолжал он далее, «теофания, будучи Божеством, не есть само Божество в непостижимой и несказуемой полноте Его», ибо «образ Божий столь же непостижим, как и само Божество» [2. С. 29]. Аналогичную мысль не раз выражали средневековые мистики, используя при этом образ зеркала, заявленный еще в Евангелии. Бернар 96 Компаративистика / Comparative Studies Клервосский, весьма уважаемый Ивановым1, говорил: «Почивая в созерцании, душа видит Бога во сне (somniat), видит в зерцале и гадании, а не лицом к лицу (курсив авторов. - Л.М., Е.С.)» (цит. по: [3]). У Э. Сведенборга читаем: «...ибо сотворенная Вселенная не есть Бог, а только происходит от Бога; и что потому именно, что она от Бога, в ней есть Образ Его, подобно образу человека в зеркале, в котором хотя и кажется человек, но со всем тем нет ничего от человека» [4. С. 47]. Но отсюда открывается и путь к постижению непостижимого. «Человек так устроен, - комментирует св. Бернара современный исследователь, - что он не может подняться до умопостигаемых вещей иначе, чем с помощью чувственных вещей. Бог, зная это свойство человеческой природы, использовал его и при Своем воплощении. Слово стало плотью, и “тем, кто плотски разумеет, Он принес Свою плоть, чтобы они научились разуметь и Дух”» [3]. Этот комментарий, в свою очередь, подтверждает высказывание еще одного великого мистика средневековья, Майстера Экхарта: «Кто Богом так, в сущности, обладает, тот воспринимает Бога Божественно, и для того Он сияет во всем, ибо все вещи отдают для него Богом, и из всех вещей ему является Бог» [5. С. 19]. Таким образом, теофания в понимании ее апологетов и толкователей двунаправлена: она исходит от Бога, от Высшего мира, всецело определяясь Им, но ее узрение земными существами зависит от их открытости навстречу тайне. Сразу отметим, что явление Божественного у Иванова напрямую связано с волей воспринимающего субъекта, с возможностью и способностью «вчувствования» в окружающий мир. Поэтический дар и само поэтическое слово становятся частью, следствием этой коммуникации с миром / с Божественным. Классический для ивановедения пример - стихотворение «Красота»: Вижу вас, божественные дали, Умбрских гор синеющий кристалл! Ах! там сон мой боги оправдали: 1 В 1902 г. (дата установлена О. Дешарт приблизительно) Иванов записал в дневнике: «Читаю св. Бернара. Хотелось бы установить мне связь Богоматери и Древа Жизни» [1. С. 771]. 97 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова Въяве там он путнику предстал... «Дочь ли ты земли Иль небес, - внемли: Твой я! Вечно мне твой лик блистал». - «Тайна мне самой и тайна миру, Я, в моей обители земной, Се, гряду по светлому эфиру: Путник, зреть отныне будешь мной!» [6. С. 517]. Стихотворение открывает первый цикл первой книги стихов Иванова «Кормчие звезды» (1902-1903), именно здесь, как бы в абсолютном истоке творческого пути поэта, обозначаются центральные мотивы теофании, прозрения, обретения особого видения и инспирации, а вместе с тем образ Красоты - это первое представление нам Вечноженственного начала, получающего множественные воплощения в лирике Иванова. При этом, как отметил Н.В. Котрелев, особое видение, приобретаемое героем, означает ведание, постижение тайны, а «обретение дара предполагает самоотверженное согласие на приятие дара (“.. .внемли: Твой я!”) и в то же время встречное усилие при получении его» [7. С. 9], только поэтому становится возможна коммуникация с Красотой (первая реплика, что показательно, принадлежит лирическому герою). Теофания как сюжет, организующий произведение, подсказывает форму, релевантную предмету, - форму экфрасиса (в широком смысле этого термина). Об этом пишет М. Цимборска-Лебода, истолковывая экфрасис как основной метод поэзии Иванова: «Экфра-стичность в широком значении слова считается здесь имманентной чертой поэзии вообще и символической поэзии в частности, а экфра-стическая установка - назначением поэта, призванного создать своего рода миметический эффект, согласно символистскому пониманию целостности коммуникативного акта (ср.: “Итак, нас символистов, нет - если нет слушателей-символистов”)» [8. С. 55]. Однако при экфрастической природе поэзии Иванова вообще и стихотворений, связанных с теофанией, в частности, при единстве сюжетной составляющей природа Вечноженственного в конкретных стихотворениях проявлена по-разному. 98 Компаративистика / Comparative Studies Рассматривая теофанию в рамках коммуникативной модели, А.М. Прилуцкий выделил две ее формы в культуре: символикоаллегорическую и знаково-символическую [9]. Первый тип реализуется в мифе, в поэзии рефлективного традиционализма, когда определенный набор знаков, необычных природных явлений позволял атрибутировать бога и его появление перед человеком. Второй тип не связан с необычными обстоятельствами, выпадающими из повседневности. Ярчайший образ «естественной» теофании дан в Библии: «Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра, и там Господь» (Цар. 19:11-12)'. «Символическая теофания, -рассуждает А.М. Прилуцкий, - формирует особую герменевтическую ситуацию: поскольку явление божественного носит сокровенный характер, символ реального богоприсутствия должен быть воспринят и правильно проинтерпретирован человеком» [9. С. 15]. «И когда на высших ступенях восхождения совершается видимое изменение, претворение восходящего от земли и земле родного, тогда душу пронзает победное ликование, вещая радость запредельной свободы» [6. С. 823], - писал Иванов в одной из классических работ «Символика эстетических начал» (ср. у Бернара Клервосского: «через внезапное восхищение возлетает на высоту» (цит. по: [11. С. 43]). Итак, теофания высшего символического рода связана не со зримым, а с прозрением, не с ощущаемым, а с развитой способностью вчувствования и вслушивания. «Он утончит слух, и будет 1 См. также аллюзию на данный отрывок в стихотворении Вл. Соловьева «В стране морозных вьюг, среди седых туманов...» (1882): Вот грохот под землей и гул прошел далеко, И меркнет солнца свет, И дрогнула земля, и страх объял пророка, Но в страхе Бога нет. И смолкло все, укрощено смятенье, Пророк недаром ждал: Вот веет тонкий хлад, и в тайном дуновенье Он Бога угадал [10. С. 32-33]. 99 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова слышать, “что говорят вещи”; изощрит зрение, и научится понимать смысл форм и видеть разум явлений» [1. С. 539], - писал Вяч. Иванов («Две стихии в современном символизме»). Причем утонченное восприятие предполагает, что нужно слышать / видеть и понимать как смысл вещей, так и их «разум», поскольку сам смысл неотделим от природного языка («разума») вещей и явлений, дан через него и в нем. Ср.: «Природа - символ, как сей рог. Она / Звучит для отзвука; и отзвук - Бог. / Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук» («Альпийский рог») [6. С. 606]. Теофанию, закрепленную в культурных аллегориях, символах и эмблемах, воспринять и «узнать» достаточно легко - за ней стоит традиция и устойчивая образность; так, в античном мире боги жили рядом с людьми и постоянно являлись им, не вызывая особого удивления. Символическую же теофанию надо узреть, угадать, ибо она не постоянна: Бог пребывает неизменно, но Богоявление или теофа-ния «свивается и развивается», как говорил знаток древней и средневековой мудрости Л.П. Карсавин, т.е. «истаевает... и прекращается», ибо «одною своей стороной теофания необходимо тварна и противостоит Богу» [2. С. 29], и в этом - ее неизбежное и необходимое родство с символом, или символа с ней (А поэтому - «Блажен, кто слышит!»). Последнее утверждение о природе теофании как раз и относит нас к евангельскому образу зеркала, к которому часто обращались символисты, современники Иванова1. Через образ зеркала объясняет культуру М. Ямпольский, в его книге «Сквозь тусклое стекло» развивается близкая эстетике Иванова аналогия. Культура, по мысли Ямпольского, «есть некая вторая природа, созданная человеком, в которой мир обработан по законам языка и смысла» [13. С. 7]. И далее: «Человек оказывается перед альтернативой - видеть какие-то ложные тени, которые можно различить (аллюзия на «Пещеру» Платона. - Л.М., Е.С.), или видеть истину, в которой ничего не различимо, кроме совершенной неопределенности истока, не имеющего формы. Чем точнее наше зеркало, тем меньше оно отражает нам в категориях формы и смысла» [13. С. 8]. 1 См. об этом классическую работу [12]. 100 Компаративистика / Comparative Studies Прилагая выводы Ямпольского к нашему предмету, теофанию можно истолковать как зеркало Божественного, поэтическое же слово есть зеркало теофании, наведенное «зеркало зеркал» («Speculum Speculorum» - так именуется вторая книга в сборнике Иванова «Cor Ardens»). Образы, которое оно отражает в их отчетливо зримом, овеществленном облике, - образы культуры. Автор может атрибутировать их сам или предоставить это читателю, атрибуция может быть множественной, согласно закону символа, но это зеркало, этот метод связан с тем видом теофании в культуре, который Прилуцкий называет аллегорико-символическим. Но «чем точнее наше зеркало», тем более оно отражает формы знаково-символистского типа. Так, рассуждая о проявлениях Вечноженственного в поэзии Иванова, Н.Л. Быстров отмечает важность не олицетворения или «психологизации», а «присутствия»: «Такое впечатление, что именно это присутствие и является основным предметом “поэтической софио-логии” Вяч. Иванова и что внимание поэта сосредоточено не столько на образе той, кто присутствует, сколько на самом факте ее интуитивно очевидного пребывания («она... проходит мимо нас», «ты с нами», «ты. тут»), на ее имманентности миру» [14. С. 67]. То есть, согласно нашей гипотезе, развитие мотивно-образного плана, связанного с явлением Вечноженственного у Иванова, движется от конкретно-явленного визуального образа к такому «присутствию», выраженному как некий ощутимый факт Богоявленности, не обязательно данный в конкретном образе. Особенно это заметно на примере сравнения двух первых его книг лирики - «Кормчие звезды» и «Прозрачность», где первая являет миф о Дионисе (реализующийся в том числе через сюжеты Встречи [15] но эту часть мы оставляем за рамками исследования), его принятие и переживание «как принцип новой жизни» [16. С. 60], а вторая - всматривание в «природу той духовной среды, в которой происходят воплощения мистической реальности (Res)» [16. С. 63]. «Среда должна быть прозрачна, чтобы не препятствовать прохождению солнечного луча, который ею, непрозрачной, будет либо задержан, либо затемнен и невидим, - писала О. Дешарт, объясняя ее антиномичную природу, - но она не должна быть абсолютно прозрачной, должна преломлять луч -иначе Res не будет видна, ибо невидима она сама по себе» [16. С. 63]. 101 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова В этом «тусклом стекле» и происходит своего рода «развеществле-ние»1 образа, очевидное во втором сборнике Иванова. В процитированном выше стихотворении «Красота», первом в «Кормчих звездах» (не считая вступительного, оставшегося за циклами и данного курсивом, «Вчера во мгле неслись титаны»), явление Красоты происходит сразу после описания пейзажа: с одной стороны, вполне конкретного, почерпнутого поэтом из впечатлений от путешествий по Умбрии, с другой стороны, в контексте книги соотносимого с пейзажами на картинах Да Винчи, с тем прозрачным светом, сфумато, который они несут. Так, например, тот же пейзаж обнаруживается в стихотворении «“Вечеря” Леонардо» (из цикла «Итальянские сонеты»), посвященном одноименной фреске: «Из тесных окон светит вечер синий» и «Се Красота из синего эфира, / Тиха, нисходит в жертвенный триклиний» [6. С. 615]. Здесь прослеживается та же мотивно-образная цепочка «синий - нисхождение». Явившийся и увиденный в стихотворении «Красота» образ - отраженный, преломленный в «тусклом стекле», зеркале, кристалле («синеющий кристалл»). Преломляясь, он обретает форму экфраси-са, лика искусства, находит выражение в том числе в образах, соотносимых с горными пейзажами Леонардо. Именно этот лик, преломленный, и «зрит» путник «въяве», иное ему, «земнородному», недоступно. Более того, сама теофания зарождается в созерцании2. В стихотворении «Красота» последовательно разворачивается мотив прозрения: «вижу вас, божественные дали», «въяве сон» (собственно, момент явления) и, наконец, «зреть Красотой», т. е. происходит обретение героем внутреннего зрения. В стихотворении «“Вечеря” Леонардо» эта цепочка протягивается дальше - к читателю: «Дерзай! Здесь мира скорбь и желчь потира! / Ты зришь ли луч под тайной бренных линий?». 1 Это слово в значении, эквивалентном нашему пониманию, употребляет применительно к функции поэзии О. А. Седакова: «Из опредмеченной реальности, из какого-то помещения, заполненного вещами (между которыми предполагаются большие или меньшие, преодолимые или непреодолимые дистанции), пространство, тронутое поэзией, делается чем-то другим. Оно развеществляется - наподобие того, как струны, тронутые пальцем, плектром или смычком, перестают быть вещами, от них остается только их звукопорождающее колебание» [17]. 2 О мистике в созерцании произведения искусства см.: [8. С. 57-58]. 102 Компаративистика / Comparative Studies Итак, Красота предстает в «Кормчих звездах» как нисходящий луч и в то же время как некий принцип видения, обретаемый героем. Но вместе с тем в одноименном стихотворении она вполне антропоморфна: она подчеркнуто женственна, она ведет диалог, имеет свои атрибуты (кольцо1), и, кажется, мы можем видеть ее лицо. Но весь образ, данный «въяве», растворяется в финале, становится тайной, лучом и волей («Да»), имеющими интенцию, но не имеющими понятной чувственной формы. В еще более зримом антропоморфном облике предстает Красота в другом манифестационном стихотворении Иванова - «Творчество». Оно замыкает первый цикл «Кормчих звезд», начинающийся «Красотой», и посвящено теургической, по словам самого Иванова [18. С. 287], силе искусства и рождению формы в дионисийской энергии. Среди отсылок к разным произведениям (скрытых и эксплицитных) и имен, возникающих в стихотворении (Микеланджело, Данте, Гомер, Пигмалион и т.д.), есть следующие строки: Уз разрешитель, встань! - и встречной воли полн, И мрамор жив Пигмалиона, И Красота встает, дщерь золотая волн, Из гармонического лона. Уз разрешитель, встань! - и вод тайник отверст Ударом творческого гнева, И в плоть стремится жизнь чрез огнеструйный перст, И из ребра выходит Ева [6. С. 536]. Не останавливаясь на отсылках к библейским текстам и фрескам Микеланджело (они не раз были откомментированы, в том числе самим Ивановым), обратим внимание на образ Красоты. Она снова подчеркнуто женственна, и ее появление, вставание, знаменует пре- 1 Символика кольца, развивающаяся в движении лирического сюжета первой книги Иванова, оказалась важна не только для него, но и для Л.Д. Зиновье-вой-Аннибал. Упомянем лишь, что строки из стихотворения Иванова «Жертва» стали эпиграфом к пьесе Зиновьевой-Аннибал «Кольца» (1904), а строки из этой пьесы, наряду со строфой из поистине пророческого стихотворения «Жертва», сам поэт взял эпиграфом к своему знаменитому циклу «Венок сонетов», написанному уже после смерти Зиновьевой. 103 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова творение единого «гармонического лона» в форму, отсылая в контексте строфы к Афродите Анадиомене, чье золото может быть подсказано не упомянутым здесь, но присутствующим в «Кормчих звездах» Боттичелли. Возникает невольная отсылка к полемически звучащему призыву О. Мандельштама «Останься пеной, Афродита» («Silentium», 1910) (а поэзия Иванова оказала значительное влияние на него в этот период), который знаменует обратное движение: полнота истока, «первоосновы жизни», «гармонического лона» невыразима и не нуждается в выражении, она совершенна до своей объективации в искусстве1. К «первооснове жизни» стремит Афродиту Мандельштам, из «гармонического лона» встает Красота Иванова. Она и произведение искусства, и энергия, просветляющая его, задающая коммуникацию и с художником-теургом, и с его реципиентом. У Мандельштама она одновременно «музыка», «слово» и «всего живого ненарушаемая связь» (курсив наш. - Л.М., Е.С.), т.е. некое дооформленное начало, в котором есть, однако, и женственность, и интенция к форме, в том числе - к форме искусства. Не потому ли становится важной для Иванова фреска Рафаэля, описанная в сонете «La Stanza della Disputa» из цикла «Итальянские сонеты» («Кормчие звезды»). Она изображает аллегорию поэзии в виде увенчанной лавром женской фигуры, сидящей на троне. Путти рядом с ней держат две надписи - цитату из Вергилия: «Numine afflatur», что само по себе говорит о божественной природе поэтического искусства. Для Иванова же важно и другое - помещение ее рядом с фресками, изображающими философию, богословие и юриспруденцию (или справедливость), в вечных поисках истины поэзия как бы объединяет «Аттику и Г алилею»: Есть в Вечном городе, друзья, чертог один, Где вечные звучат с поблекших фресок споры: Там ищут Истины мыслители Афин; Там молят Истины святых Отцов соборы. 1 Т.Н. Бреева трактует стихотворение Мандельштама через развитие тезисов Н. Гумилева в статье «Наследие символизма и акмеизм» (1913): «Непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать... все попытки в этом направлении - нецеломудренны» [19. С. 31]. 104 Компаративистика / Comparative Studies Им внемлют Вещие с таинственных вершин: Вот Справедливая мечом решит раздоры; Вот учит Мудрая «познанию причин»; Но к тайне Божества летят Небесной взоры. И дева светлая - одна из их числа -Царит на троне туч, и Дафною священной Чело возвышенных прозрений обвила... Ты, ты. Поэзия! Ты с лирой вдохновенной Одна взяла в удел могучих два крыла, Чтоб к Истине парить дорогой дерзновенной! [6. С. 621-622] Именно поэзия в сонете занимает центральное место. В то время, когда мыслители и богословы ищут и молят истины, поэзия к ней «парит» дерзновенной, но верной дорогой. Подчеркивается ее близость горнему, она знаменует возвышение, вдохновение, прозрение. Рассматривая концепт немоты / незримости в цикле «Итальянские сонеты», В.В. Кулыгина интерпретирует образ поэзии в сонете и через преодоление немоты и незримости [20. С. 238]. В этом смысле интересны изменения субъектной организации в стихотворении: если предпоследний терцет - атрибутированный экфрасис, описывающий плафон «Станцы» Рафаэля, и, собственно, здесь женская фигура продолжает быть аллегорией поэзии, то последний терцет - обращение непосредственно к поэзии, не к изображению, но к поэзии, понятой и одушевленной через изображение, через его созерцание. Отсюда, как нам видится, и многоточие, обрывающее описание фрески, и двойное утверждение «ты, ты», и короткий возглас: «Поэзия!». Созерцание переходит в эмоциональный монолог, в котором героиня-поэзия еще имеет черты рафаэлевской, но как бы одновременно уже отделена от нее. Приняв трактовку сонета В. В. Кулыгиной, обратим внимание на резкость перехода от описания фрески к монологу. Точка прозрения и обретения речи выделена синтаксически, и это - один момент, одно мгновение. «Для лирики одно событие аккорд мгновения, пронесшийся по струнам мировой лиры» [21. С. 119], - писал Иванов в 105 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова «Спорадах», и там же среди заветов художнику - «святить торжественные мгновения (курсив наш. - Л.М., Е.С.) творчества и возвышенное слово» [21. С. 120]. Мгновение - не только момент времени, это и своеобразная среда, рождающая слово, мгновение - до обретения формы («она и музыка, и слово»), своего рода сгущенное время-пространство, которое, выделяя три хронотопических пласта в лирике Иванова, С.В. Федотова называет «кайротоп», миг «касания мирам иным» [22]. С этой предустановкой обратимся к заключительному в «Кормчих звездах» циклу «Suspiria» и стихотворению «Время»: Прекрасное, стоит Мгновенье. Вечность Хранят уста. Безгласное, твой взор один - вся Вечность, Вся Красота! [6. С. 699]. В последних циклах «Кормчих звезд» возрастает роль таких «символических слов» (А.К. Михальская), подчеркнуто написанных с прописной буквы и не раскрывающих свое значение, стилистически сравнимых с аллегорией ренессансного или барочного искусства (Мгновенье, Вечность, Печаль, Милость, Отрада, Время и т.д.). Такого рода символическая аллегория применяется как некий метод трансляции и перевода трансцендентного опыта. При этом нарратив, который названные концепты формируют в особом статусе возвышенного, ускользает от читателя в своей недосказанности и в сказанном - антиномичности, остается полноценно не выраженным, угадываемым лишь за общим мифом о творчестве и прозрении. Так, в приведенном отрывке сопряжены Мгновение и Вечность, и в этом насыщенном недвижимом мгновении царит вечное молчание, отсутствие голоса. Но совершенно другая Вечность в третьей строке, она заключена во взоре Безгласного, она уже обретает взгляд, направление, вектор движения, становится лучом Красоты, а строки стихотворения обретают эмоциональность. Таким образом, на протяжении первой книги Иванова мы наблюдаем движение Красоты, образа Вечноженственного начала, к ее постепенному «развеществлению», т.е. утрате антропоморфности и зримой предметности, все большему ее растворению в преображенном мире, открывающемся герою. Это движение / процесс усилива-106 Компаративистика / Comparative Studies ется во второй книге лирики Иванова - «Прозрачность» (1904), в само название которой вынесено определение одной из эманаций Красоты. В первом стихотворении «Поэты духа», несущем функции прототекста для всей книги, содержится почти прямая отсылка к «Красоте» «Кормчих звезд»: Снега, зарей одеты В пустынях высоты, Мы - Вечности обеты В лазури Красоты. Мы - всплески рдяной пены Над бледностью морей. Покинь земные плены, Воссядь среди царей! Не мни: мы, в небе тая, С землей разлучены: -Ведет тропа святая В заоблачные сны [6. С. 737]. Повторяется топика, связанная с Красотой: это горы, кристальность, прозрачность, пустынность, лазурь. Но горы - в «пустынях высоты», над землей, а поэт предстает служителем Красоты, давшим ей обет. «Всплески рдяной пены» напоминают встающую «дщерь золотую волн», Афродиту Морскую. Образ поэтов объединяет два пространства, небо и море, два «женственных» мифа о творческой энергии и о рождении искусства. Через приобщение к этим сакральным пространствам происходит возвышение человека, творится его, говоря языком Иванова, восхождение: «Воссядь среди царей!». Мотив царствования (царственный, царит, царица) - один из непременных спутников Вечноженственного у Иванова. Его источник - очевидно, христианский образ Царицы Небесной, в иконописи - изображения Богородицы типа Панахранта или Маэста, сидящей на троне. Через сопряжение Софии и Богородицы в киевском варианте иконы Софии Премудрости Божией, увиденной Ивановым в 1900 г., Т.В. Игошева трактует цикл «Райская мать» в книге 107 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова «Кормчие звезды». Исследовательница пишет, что в первом стихотворении цикла «Днепровье» «образ Богородицы у Вяч. Иванова оказывается как бы растворенным в природном окружении, в днепровских далях. Она здесь - Душа Мира. Софийно-Богородичные черты, обусловленные древними символическими связями, обнаруживаются одновременно и внизу, и вверху, вокруг -всюду» [23. С. 86-87]. В последующих же стихотворениях цикла происходит поиск ее «корней», прототипов, прообразов, то есть образ обретает конкретику, как бы свое «вещество». Как райская мать, по словам исследовательницы, «отсутствующая в персональном, личном, физически выраженном аспекте лишь выкликается, призывается явиться человеческим очам» [23. С. 87], так и Красота в первом стихотворении всей книги Иванова отвечает на восклицание героя, говорит с ним, но остается тайной. Ее черты обнаруживаются в последующих стихотворениях через образы мировой культуры. Но уже в первом стихотворении книги «Прозрачность» Красота является как «лазурь», особого рода среда, т.е. снова теряет четкие очертания. Не лишним будет вспомнить, что «лазурь», как и все цвета, сродные голубому, - это цвета Софии. Современник Иванова, о. П. Флоренский писал: «Голубизна, как известно, символизирует воздух, небо и, отсюда, - присутствие Божества в мире через его творчество, через его силы» [24. С. 552]. Давая свое толкование софийной лазури, он приводил стихотворение «Покров» Вяч. Иванова (из «Cor Ardens»). Прозрачность у Иванова единоприродна Красоте1: она так же царствует (один из циклов назван «Царство прозрачности»), пронзает, исполняет2 («Когда, сердца пронзив, Прозрачность / Исполнит солнцем темных нас»), творит, она так же женственна. Ее природа так же может быть прояснена в созерцании произведения искусства: 1 Так, например, Н.Л. Быстров трактует образ Прозрачности через Вечноженственные образы у Иванова следующим образом: «"Прозрачность” - символический атрибут “незримой жены” (очевидно, Софии или Мировой Души), но если вспомнить о том, что всякий символ есть, в определенной мере, и само символизируемое, то, значит, “Прозрачность” и “незримая жена” - одно» [14. С. 77]. 2 Слово из философского и поэтического словаря Иванова «исполнять», «исполняться», повторяющееся в разных текстах, в том числе в указанном примере, т.е. принимать макро- и микрокосмические законы духовных трансформаций. 108 Компаративистика / Comparative Studies Прозрачность! воздушною лаской Ты спишь на челе Джоконды, Дыша покрывалом стыдливым. Прильнула к устам молчаливым -И вечностью веешь случайной; Таящейся таешь улыбкой, Порхаешь крылатостью зыбкой, Бессмертною, двойственной тайной. Прозрачность! божественной маской Ты реешь в улыбке Джоконды [6. С. 738]. Длящееся время, постоянство присутствия Прозрачности подчеркивают глаголы «спишь», «прильнула», «веешь», «таешь», «порхаешь», «реешь». Прозрачность наполняет пространство и вместе с тем движется, действует. Она создает среду мира - особое состояние вещества или вещественности, сродни воздуху, но никак не равное ему. Подобного рода среду пытался описать П. Флоренский в работе середины 1920-х гг., в качестве объекта исследования выбрав живописные искусства (чрезвычайно близкие и Иванову): «Тут нет вещей, но зато в полной мере господствует начало вещественности. Иначе говоря, перед нами не пространство, а среда (курсив наш. -Л.М., Е.С.). Когда же оболочка вещей окончательно обессилена, вещи растягиваются в пространстве, как дымовые призраки. И эти осязательные точки, вещественная начинка вещей, распространяются по всему пространству, вещество растекается по нему» [25. С. 106-107]. Ср. у Иванова: Прозрачность! купелью кристальной Ты твердь улегчила - и тонет Луна в среброзарности сизой. [6. С. 737]. Прозрачность Иванова активна, но не персонифицирована, лишена голоса, это зыбкое неуловимое движение (отчасти в духе романтизма В.А. Жуковского), сохраняющее возможность героя обратиться к ней, не надеясь на ответ. Он молит: «Прозрачность! улыбчивой сказкой / Соделай видения жизни.» [6. С. 738]. Непосредственно теофания здесь менее очевидна, она словно скрыта в самой прозрачности - среде горнего мира, который прони-109 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова цает сквозь мир земной. Если в «Кормчих звездах» устойчив мотив явления, сошествия («путнику предстал», «Красота встает», «воззрилась», «сошед, рекла Любовь», «Как приходит на гору Царица Небесная», «Вновь осенила свой мир»), то в «Прозрачности», как отмечала еще О. Дешарт, главное - это всматривание в мир, открывшийся герою. Собственно, это различие книг - общее место ивановедения. Обратим внимание на изменение функции экфрасиса в теофанических сюжетах. В стихотворении «Прозрачность» созерцание-прозрение перестает быть акцентированным, оно присутствует как данность, «Джоконда» Леонардо здесь - не путь и не способ познания, она - часть прозрачного мира. Пространства этого мира связаны движением Прозрачности, ее преобразующей активностью («ты твердь улегчила», «колдуешь ты с солнцем»). Преобразование должно коснуться и души человека: Прозрачность! божественной маской Утишь изволения жизни [6. С. 738]. Прозрачность становится условно персонифицированной связью между образами мира. Условно - потому что здесь она лишена своего облика, но может действовать. Действие ее своеобразно: она «улегчает» и «утишает», позволяет увидеть сквозь «покрывало Майи» идеальный облик мира: «Яви нам бледные раи / За листвою кущ осенних» [6. С. 738]. Тишина и движение в тишине - одни из основных мотивов, сопровождающих теофанию в книге «Прозрачность»: «Тишина таит богов», - говорится в стихотворении «Душа сумерек». В том же стихотворении она, т.е. «Душа сумерек», появляется в прозрачном мире: В прозрачный, сумеречно-светлый час, В полутени сквозных ветвей, Она являет свой лик и проходит мимо нас -Невзначай, - и замрет соловей, И клики веселий умолкнут во мгле лугов На легкий миг - в жемчужный час, час мечты, Когда медленней дышат цветы -И она, улыбаясь, проходит мимо нас Чрез тишину... Тишина таит богов [6. С. 740]. 110 Компаративистика / Comparative Studies «Она являет свой лик», но именно явленного лика в тексте нет. Есть улыбка (ср.: «Таящейся таешь улыбкой» - о Прозрачности) и движение, создающее тишину: замирает соловей, умолкают «клики веселий», замедляется дыхание природы. Это движение почти неуловимо: она проходит «мимо нас» и обнаруживает себя в отсутствие звука и времени, в пограничье между днем и ночью. В то же время отсутствие формы придает прозрачной среде текучесть. В стихотворении «La Luna Sonnambula»: Луна течет во сне. О, не дыши - молчи! Пусть дышат и дрожат и шепчутся лучи, Пусть ищут и зовут и в дреме легкоперстой, Как сон, касаются души твоей отверстой [6. С. 769]. Замедление дыхания, тишина, обостренная восприимчивость позволяют лучам луны коснуться открытой души, войти в нее. Прозрачность - как вовне, так и внутри самой души, в ней «дрожит Эолова струна», душа сама становится прозрачной. Это тоже своеобразная теофания - действо, подчиненное общей замедленной текучести пространства-времени, длящемуся мгновению, лишенное динамичности, свойственной Красоте в «Кормчих звездах»: если прозрение сменяется всматриванием, то явление сменяется наполнением, «исполнением». В стихотворении «Дриады» возникает образ мирового древа и его души, которой можно коснуться открытой, отверстой душой прозревшего человека. Мотив принятия и наполнения, слияния здесь еще более очевиден: «Открой уста души - и пей, как в смутном сне, / Наитье сумрачной отрады! / Ты, вещий, - не один в безлюдной тишине!». И, наконец, прозрачность (уже со строчной буквы) становится неотделенной от мира, растворяется в нем, становится миром, делает сквозь него видимым то, что на языке Иванова называется realiora. В этой точке завершается «исполнение» божественной и творческой энергией. «Уз, разрешитель, встань!» - звучит заклинание в стихотворении «Творчество» в «Кормчих звездах». В «Прозрачности» это становление завершается, художник смотрит на обновленный, в том числе им претворенный мир. Этот мир одновременно - отражение самого прозревшего, его часть и его лик («все во мне, и я во всем»): 111 Маштакова Л.В., Созина Л.К. Поэтика теофании в книгах Вяч. Иванова Грустно-блажен художник-поэт! Он - небо и воды: Ловит, влюбленный, свой лик, видит прозрачность и - мир («Художник и поэт») [6. С. 775]. Или: Глядится Бог в свой мир, и мир - прозрачность («Кто?»). Так, наравне с метасюжетом поиска и дионисийским мифом, объединяющими две книги стихов Иванова, сюжет теофании Вечноженственного оказывается также протянут от «Кормчих звезд» к «Прозрачности». Он имеет свою завязку и развитие, обладает цельностью. Динамичности ситуации явления Красоты в «Кормчих звездах» соответствует постепенное замедление и тишина в «Прозрачности», сам образ явившейся Красоты улегчается, растворяется, явление переходит в окружение, «присутствие» и слияние (с миром, с «отверстой» душой человека). Утрачивает свои функции «знамено-вания» высшей реальности экфрасис, остается движение и фиксация изменений в преображающемся мире. Прозрачность, ведущий символ не только второй книги Иванова, но и его поэтического мира в целом, - это и явление горнего мира в мир здешний, неизменный софийный признак, т.е. явление теофании, и некая творчески преобразующая среда, которая позволяет видеть мир и «исполнять» Красоту. Сложность, своеобразная «непрозрачность» Прозрачности Иванова реализуется на уровне языка в символе, подразумевающем языковую неназванность ноуменального мира в поэзии Иванова при необходимости его «ознаменования». Такой символ был определен Л. А. Гоготишвили как «безобразная объективация предиката», «что, конечно, может быть только псевдообъективацией - объективацией без всякой контурной или предметной образности, то есть чисто семантической объективацией» [26. С. 46]. Однако в сюжете такой символ, хотя его стремление к «развеществленности» обнаруживается в самом начале, обретает развитие и движется от большей антропоморфности и предметной оформленности к парадоксальной форме «присутствия» (Н.Л. Быстров), как в наведенном зеркале, «мутном стекле», отражается мир, теряющий очертания, если стекло становится «прозрачным». 112 Компаративистика / Comparative Studies Предположим в заключение, что такое постепенное «развеществ-ление» образа - не только поиск адекватной версификации трансцендентного опыта или результат художественного эксперимента с образом-символом. На протяжении пути, который проходит не только герой Иванова, но и читатель его двух книг, последний попадает в поле символистской суггестии, ведь «нас, символистов, нет, - если нет слушателей-символистов» («Мысли о символизме») [1. С. 610], к узрению мира realiora, улегчению «покрывала Майи»: И чем зеркальней отражает Кристалл искусства лик земной, Тем явственней нас поражает В нем жизнь иная, свет иной. И про себя даемся диву, Что не приметили досель, Как ветерок ласкает ниву И зелена под снегом ель [21. С. 643].
Иванов В.И. Собрание сочинений : в 4 т. Брюссель : Foyer Oriental Chretien, 1971-1987. Т. 2. 852 c.
Карсавин Л.П. Малые сочинения. СПб. : Алетейя, 1994. 532 с.
Фокин А. Из истории западного богословия: Бернард Клервоский // Альфа и Омега. 2002. № 34. URL: https://www.pravmir.ru/alfa-i-omega/issue/aio-issue-34/
Сведенборг Э. Мудрость Ангельская о Божественной Любви и Божественной Мудрости; Мудрость Ангельская о Божественном Провидении. Львов : Инициатива ; Москва : АСТ, 1999. 736 с.
Майстер Экхарт. Об отрешенности / сост., науч. ред., пер. М.Ю. Реутина. М. ; СПб. : Университетская книга, 2001. 432 с.
Иванов В.И. Собрание сочинений : в 4 т. Брюссель : Foyer Oriental Chretien, 1971-1987. Т. 1. 872 с.
Котрелев Н.В. «Видеть» и «ведать» у Вячеслава Иванова (Из материалов к комментарию на корпус лирики) // Вячеслав Иванов - творчество и судьба: к 125-летию со дня рождения / под ред. А. А. Тахо-Годи, Е.А. Тахо-Годи. М. : Наука, 2002. С. 7-18.
Цимборска-Лебода М. Экфрасис в творчестве Вяч. Иванова // Экфрасис в русской литературе: Сборник трудов Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. М. : МИК, 2002. С. 53-70.
Прилуцкий А.М. Теофания в мире и в дискурсе // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 2014. Т. 15, вып. 2. С. 11-17.
Соловьев В.С. «Неподвижно лишь солнце любви..». Стихотворения. Проза. Письма. Воспоминания современников. М. : Московский рабочий, 1990. 446 с.
Тимофеев А.В. Учение Бернарда Клервоского в контексте средневековой интеллектуальной традиции. Днепр : Инновация, 2018. 198 с.
Минц З.Г., Обатнин Г.В. Символика зеркальности в ранней поэзии Вяч. Иванова (сборники «Кормчие звезды» и «Прозрачность») // Труды по знаковым системам. 1988. Вып. 831: Зеркало. Семиотика зеркальности. С. 59-65.
Ямпольский М. «Сквозь тусклое стекло»: 20 глав о неопределенности. М. : Новое литературное обозрение, 2010. 688 с.
Быстров Н.Л. К вопросу о религиозно-философском контексте софиоло-гической символики в поэзии Вяч. Иванова: иудаистические параллели // Вестник Гуманитарного университета. 2016. № 3 (14). С. 64-81.
Козубовская Г. П. Вяч. Иванов: миф о Дионисе и принцип дионисийства // Козубовская Г.П. Рубеж XIX-XX веков: миф и мифопоэтика. Барнаул : АлтГПА, 2011. С. 150-170.
Дешарт О. Введение // Иванов Вяч.И. Собрание сочинений : в 4 т. Брюссель : Foyer Oriental Chretien, 1971-1987. Т. 1. С. 6-227.
Седакова О. Немного о поэзии. О ее конце, начале и продолжении. URL: https://www.olgasedakova.com/Poetica/163.
Иванов В. Стихотворения. Поэмы. Трагедия : в 2 кн. / примеч. Р.Е. Помирчего. СПб. : Академический проект, 1995. Кн. 2. 480 с.
Бреева Т.Н. Художественный мир Осипа Мандельштама : учеб. пособие. М. : ФЛИНТА: Наука, 2013. 136 с.
Кулыгина В.В. Мотив немоты в поэтическом цикле Вяч. Иванова «Итальянские сонеты» // Знание. Понимание. Умение. 2009. № 4. С. 236-239.
Иванов Вяч.И. Собрание сочинений : в 4 т. Брюссель : Foyer Oriental Chretien, 1971-1987. Т. 3. 896 с.
Федотова С.В. Время-пространство в «Кормчих звездах» Вяч. Иванова («Порыв и грани») // Новый филологический вестник. 2010. № 3 (14). С. 49-68.
Игошева Т.В. Богородичная тема в поэтическом творчестве Вяч. Иванова // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. Вып. 1 / отв. ред. К.Ю. Лаппо-Данилевский, А.Б. Шишкин. СПб. : Издательство Пушкинского Дома, 2010. С. 84-98.
Флоренский П.А. Сочинения : в 2 т. М. : Правда, 1990. Т. 1: Столп и утверждение истины (I, II). 839 с.
Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М. : Прогресс, 1993. 324 с.
Гоготишвили Л.А. Непрямое говорение. М. : Языки славянских культур, 2006. 720 c.
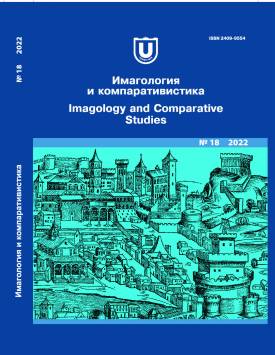

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью