В статье выявлены общие черты онейропоэтики романов А. Белого «Москва» и Г. Майринка «Голем», типологическая близость «героев пути» в аспекте жизнетворчества (А. Белый) и преодоления «големического» начала и сотворения высшего «Я» (Г. Майринк), поставлена проблема амбивалентности финалов обоих произведений. Сновидения выполняют в романе «Москва» сюжетообразующие функции и сопровождают героя-ученого на протяжении всего духовного пути, являясь ярким воплощением языкового эксперимента. В романе «Голем» само погружение в сон и отождествление рассказчика с героем сновидения, прошедшим мистериальный путь, становится его духовным перерождением. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Moscow by Andrei Bely in the dialogue with Austrian literature of the 20th century (a case study of G.pdf В конце ХХ - начале XXI в. сравнительное литературоведение переживает бурный рост. Плодотворное обращение к идеям основоположников отечественной компаративистики - А.Н. Веселовского, В.М. Жирмунского и М.П. Алексеева - привело к более четкому пониманию специфики этой области литературоведения в ее генетическом родстве с исторической поэтикой. В статье Г.А. Тиме предложено введение нового подхода к сравниваемым явлениям, а именно - «сравнительная поэтика» [1. С. 390], цель которой «не поиск глобальных закономерностей , а изучение идейно-философской основы творчества, метода, жанра, стиля того или иного писателя посредствам привлечения к анализу аналогичных иноязычных литератур» [1. С. 391]. Принадлежащие к разным национальным культурам: русской -Андрей Белый (1880-1934) и немецкоязычной - Густав Майринк (1868-1932), писатели связаны одной художественной и мировоззренческой парадигмой, поименованной С.Н. Бройтманом поэтикой художественной модальности, одной из примет которой является «убеждение в том, что смысл всегда личностен - он создается человеком и не существует в готовом и отвлеченном от него виде» [2. С. 257]. Интерес к творчеству обоих писателей возникает в период слома классической парадигмы, эпохи методологического тупика, поиска новых эвристических возможностей интерпретации текста. В 1990-е гг. и в начале ХХІ в. в отечественном литературоведении возникла насущная необходимость исследовать эстетические открытия и новаторские приемы одного из виднейших идеологов символизма - Андрея Белого. Если «главный» (по слову Вл. Набокова) роман писателя «Петербург» (1913) всесторонне изучен литературоведами, культурологами, философами, то последний роман 139 Шарапенкова Н.Г. Роман «Москва» Андрея Белого в диалоге «Москва» (1926-1932) рассмотрен недостаточно, несмотря на появившийся в последние десятилетия ряд концептуальных работ [3-9]. Творчество Г. Майринка в последние десятилетия в отечественной науке рассматривают в его соотнесенности с Пражской литературной школой [10], с позиции иудаизма [11], в связи с трансформацией жанра «романа становления» [12], в рамках категории фантастического [13], также выявляют влияние образов и мотивов произведений самого Майринка на русскую литературу 20-х гг. ХХ в. [14]. По мнению исследователей, романы пражского мистика относят к так называемому «магическому реализму» [15. С. 40], «мистикофилософской fantasy» [16. С. 72]. Открытие сферы подсознательного и его эстетическая репрезентация в художественном тексте и апелляция к мистико-оккультному опыту писателей легли в основу нашего сопоставления романов «Москва» и «Голем». Согласимся с наблюдением Вяч. Вс. Иванова: «Кажется возможным соотнести с фантастическим гротеском Белого и гротесковую полубредовую прозу Д. Хармса, восходящую к его увлечению “Големом” Г. Майринка» [17. С. 27]. Андрей Белый, связанный с Германией «корнями своего мироощущения и творчества» [18. С. 149], сохранил германофильскую ориентацию до конца своих дней. Это не значит, что русский символист принимал все, что происходило в Германии, особенно в 30-е гг. ХХ в. Для подтверждения этого приведем выдержку из письма Андрея Белого Иванову-Разумнику от 18 ноября 1923 г.: «...к новым немецким поэтам у меня скоро пропал вкус, и я даже не помню их имен, Мейринг мне не нравится; а все эти Келлерманы, Маны и Вассерманы - все-таки это “мало” и... “не ново”...» [19. С. 254]. В письме Андрей Белый относит Г. Майринка к новейшим немецким писателям, который, к тому же, «не нравится», но произведения которого, очевидно, прочитал (по всей видимости, на немецком языке, хотя, отметим, свидетельств этому мы не нашли). Автор письма Ива-нову-Разумнику, сознательно имитируя «забывчивость», искажает фамилии современных ему немецкоязычных писателей. Отношение к тогдашней Германии будет у Андрея Белого существенно меняться под воздействием и пережитого в Берлине духовного, личного кризиса (разрыв с женой, Асей Тургеневой, и уход из антропософской общины в Дорнахе Р. Штайнера [5, 20-22]) и наблюдений за новыми 140 Компаративистика / Comparative Studies зарождающимися порядками (предфашизм), которые только еще «носились в воздухе». Сюжеты романов, вынесенных в заголовок статьи, при всей их детальной непохожести имеют общую структуру, а именно их отличает двойственность повествования. К особенностям архитектоники следует отнести двухслойность, ориентацию на «массового», с одной стороны, и «посвященного» читателя - с другой. Первый поверхностный слой повествования в романе Андрея Белого включает в себя шпионско-детективную фабулу, построенную на узнаваемых мотивах, сюжетных ходах (изобретение светового луча, охота за открытием ученого, сцена пытки, нахождение героя в сумасшедшем доме, выздоровление, взрыв в доме). В австрийском романе «Голем» фабулу определяет фантастический и отчасти «готический» и романтический сюжетно-мотивный ряд (тайна происхождения героя, спасение незнакомки, приступы забытья и «прозрения» героя, призрак Голема, встречи с двойниками, заточение героя в темницу, возвращение, пожар в доме). Второй план - «для посвященных» - связан с «антропософским» и «жизнетворческим» (у Андрея Белого) и «каббалистическим» и «го-лемическим» (у Густава Майринка) планами повествования. Придав фабуле авантюрно-детективную направленность, автор «Москвы», тем не менее, вплетает в текст романа сложные антропософские символы, понятия и образы, шифрует за противостоянием героев-антагонистов, Коробкина и Мандро, как христианские [23], так и в духе тайноведения Штайнера антропософские идеи [6]. Мистическое в романе Г. Майринка предстает теснейшим переплетением разных образов, символов, мотивов из учения Каббалы, буддизма, еврейской мифологии, оккультных и эзотерических учений, христианства. Онейрический план повествования становится в последние десятилетия своего рода приманкой для исследователей-литерату-роведов, культурологов. Сновидение и его воплощение в ткани художественного текста обладает особыми культурными и эстетическими функциями, выполняет роль художественного кода, является потенциальным «пространством, которое еще надлежит заполнить смыслами» [24. С. 124]. «Это и делает сон идеальным ich-Erzalung, способным заполняться разнообразным как мистическим, так и эсте-141 Шарапенкова Н.Г. Роман «Москва» Андрея Белого в диалоге тическим истолкованием» [24. С. 124], - подводит итог своим размышлениям Ю.М. Лотман. Начало русского и австрийского романов связано с фиксацией сна главных героев, Коробкина и рассказчика. Столица Богемии стала на страницах «Голема» и местом действия, и подлинным героем произведения, и местом преображения главного героя. В Праге, «городе алхимиков», происходят «события сна» рассказчика, перепутавшего свою шляпу со шляпой художника, резчика камней Атана-сиуса Перната. Первоначально рассказчик погружается в сон, и маркером здесь выступает «камень», связывающий чтение героем биографии Будды Гаутамы и содержание сна (повторяющийся «образ камня, походившего на кусок сала» [25. С. 6]). Герой оказывается в русле высохшей реки и «натыкается» на разноцветные камни: «Все камни, которые когда-либо играли роль в моей жизни, встают и обступают меня» [25. С. 6]. Автор описывает промежуточное состояние человека, находящегося в момент засыпания, пребывающего на грани реальности и сновидения, когда детали (обстановки, образов из книг) становятся своего рода некими нитями (маркерами) уже в сновидении. Камень, который стал своеобразным звеном между реальностью и сновидением рассказчика, является символом «камня преткновения» и, безусловно, означает поиск героем камня философского. Кроме этого, он связан еще и с его «будущей» профессией в сновидении - резчика камней. Погружение в сон рассказчика построено таким образом, что герой то видит сновидческие образы, то вновь выходит «из сумерек этого полусна» [25. С. 6]. Именно наличие в романе двух планов повествования (бодрствование и сновидение) вызывает у читателя замешательство, разрушает всевозможные читательские ожидания и вызывает чувство неуверенности (модальности). Читая историю Сиддхартхи, имя которого «означает ‘исполнивший своё предназначение», рассказчик (по замыслу автора) также символически и сновидчески должен воплотиться, пройти путь от Голема до Будды (т.е. стать просветленным). Окончательное погружение рассказчика в сновидение и отождествление с другим закреплено через произнесенное вслух «его», другого имя (сам рассказчик в начале и в финале повествования остается безымянным): «Я заглянул в эту чужую шляпу тогда и - да, да, там на белой подкладке было написано золотыми бумажными буквами: АТАНАСИУС ПЕРНАТ» 142 Компаративистика / Comparative Studies [25. С. 18]. Шляпа выступает своеобразным магическим и волшебным предметом, герой, надев её, «погружается» в инобытие, в реальность другого. Реальность «пробивается» в сновидение: рассказчик слышит голос (свой собственный!), который возвращает его обратно, в явь: «...Я начинаю бояться, что глупый голос снова проснется во мне и снова начнет допрос о камне и сале» [25. С. 8]. Словно «готовясь» к встрече со своими двойниками, рассказчик в полусне вопрошает: «Кто же теперь мое Я» [25. С. 8]. Последний вопрос является ключевым для всего повествования, на протяжении которого рассказчик в сновидении, отождествив себя с Пернатом, будет вступать в различные отношения с многочисленными двойниками: с таинственным посетителем, принесшим книгу Ibbur, с Големом (так будут воспринимать на улице героя пражане), с изображением на карте повешенного человека - Пагада). В финале сна - со странным человеком, а в финале романа рассказчик, глядя на самого Перната, видит себя словно в зеркале. В основу романа положена еврейская пражская мистическая легенда, согласно которой иудейский рабби Иегуда Лев бен Бецалель создал из глины некое существо, способное без устали делать тяжелую работу - Голема, которого оживляет шем, вложенный в его уста с зашифрованным именем бога Иеговы. «Големическое» начало романа и путь инициации героя не раз становились предметом обсуждения в современной научной литературе [26]. Важнейшим фактором интерпретации романа является то, что Голем для Майринка -образ ветхого человека, стадия в развитии (инициации), которую необходимо изжить, перерасти. Процесс этот сложен: пролегает и через встречу со своими двойниками, и через очистительную стихию огня, и через символическую смерть и духовное возрождение. Временным пристанищем Перната после возвращения из заточения по ложному обвинению становится съемная квартирка в доме, где, согласно одной из пражских преданий, видели самого Голема. В Рождество (что символично!) происходит встреча с еще одним двойником, неким призраком, мистическим существом: На пороге стояло мое подобие. Мой двойник. В белом облачении. С короной на голове. Одно мгновение. 143 Шарапенкова Н.Г. Роман «Москва» Андрея Белого в диалоге Затем огонь охватил деревянную дверь, и ворвались клубы горячего удушливого дыма. Пожар! Горит! Горит! [25. С. 333-334]. В романе словно поменялись местами «сон» и «жизнь», где сон жизни - это пребывание в полуживом, полуготовом, големическом состоянии, а пробуждение от сна жизни - это восхождение к высотам духа. Причем возможно это только через погружение в некий мистериальный сон, в котором и совершается инициация героя. Пробудится от сна жизни, значит, достичь подлинной жизни, бессмертия в Духе: «Кто пробудился, тот уже не может умереть. Сон и смерть - одно и то же» [25. С. 90]. Типологически-близкий мистико-символический вектор судьбы героя, заявленный в начале повествования, присутствует и в романе «Москва». Сновидения выполняют в романе Андрея Белого сюжетообразующие функции, приведем здесь только несколько «задач» сновидений: в них в свернутом и зашифрованном (кодированном) виде даны этапы духовного пути героя; жизненные реалии описываемого мира обретают мистериальную окраску, переводятся на христианский и антропософский уровни текста; являются иллюстрацией предпринятого в романе грандиозного языкового эксперимента автора. В начале романа мы наблюдаем процесс пробуждения ото сна ге-роя-профессора. Ученому приснился «весьма странный» [27. С. 20] сон: комната-кабинет «составляла лишь яблоко глаза, в котором профессор Коробкин, выглядывающий через форточку, определялся зрачком Та-бачихинского переулка» [27. С. 20]. Образно-символическое выражение «быть зрачком» определяет духовный (христианско-мистериальный, антропософский) путь Коробкина. В сновидении обыденная реальность, которую герой видит каждое утро за окном, наполняется особым пророческим (метафизическим) смыслом. Первое, что видят герои обоих романов, проснувшись (Короб-кин), погрузившись в сон (Атанасиус Пернат), - будущих противников, наделенных в романах особыми функциями, «соглядатая» Гри-бикова и старьевщика Аарона Вассертрума. Комната Грибикова уподоблена ему самому: «... точно гардины, висели везде паутины» [27. С. 166]. В центре же комнаты - «паук там сидел, очень жирный» [27. С. 166]. В его комнате «десятилетия делалось страшное дело 144 Компаративистика / Comparative Studies Москвы» [27. С. 166]. Грибиков вводится автором в систему основных демонических образов Первопрестольной, петляющая сеть переулков которой уподоблена сети паука. Топография Москвы: все ее знаменитые переулки, «кривули», тупички - по законам лейтмотивной поэтики Андрея Белого как бы образуют контуры гигантского паука: «Вот “М о с к в а” переулков! Она же - Москва; точно сеть паучиная» [27. С. 166]. Грибиков помещен в «центр сознания» города, в котором в период начала Первой мировой войны и революционных потрясений создавалась целая сеть (паутина) домыслов, сплетен, переговоров, доносов. Атмосфера происходящего в переулках и тупичках наполнена инфернальными испарениями (морок, жуть, мгла). Аарон Вассертрум - первый, кого встречает рассказчик «Голема», погрузившись в сон. В начале повествования воссоздан отталкивающий гротесковый образ старьевщика: «Отвратительное неподвижное лицо, с круглыми рыбьими глазами и с отвислой заячьей губой» [25. С. 11]. Вассертрум, как и Грибиков, кажется «пауком среди людей, тонко чувствующим всякое прикосновение к паутине, при всей своей кажущейся безучастности» [25. С. 11]. С Вассертру-мом связано всё «мертвое», удушающее, губящее все живое вокруг. Все сложные и запутанные перипетии сюжета романа «ведут» к нему, он, старьевщик и подпольный миллионер, сидит в эпицентре всех страшных событий Йозефова квартала Праги и, как кукловод, дергает за веревочки, чтобы «привезти в действие» жителей гетто. Под стать герою и его место жительства, его лавка, в которой «изо дня в день, из года в год, висят всё те мертвые, бесполезные вещи» [25. С. 11]. Как «паук» Грибиков связан с гибнущей Москвой начала ХХ в., так и Вассертрум контролирует весь еврейский квартал, который подвергнется капитальной перестройке. В паутине Вассеертру-ма смог ему противостоять только его незаконнорожденный сын Ха-русек, положивший всю свою жизнь в жернова мести. Сновидения в художественном мире Андрея Белого являются воплощением творческой фантазии и языкового эксперимента самого автора. Ярким воплощением этого тезиса предстает один из пророческих снов, который профессор видит до собственной «Голгофы» (сцены пытки), разговаривая с античным философом: «Встал Гераклит: поучал: - Так текучая жидкость, ища себе выхода, одолевает все косности твердого тела: и так: рациональные ясности форм распа-145 Шарапенкова Н.Г. Роман «Москва» Андрея Белого в диалоге даются в пламенных верчах текущего» [27. С. 254]. В форме «поэтического косноязычия», отмеченного еще Ю.М. Лотманом, применительно к «Петербургу», античный философ Гераклит в сновидении излагает герою учение об огне, этом первоначале Вселенной. «Рациональные ясности форм», упомянутые сновидческим Гераклитом, связаны с первыми сценами последнего романа Андрея Белого. Герой-математик, пытаясь уйти от всякой «невнятицы» [27. С. 38] жизни (т.е. ее хаоса), выстроил для себя умозрительную модель наилучшего мира, построенную на идее Лейбница и мире чисел и интегралов. Ученый - «максимальный термометр науки» [27. С. 21]. «Верчи текущего» - авторский неологизм, встречающийся уже в повести «Котик Летаев». Звукосочетание «Верч» навевает читателю образы вихря, кружения, воронки. Вихрь переходит в череду странных имен главного героя: «Сегодня - коробка, а завтра, - а завтра, -вскосматился он, - «к а п п а» какая-то!» [27. С. 253]. Так в сновидение Коробкина врываются воспоминания о его прошедшем чествовании, названном в романе «Страсти Коробкина» [27. С. 241], и подаренной ему звезде «Каппе». Героя, переживавшего духовный, научный и мировоззренческий кризис, привлекает диалектика Гераклита. «Взять в корне, -она, рациональная ясность, разъелась; из-под Аристотеля Ясного встал Гераклит Претемнейший: да, да, - очень дебристый мир!» [27. С. 160]. Предпочтение Гераклита Аристотелю отражает всю глубину духовной метаморфозы Коробкина, в процессе которой стал из ученого-испытателя «вывариваться - человек» [27. С. 160]. Последующее истязание героя (его лишают глаза) обернется для Коробкина-человека, как ни парадоксально, точкой прозрения для высшей духовной жизни, он обретет внутреннее зрение, узрит истину, обретет миссию - стать «согревателем Вселенной». Пражский и русский романы сближает и неоднозначная трактовка судьбы героев в конце повествования. Финал романа-дилогии «Москва» амбивалентный, вызывающий споры у исследователей. Коробкин, ощущая внутреннюю нерасторжимую связь с мучителем-«двойником» Мандро, прощает его после возвращения из клиники для душевнобольных. Второй том романа завершается взрывом, сотрясающим всю Москву. 146 Компаративистика / Comparative Studies «Он не видит - как крыша взлетает под небо, как дым выбухает, бросался с нею как рушится ржаво рыжавый косяк, вместе с жоло-бом, с кремово-бледным веночком» [27. С. 754]. На страницах романа возникает образ радужной и многоцветной Москвы: «Солнечно-писные стены! Лимонно вспоенная стая домов бледным гелиогородом нежилась - персиковым, ананасным, перловым, изливча-тым; синей стены эта белая лепень. И светописи из зеленого и золотого стекла!» [27. С. 722]. В параллель пережитым Коробкиным «страстям», его Голгофе и последующему преображению появляется образ восходящего над Первопрестольной солнца: «Солнце -взойдет!» [27. С. 119]. Солнце в поэтической системе Андрея Белого - это Абсолют, образ-символ с христологическими коннотациями, животворящее начало. Столь же сложен и амбивалентен финал австрийского романа. В «Големе» рассказчик, проснувшись, отправляется в еврейский квартал на поиски подлинного Атанасиуса Перната. Герой-рассказчик находит его пристанище - «дом последнего фонаря» [25. С. 233]. В своем сне рассказчик прежде был здесь: пробираясь сквозь туман, герой попадает на улицу алхимиков, на которой те «выплавляли философский камень и отравляли лунный свет» [25. С. 225]. Туман здесь служит символической границей между мирами (настоящим и прошлым, сновидческим и реальным). Впоследствии герой со своими друзьями размышляют о произошедшем: «Все существующие легенды этот Пернат переживает собственной персоной» [25. С. 232]. «В этом доме должен поселиться человек... лучше сказать Гермафродит... Создание из мужчины и женщины. У него в гербе будет изображение зайца» [25. С. 232]. Все это «знаки» того, что и сам рассказчик проходит свой собственный путь инициации, повторяя (переживая) путь своего сновидческого двойника Перната. Второй раз рассказчик отправляется по «тому же маршруту» в финале романа. Финал видится нам двойственным, открытым и решенным в утопических чертах. Герой плывет на лодке из «восьми неструганых досок» (перевозчик здесь как древнегреческий Харон, переправляющий через реку забвения Лета). Прага описана в финальной сцене в иных красках, не бесцветной и в моросящем дожде, а в разноцветных тонах, в особой тишине и в особый период суток, на рассвете: «У моих ног город лежит в утреннем свете, как блаженное видение» 147 Шарапенкова Н.Г. Роман «Москва» Андрея Белого в диалоге [25. С. 347]. «Ни звука. Только аромат и сверкание» [25. С. 347]. «Блаженное видение», «сверкание» в описании Праги отсылает нас к утопической топике. В финальной сцене появляются андрогинные образы - на воротах дома Атанасиуса Перната представлено изображение Гермафродита. В романе «пражского мистика» Гермафродит состоит «из двух половин, образуемых створками дверей, правая - женская, левая - мужская» [25. С. 348], реализуя тем самым идею Платона. Голова майринковского Гермафродита напоминает форму зайца, уши которого «страницы раскрытой книги» [25. С. 348], связанной с началом повествования (с книгой «Иббур»). Видение мраморного дома с Пернатом и Мириам (как наглядное воплощение идеи двуполого единого существа) также встраивается в общую палитру сцены, решенную в красках скорее видения, нежели реальности. Сама Мириам, возлюбленная Перната, предстает в ореоле вечной женственности: «Она кажется такой же молодой, какой я видел её сегодня ночью во сне» (у автора курсив, курсивом набраны и «мысли» рассказчика о двойнике: «Мне чудится, что я стою перед зеркалом, так похоже его лицо на мое собственное...» [25. С. 349]). Последующие слова отсылают нас вновь к сновидению и многочисленным встречам с двойниками, которые предстают как этапы пути героя. Андрей Белый и Густав Майринк - два представителя литературы модернизма - своими «запредельными» исканиями привели к обновлению жанровых особенностей, стиля, тематики романа, а также к созданию новых повествовательных форм. Исторический взрыв (разрушение еврейского квартала в Праге начала века и события в Москве в период Первой мировой войны) сопряжен в романах с идеей духовного пути главных героев. В романах «Москва» и «Голем» поставлены «вечные проклятые вопросы» о сущности человеческой природы, о его (человеке) «высших стремлениях» к истине, о границах познания. В своем сновидении рассказчик «Голема» отождествляет себя с Пернатом и, переживая во сне события из жизни мастера, повторяет (переживает) мистически пройденный Пернатом путь инициации - сотворения себя. Ученый-математик в романе «Москва» должен в конце своего пути стать «зрачком» мира, прозреть, обрести свою «самость» (по терминологии К.-Г. Юнга). Путь этот проходит через встречу «авторского героя с Тенью (с Мандро, 148 Компаративистика / Comparative Studies героем-трикстером). Образ-символ золотого Солнца становится грандиозной урбанистической утопией-спасением Первопрестольной и воплощением идеи перерождения героя. В том и другом романе воссоздано демоническое урбанистическое пространство - Москвы и Праги, описание которых в финале романов приобретает очертание утопического небесного города, преображенного через мистериальные страдания героя и явившиеся финалом их пути (инициации) к обретению высшего подлинного «Я».
Тиме Г.А. О некоторых тенденциях современной компаративистики (Теоретические и практические аспекты) // Россия, Запад, Восток: встречные течения. К 100-летию со дня рождения академика М.П. Алексеева. СПб. : Наука, 1996. С. 387-395.
Бройтман С.Н. Историческая поэтика. М. : РГГУ, 2001. 405 с.
Пискунов В.М. Из наблюдений над текстом романа «Москва» // Пискунов B. М. Чистый ритм Мнемозины. М. : Альфа М, 2005. С. 175-185.
Барковская Н.В. Под знаком Гераклита. Идейно-художественное своеобразие романа А. Белого «Москва» // Русская литература 20 века. 1992. Вып. 1. C. 94-104.
Спивак М.Л. Андрей Белый - мистик и советский писатель. М. : РГГУ, 2006. 577 с.
Оболенска Д. Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого. Гданьск : Гданьский ун-т, 2009. 274 с.
Тимина С.И. Забытая классика (роман Андрея Белого «Москва») // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2016. № 1 (179). С. 20-25.
Магомедова Д.М. Мотивы «Страшной мести» Н. Гоголя в романном цикле А. Белого «Москва» // Андрей Белый в изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения / [сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина, И.Б. Делекторская]. М. : Наука, 2008. С. 398-403.
Коно В. Мотив «глаза» в романе «Москва» А. Белого // Андрей Белый в изменяющемся мире: к 125-летию со дня рождения / [сост. М.Л. Спивак, Е.В. Наседкина, И.Б. Делекторская]. М. : Наука, 2008. С. 489-498.
Зусман В.Г. Пражский круг // История австрийской литературы ХХ века : в 2 т. М. : ИМЛИ им. Горького РАН, 2009. Том I. Конец XIX - середина XX в. С. 262-279.
Бескровная Е.Н. Вечный жид Густава Майринка. URL: https://interactive-plus.ru/e-articles/epub-20140725/epub-20140725-3319.pdf
Теличко А.В. Трансформация жанра «роман становления» («Entwicklungsroman») в творчестве Г. Майринка // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Филология, педагогика, психология. 2013. С. 151-156.
Каминская Ю.В. Романы Густава Майринка 1920-х гг. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2004. 154 с.
Фрумкин К.Г. О ложном гуманизме и настоящей магии. Взгляд на пьесу Горького «На дне» после прочтения Густава Майринка. URL: https://fantlab.ru/article881
Гугнин А.А. Магический реализм в контексте литературы и искусства XX века: феномен и некоторые пути его осмысления. М. : Институт славяноведения РАН, 1998. 120 с.
Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного: Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. М. : Изд-во МГУ, 1999. 308 с.
Иванов Вяч.Вс. Профессор Коробкин и профессор Бугаев. К жанровой характеристике романа «Москва» А. Белого // Москва и «Москва» Андрея Белого. М. : РГГУ, 1999. С. 11-28.
Азадовский К., Лавров А. Новое о встречах Томаса Манна с русскими писателями («Слово благодарственное» Андрея Белого Томасу Манну) // Русская литература. 1978. № 4. С. 146-151.
Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка 1913-1932 гг. / публ., вступ. ст. и комм. А.В. Лаврова и Дж. Мальмстада. СПб. : Atheneum. Феникс, 1998. 736 с.
Тургенева А. Воспоминания о Рудольфе Штейнере и строительстве первого Гётеанума. М. : Новалис, 2002. 137 с.
Ходасевич В.Ф. Андрей Белый // Ходасевич В.Ф. Некрополь. Воспоминания. М. : Сов. писатель, Олимп, 1991. С. 44-69.
Берберова Н. Курсив мой: Автобиография. М. : АСТ. Астрель, 2010. 765 с.
Кожевникова Н.А. Евангельские мотивы в романе Андрея Белого «Москва» // Евангельский текст в русской литературе XVIII-XX вв. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 1995. С. 493-504.
Лотман Ю.М. Сон - семиотическое окно // Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб. : Искусство-СПб, 2010. С. 297-335.
Майринк Г. Голем. М. : Вече, 2019. 352 с.
Никифоров В. Синдром Голема // Литературное обозрение. 1992. № 5-6. С. 65-69.
Белый А. Москва / сост. С.И. Тиминой. М. : Сов. Россия, 1989. 768 с.
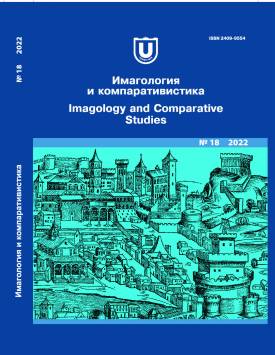

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью