Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии (на материале мемуаров А.Т. Болотова)
Рассматривается имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии в мемуарах А.Т. Болотова, где Кенигсберг выделен в качестве пространственного центра, по отношению к которому иные локусы (городов, деревень, природы) периферийны. Установлена связь как центрального, так и периферийных локальных вариантов с двумя типами пространства - авантюрно-мортальным и идиллическим. В образе прусской столицы выделены также черты города увеселений, исторического локуса и «инициирующего» места познания. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The imaginal-geographic space of East Prussia (based on Andrey Bolotov’s memoirs).pdf Мемуары А.Т. Болотова «Жизнь и приключения Андрея Болотова: описанные самим им для своих потомков» в последнее время привлекают все большее внимание отечественных филологов. Причем аспекты исследования весьма разнообразны: и история создания текста [1], и анализ произведения в качестве источника сведений о провинциальной России [2] и русской армии [3] описываемого периода, и тема литературного пейзажа, представленного в мемуарах [4]. Еще одним вопросом, привлекающим внимание литературоведов, выступает локус Пруссии, описываемый А. Т. Болотовым в связи с его участием в событиях Семилетней войны. Отечественные исследователи Е.Э. Овчарова [5], А.А. Пауткин [6] сосредоточивают свое внимание на кенигсбергском периоде жизни автора мемуаров. В. Шмидт в работе, опубликованной в конце прошлого века [7], рассматривает больший хронотоп, охватывающий всю Восточную Пруссию, представленную в тексте. Во всех трех вышеупомянутых работах «прусский» фрагмент анализируется обобщенно, и его пространственная составляющая является лишь одной из множества тем. Кроме того, исследование В. Шмидта отличается некой описательностью, что объясняется задачей познакомить немецкоязычную аудиторию с текстом малоизвестного ей русского автора. Таким образом, имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии в мемуарах А. Т. Болотова не выступало еще в качестве отдельного объекта литературоведческого исследования, и целью нашей работы является выделение и характеристика основных черт данного локуса. 213 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии Прежде чем перейти к непосредственному анализу имажинально-географического пространства Восточной Пруссии в болотовском тексте, сделаем пару замечаний относительно литературного контекста данного произведения, позволяющего указать на важные особенности в изображении автором данного локуса. Как указывают А.В. Антюхов и С.Ю. Антюхова, «сущностную основу» хронотопа русской мемуаристики XVIII столетия определяют «два типа биографического самосознания» авторов: «авантюрно-героический с его ориентацией на публичную внешность человека и социальнобытовой с его интимно-камерным аспектом» [8. С. 60]. В этом аспекте «прусские» фрагменты болотовских мемуаров представляют собой нечто амбивалентное: с одной стороны, мы имеем дело со свидетельством участника Семилетней войны, что актуализирует авантюрно-героический хронотоп, но с другой - эта авантюрность оказывается значительно смягчена, поскольку о большинстве событий, которые А.Т. Болотов не наблюдал непосредственно, он сообщает в несколько отстраненной манере хрониста, а его личный военный опыт в основном относится к бытовой сфере армейской службы, включая изображение анекдотических ситуаций. Кроме того, значительную часть кампании молодой А. Т. Болотов проводит не на полях сражения, а в захваченном Кенигсберге при канцелярии губернатора, занимаясь переводами, танцами, чтением книг, естественнонаучными кунстштюками и прочими мирными занятиями, по сути, перемещаясь из героического в «камерный» социально-бытовой топос. Еще одним ракурсом связи мемуаров А.Т. Болотова с литературной традицией его времени выступает сравнение болотовского текста с «Письмами русского путешественника» Н.М. Карамзина, что неизбежно, поскольку время начала оформления «Жизни и приключений Андрея Болотова...» и публикации «Писем» примерно совпадают. На аналогии в карамзинском и болотовском текстах указывает, в частности, А.А. Пауткин, отмечая также, что «.кенигсбергские страницы [в мемуарах А.Т. Болотова. - Авт.] несут на себе следы воздействия литературы рубежа XVIII-XIX вв.» [6. С. 58]. Как и у Н.М. Карамзина, героем болотовских писем выступает «восторженный, тонко чувствующий молодой человек» [6. С. 59]. Сходно с карамзинскими и описание А.Т. Болотовым демиприродных, идиллических по своей природе, локусов деревни, городских окрестностей и садов. 214 Имагология / Imagology В то же время между карамзинским и болотовским текстами существуют определенные различия. Первое, что бросается в глаза, -это стиль изложения, который у А.Т. Болотова никогда фактически не достигает той степени экзальтации и риторических изысков, которые свойственны аналогичным «немецким» фрагментам «Писем» Н.М. Карамзина. Не встречаем в болотовском тексте и пространных описаний средневековых немецких локусов в духе предромантизма, характерных для карамзинского текста [9]. В целом описания Восточной Пруссии у А.Т. Болотова более сухи, рационалистичны', чем изображение Германии у Н.М. Карамзина. Таким образом, в болотовском тексте ощущается и частичное сходство с досентимента-листским просветительским модусом. Переходя к описанию структуры имажинально-географического пространства Восточной Пруссии, отметим прежде всего, что ее однозначный ценностно-смысловой центр в болотовском тексте образует город Кенигсберг, по отношению к которому остальные локусы играют роль периферии, что неизбежно ставит А.Т. Болотова как героя мемуаров в ситуацию пересечения границ. Причем, по сути, путешествие в Кенигсберг начинается для нарратора задолго до пространственно-временной точки входа героя в непосредственное пространство Пруссии. Этому событию предшествует целый ряд переходов, подготавливающих к попаданию автора мемуаров в Кенигсберг, ставший местом своеобразной «инициации» нарратора. Причем провиденциалистский аспект этого путешествия-инициации задан в тексте эксплицитно. Нарратор рассматривает свою жизнь как находящуюся в руках Провидения, а свободу воли -как возможность следовать душеспасительному пути. В момент пересечения границы с Пруссией А.Т. Болотов описывает охватившее русское войско «особливое чувствование»: «Благослови, Господи теперь дошли мы наконец до прусской земли! Кому-то Бог велит благополучно из нее выттить и кому-то назначено положить в ней свою голову!» [10. Т. 1. С. 466]. Попадание же в Кенигсберг нар-ратор расценивает как знак личного благоволения небес: 1 Так, по замечанию В. Шмидта, болотовский Кенигсберг представляет собой «очень точное топографическое описание» города [7. S. 199] (пер. с нем. наш. - С.Ж.). 215 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии «... произошло то не по слепому случаю, что я тогда приехал в Кенигсберг, но промыслу Господню угодно было. привесть меня в сей прусский город, дабы я, живучи тут, имел случай узнать сам себя и короче, все на свете, и мог чрез то приготовиться к той мирной, спокойной и благополучной жизни, какою Небу угодно было меня благословить в последующее потом время.» [10. Т. 1. С. 672-673]. Таким образом, путешествие А.Т. Болотова в Восточную Пруссию приобретает в том числе огласовку паломничества, хождения в святую землю во спасение души. Сложное сочетание свободного волеизъявления и вынужденности, насильственности, согласно Г.А. Тиме, вообще свойственно феномену русского путешествия в Европу, аккумулирующего, «на первый взгляд, противоречивое сочетание ощущений: изгнание и убежище, чужбина и пристанище свободно мыслящего человека, смертельная опасность и возможность спасения» [11. С. 5]. Болотовское путешествие в Кенигсберг, растянутое во времени и пространстве, тоже амбивалентно. С одной стороны, по распоряжению отца А.Т. Болотов в детстве неохотно, из-под палки осваивает азы немецкого под руководством германского унтер-офицера, с другой стороны, мирное продолжение обучения в Курляндии1 на мызе Пац, по признанию самого автора мемуаров, значительно улучшило его знание немецкого, вызвало сильную перемену в его «натуре и поведении» и заложило «... столько начатков к хорошему, что плоды проистекли из того на всю жизнь.» [10. Т. 1. С. 81]. В Восточную Пруссию А. Т. Болотов попадает вынужденно, не имея права покинуть службу и участвуя в качестве офицера в Семилетней войне, но случай, знание немецкого языка и упорство помогают ему остаться в Кенигсберге, месте «инициации», где «.приобрел обширнейшие интересы и навыки, развитые им в полной мере в течение своей про- 1 В этом смысле связанные с немецкостью хронотопы Курляндии и Эстлян-дии есть медиационные локусы, служащие проводниками в пространство Восточной Пруссии и собственно Кенигсберга. При этом на лиминальный случай индивидуального пути А.Т. Болотова проецируется ситуация «семиотического полиглотизма» [6. С. 53], характерная для отечественной культуры того времени, когда рецепция немецкости (а затем и французскости) как приобщения к европейскости становится фактически обязательной для русской элиты. 216 Имагология / Imagology должительной дальнейшей жизни, наполненной неустанным трудом на пользу своей семьи и российского общества» [5. С. 414]. Наконец, появление манифеста о вольности дворянства, ставшего основой свободных путешествий русских дворян, позволило А.Т. Болотову, наоборот, вернуться из Кенигсберга в Россию. Охарактеризовав структуру пространства Восточной Пруссии в целом, перейдем к описанию отдельных локальных вариантов «прусской» имажинально-географической периферии, отметив предварительно, что каждый из них так или иначе связан с мотивом опасности. Первый тип изображения восточнопрусского пространства связан с участием А.Т. Болотова в военном походе. При этом описание локусов амбивалентно. С одной стороны, Восточная Пруссия маркируется как территория противника с соответствующими мотивами тревоги, страха при попадании в это пространство: «страшная нам прусская пограничная крепость Мемель» [10. Т. 1. С. 456], «излишние предосторожности» [10. Т. 1. С. 459] при организации лагеря в «польском местечке Вербалову», «которое было самое почти последнее до прусской земли» [10. Т. 1. С. 458]. В момент вступления в «неприятельскую землю» войско охватывает «особливое чувствование» [10. Т. 1. С. 466], в котором сливаются экзистенциальные переживания смертности, а также неуправляемости собственной судьбой в рамках авантюрного хронотопа. Тут мы имеем дело с антиципацией Чужого как нечто опасно-непонятного, но в дальнейшем при реальном столкновении с пруссаками, т. е. в пограничном пространстве непосредственного взаимодействия с Чужим, этот страх существенно редуцируется, ему на смену приходит стремление к утверждению себя в пространстве, к доказательству того, что русские воины ничем не хуже хваленых пруссаков («...храбрость оных превозносима была тогда до небес, и описываема была нам уже слишком величайшею, хотя в самом деле силы его [неприятеля. - Авт.] далеко были не таковы страшны» [10. Т. 1. С. 456]. При этом Семилетняя война в болотовском тексте, хотя автор и осуждает ее ужасы и ожесточение сторон, рассматривается им как приобщение к европейскости, как вхождение России в геополитическое пространство Европы. Эта интенция доказать, что мы Европа, а не Азия, примечательным образом проявляется в возникающем противопоставлении регулярных войск, возглавляемых как русскими, 217 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии так и иностранными офицерами, казакам и калмыкам, которые маркируются как варвары, т.е. выводятся за семиотические границы регулярных русских войск, старающихся придерживаться конвенциональных правил, действующих в рамках «цивилизованных», европейских войн: «Они покрыли нас стыдом и бесславием передо всем светом, ибо слух о сих разорениях и варварствах рассеялся тотчас повсюду, и везде стали почитать нас сущими варва-рами»1 [10. Т. 1. С. 465]; «.поступки наших казаков и калмыков по истине приносили нам мало чести, ибо все европейские народы, услышав о таковых варварствах, стали и обо всей нашей армии думать, что она таковая же» [10. Т. 1. С. 477]. Впрочем, автор мемуаров также показывает размытость этой границы между цивилизацией и варварством, Западом и Востоком, поскольку европейцы во время войны также разоряют земли противника: «. самые саксонцы, сии лучшие и порядочнейшие солдаты, сделались. варварами и совсем на себя были не похожи. Им досталось квартировать в Шарлоттенбурге, славном по-королевскому увеселительному дворцу Они с лютостью и зверством напали на дворец сей и разломали все, что ни попалось им на глаза мужчины избиты и изранены саблями, женщины и девки изнасильничаны, и некоторые из мужчин до того были избиты и изранены, что испустили дух при глазах своих мучителей» [10. Т. 2. С. 26]. Данный авантюрно-мортальный хронотоп войны, который мы далее не рассматриваем ввиду крайне малой его маркированности немецкостью, накладывается, однако, на вполне мирные, чуть ли не идиллические немецкие локусы, примерами описаний которых полны русские травелоги конца XVIII - начала XIX вв. Это упорядоченное, освоенное пространство, причем степень упорядоченности немецких земель выше, чем, например, польских2: «Мы нашли места 1 Впрочем, оценки А.Т. Болотова тех же казаков вовсе неоднозначны. В частности, автор отмечает, что варварство противника преувеличивалось пруссаками с целью очернить противника: «.за казаков наших поручиться никому не можно. Однако и то правда, что никто так бесстыдно не умел лгать, как пруссаки, и что им уже не в диковинку было сплетать иногда сущие лжи или, по крайней мере, из каждой мухи делать слона» [10. Т. 1. С. 774]. 2 Это сравнение не в пользу Польши встречается и дальше в тексте: «.мы. вошли в пределы, так называемой, Польской Пруссии. Эту землю нашли мы 218 Имагология / Imagology сего королевства совсем отменными от польских. Тут господствовал уже во всем иной порядок...» [10. Т. 1. С. 466]; «...какую восхитительную перемену увидел я во всем, въехав в пределы королевства Прусского» [10. Т. 1. С. 638]. С упорядоченностью в рамках русти-кальных локусов связаны также мотивы чистоты, удобства, уюта, изобилия1 как человекосоразмерные характеристики: «.деревни были чистые, расположены и построены изрядным образом, дороги повсюду хорошие.» [10. Т. 1. С. 466]; «изобильные прусские деревни» [10. Т. 1. С. 490], «множество деревень», которыми «усеяны» поля» [10. Т. 1. С. 638]. Те же свойства подчеркнуты в описании деревенских домов: «. какие же домы, какие строения и какой порядок виден был повсюду! У каждого мужика был такой домик, какого у нас не имеют и многие дворяне, а особливо из бедных. . все было опрятное, уютное, все покрытое снопами и все в порядке» [10. Т. 1. С. 638]. Неудивительно, что эти идиллические не разоренные локусы мира вызывают у русских совершенно противоположные чувства, чем мортально-авантюрное военное пространство, маркируясь мотивом дружелюбия («.казалось тогда, что мы не в неприятельскую, а в дружескую вошли землю»), что усиливается отношением местного населения: «.как тогда не делано еще было никакого разорения, то все жители находились в своих домах, и не боясь ни мало нас стояли все пред своими домами, а бабы и девки наполняли ушаты свежей воды и поили солдат мимоидущих» [10. Т. 1. С. 466]. Это также пространство эстетического любования, подобного созерцанию идиллической Саксонии в карамзинском тексте: «. на все без особливого удовольствия смотреть было не можно» [10. Т. 1. С. 466]; «Истинно не можно было нам довольно налюбоваться» [10. Т. 1. С. 638]. весьма отменною от прусской: все жители были. несравненно беднее и хуже прусских. Что ж касается до городов и местечек, то они были довольно изрядные, однако далеко не таковы хорони, как прусские дороги были несравненно хуже нежели в Пруссии..» [10. Т. 1. С. 642-643]. 1 Однако изобилие тоже может быть смертельным. Как пишет А.Т. Болотов, на прусских огородах русские солдаты нашли много поспевающего картофеля, о котором «.до того и понятия не имели» [10. Т. 1. С. 489]; неумеренное потребление нового продукта в итоге вызвало болезни и смерть нескольких сот человек. 219 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии Маркерами освоенности человеком прусского пространства выступают также традиционные при описании немецких локусов мотивы плотности населения («Не было места, с которого б не видно было вокруг деревень до десяти») и миниатюрности немецких локусов («небольшие» деревни [10. Т. 1. С. 638]). Мотивы миниатюрности1 (в том числе за счет использования уменьшительно-ласкательных суффиксов), упорядоченности2, чистоты, многонаселенности, довольства, уюта характерны и для описания урбанистических локусов: «Городок сей [Инстербург. - С.Ж.] хотя не гораздо велик, но довольно хорош. Строение в ней каменное, высокое и довольно прибо-ристое» [10. Т. 1. С. 478]; «...он [Тильзит. - С.Ж.] был весьма изрядный городок Строение в нем было изрядное: каменное и деревянное, и жителей находилось довольное количество, и между оными было довольно зажиточных» [10. Т. 1. С. 586]; «.я нашел и городок сей [Гумбин. - С.Ж.] весь порядочно и по плану выстроенным; не было в нем слишком богатых и великолепных домов, но зато повсюду господствовал порядок и везде видна была чистота и опрятность. Улицы повсюду были широкие и прямые; площади на перекрестках просторные, а домики. хотя не большие, но прекрасные, уютные, покойные и на большую часть раскрашенные разными красками прекрасный городок наполнен был множеством ма- 1 Отметим особо характерную метонимию, когда немецкий правитель маленького владения сам называется маленьким. Так, в журнале путешествия В.Н. Зиновьева «маленьким» обозначается кассельский князь [12. С. 349]. А.Т. Болотов же описывает «образ жизни маленьких германских удельных князей» на примере «бискупа эрмландского» [10. Т. 1. С. 641]. Мотив миниатюрности пронизывает это описание: «Жил он тут как маленький государь: имел у себя несколько военных людей.; были у него также пушки и придворный маленький штат, но все сие в сущей миниатюре пред большими государями» [10. Т. 1. С. 641]. 2 Прусская упорядоченность проявляется в небывалой для русского офицера точности поставок фуража: «.не мог. надивиться исправности прусского правительства, ибо по всем местам, где нам по расписанию назначено было ит-тить, находили мы уже все заготовленное. Был везде готов не только провиант и фураж, но навезены со сторон всякие нужные съестные припасы для продажи войску. Что касается до сена, не было нужды его вешать: .оно было перевязано в пуки, по десяти фунтов; итак, стоило только отсчитывать оные.» [10. Т. 1. С. 642]. 220 Имагология / Imagology стеровых всякого рода рукомесленных людей и может почесться наилучшим из всех прусских маленьких городков» [10. Т. 1. С. 639]; «... через прусские местечки поход... был прямо веселый и приятный. Места сии были хорошие и всем изобильные Оба [местечка Шипенбейль и Бартенштейн. - С.Ж.], хотя старинные и не по плану построенные, однако весьма изрядные, имеющие в себе прекрасные и уютные домики и хорошие ратуши, а в последнем из них - старинный разоренный замок» [10. Т. 1. С. 640-641]. Как видим из этих описаний, в выборе городских объектов описания А.Т. Болотов больше подобен авторам докарамзинской эпохи: разоренный средневековый замок не привлекает его внимания, зато мемуарист питает пристрастие к регулярной застройке «по плану». Хотя А.Т. Болотов довольно лаконичен в изображении городской архитектуры, он достаточно подробно описывает непривычные для него фахверковские дома: «Они называются у них фахверками или кирпичными мазанками, и составляют средний род здания между каменных и деревянных, и довольно хороши и пригожи» [10. Т. 1. С. 643]. В качестве особенности прусских и польско-прусских городов упоминается также обязательное наличие в них аптек, «. в которых продавались не столько лекарства, сколько всякие овощи и съестные вещи» [10. Т. 1. С. 643]. Все эти перемещения нарратора из одних прусских городков и местечек в другие есть предуготовление к главному путешествию «немецкого» фрагмента мемуаров - попаданию в пространственный центр, город Кенигсберг, который будет охарактеризован позднее. Здесь же заметим, что А.Т. Болотов настолько оказывается связан с относительно безопасным городским локусом, что всякий выход далеко за его пределы чреват опасностью и возвращением в авантюрно-мортальное пространство. Если речь идет о прогулках в окрестностях Кенигсберга, то это идиллические локусы «вниз по реке Прегелю», месте, которое «.в особливости хорошо и удобно для гулянья. Оно изрыто множеством каналов, усаженных аллеями из деревьев, а по главной аллее находятся многие увеселительные домики и трактиры, для отдохновения гуляющим» [10. Т. 1. С. 862]. Как видим, это освоенное человеком пространство, облагороженная, а не дикая природа. Изображение данных прогулок во многом напоминает саксонские эпизоды карам- 221 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии зинского текста с его панорамными пейзажными описаниями, в которых демиприродный локус подается как объект эстетического восприятия, своего рода максимально статичная «живая» картина. В болотовском тексте присутствуют типичные детали такого немецкого идиллического изобильного локуса-«картины»: равнинная река; по одну ее сторону «широкая, гладкая, возвышенная, осажденная с обеих сторон ветлами» дорога; по другую - «луга, пересеченные также кое-где рядами насажденных лоз», «бесчисленное множество всякого скота, стрегомого на лугах» [10. Т. 1. С. 962]. Красочности и медитативного созерцательного умиротворения добавляют «плывущие по реке малые и большие суда, белые, распростертые их паруса, разноцветные флаги» [10. Т. 1. С. 962] и толпы гуляющих в праздничные и воскресные дни. Причем, как подчеркивает А.Т. Болотов, несмотря на множество народа, «нигде и никогда» не наблюдалось «... какого-нибудь бесчиния и шума, а все было тихо, кротко и хорошо, так что мило было смотреть и можно было всегда с приятностью провождать свое время» [10. Т. 1. С. 963]. В эту идиллическую рамку, подобно карамзинскому тексту, вписан город, который составляет с демиприродными окрестностями единое созерцательное целое: «. город, сидящий отчасти на горе, отчасти на косогоре; многочисленные его красные черепичные, а инде зеленые и от солнца иногда, как жар горящие, кровли домов высоких; королевский замок, возвышающийся выше всех зданий на горе, и четвероугольною и высокую башнею своею особливый и. важный вид представляющий; высокие и остроконечные колокольни церквей. между бесчисленными домами; зеленые валы крепости.; целый лес из мачт судов многих, украшенных флюгерами и вымпелами разноцветными; многие огромные и превысокие ветряные мельницы. - . все сие пред ставляло глазам в сем месте приятное зрелище.» [10. Т. 1. С. 962]. Но плавание на шлюпке к самому отдаленному из домиков для гулянья (по сути, на границе идиллического локуса) вместе с товарищами по канцелярии оборачивается опасным приключением. В отличие от чинных немцев болотовские спутники отправляются, чтобы «попьянствовать и побуянствовать прямо по русскому манеру» [10. Т. 1. С. 963]. На обратном пути же меняется сама река: «.поразился я страхом и ужасом, когда увидел реку, вместо прежней гладкости и тишины, всю покрытую страшными волнами, ибо между тем, покуда они помянутым 222 Имагология / Imagology образом пили, погода переменилась и поднялся превеликий ветер снизу и произвел в реке превеликое волнение» [10. Т. 1. С. 964]. Кроме того, хмельные, за исключением самого рассказчика, отдыхающие велели поднять парус, так что шлюпка чуть не затонула. Еще одним попаданием в опасный авантюрный хронотоп является поездка А.Т. Болотова по секретному поручению кенигсбергского губернатора с целью арестовать прусского графа Гревена, который должен был затем предстать для допроса в тайной канцелярии в Санкт-Петербурге. Помимо опасений, что граф может оказать вооруженное сопротивление, нарратор испытывает мучения от самого перемещения в пространстве: «...езда сия была мне довольно отяготительна, потому что я ехать принужден был в самое жаркое летнее время, в открытой прусской скверной телеге и терпеть пыль и несносный почти жар от солнца, и место в середине, где сидеть должно, между решеток так тесно и узко, что с нуждою усесться можно» [10. Т. 2. С. 77]. В связи с авантюрным хронотопом в болотовском тексте вновь актуализируются мотивы смертельной опасности и случая: «.сделалось. стеснение в груди от мыслей, что приближалась минута, в которую и моя собственная жизнь могла подвергнуться бедствию и опасности. Однако, положившись на власть божескую и предав в произвол его и сей случай, пустился я с командою моею смело навстречу к графу» [10. Т. 2. С. 84]. Наконец, еще одним смертельно опасным приключением для нарратора стало путешествие по Пруссии из Кенигсберга обратно в Россию1. Этот путь связан с различными затруднениями, ретардациями: «.как выехал я уже в начале марта к Мемелю 1 Эпизод расставания автора с «милым и любезным градом» [10. Т. 2. С. 142] -это почти "зеркальное отражение" сцены отъезда русского путешественника в «Письмах» Н.М. Карамзина. По степени эмоциональности и сентименталист-ской риторике фрагменты вполне сопоставимы. При этом карамзинский нарра-тор покидает Родину и дорогих его сердцу людей, а в болотовском тексте происходит, наоборот, отъезд в Россию, но одновременно и расставание со значимым для автора локусом «инициации»: «Не могу никак изобразить, с какими чувствованиями выезжал я из. города и как распращивался со всеми улицами. и. знакомыми себе местами. Вся внутренность души моей преисполнена была. нежными чувствами, и я так был всем тем растроган, что едва успевал утирать слезы.» [10. Т. 2. С. 142]. 223 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии длинною пустою песчаною косою, то не везде находили мы снег, но в иных местах принуждены были тащиться по голому песку и раскаиваться в том, что поехали сею дорогою. А как на другой день дошло до того, что нам надобно было переезжать залив морской, поперек по льду, то раскаяние наше увеличилось еще и более» [10. Т. 2. С. 144]. Переезд через Курский гаф, как и путешествие на шлюпке, грозит А.Т. Болотову утоплением: «.лед сей далеко не таков толст и крепок был, как на реках, . переезжать по нем через залив всегда было не без опасности, делались на нем превеликие трещины и вода, выступая из-подо льда, разливалась иногда на знатное расстояние по поверхности оного. души во мне почти не было до тех пор, покуда мы его не переехали. Во многих местах принуждены мы были не ехать, а тащиться по напоившемуся водою глубокому снегу, во многих других ехать по воде и столь инде глубокой, что я того и смотрел, что мы где-нибудь либо проломимся и пойдем на морское дно со всею повозкою своею, или огрязнем так, что нам и выдраться будет не можно и мы всю пожить свою подмочим и попортим» [10. Т. 2. С. 144-145]. Впрочем, само пребывание в Кенигсберге в болотовском тексте связано с ощущением опасности. Это, во-первых, постоянная, как дамоклов меч, угроза быть отозванным по приказу из мирного локуса в авантюрно-мортальный хронотоп войны, чреватый увечьями и смертью: «.лишишься покоя, безопасности и тысячи выгод, которыми до сего времени ты пользовался и без всякой нужды подвергнешь себя опять не только всем прежним трудам, нуждам, волокитам, но и самым опасностям. не в тот, так в другой случай дойдет и до тебя очередь. и тебя калекою сделают и изуродуют Об усердии и ревности твоей никто и не узнает, а ты изволь влачить на век жизнь горестную и несчастную; но хорошо когда не случилось чего худшего. укокошат молодца по примеру других Пуля глупа и не разборчива...» [10. Т. 1. С. 801-802]. Во-вторых, локус Кенигсберга также амбивалентен. Хотя идиллический элемент преобладает в болотовском описании Кенигсберга, что будет показано далее, образ этого города имеет в тексте и не столь приятную, то прозаическую, то пугающую сторону. Сюда относится, например, «особый глухой и от лучших городских мест удаленный угол» с «темными», «совсем пустыми» и «даже страшны-224 Имагология / Imagology ми» «никем необитаемыми узкими переулками» между амбарами-шпиклерами, грубыми полукаменными зданиями [10. Т. 1. С. 676]. Вообще, средневековая кривизна и узость улиц, где «... находятся уже все сплошные и о несколько этажей каменные дома, сплощенные между собою наитеснейшим образом» [10. Т. 1. С. 702], оценивается автором, привыкшему к русскому простору, скорее негативно: «Единое только мне не полюбилось, что дома у них, а особливо в лучших частях города, очень тесны и беспокойны; большая часть не более сажен двух или трех шириною, и при том все покои в них имеют окна в одну только сторону.» [10. Т. 1. С. 713]. Узость, темнота, неудобство как свойства, связанные с неуютом, характеризуют внутреннее устройство дома: «. сие приносит с собою ту неудобность, что всходить в верхние этажи должно. темною и самою беспокойною круглою лестницею, ощупью Дворы есть у весьма редких домов, да и те очень тесные.» [10. Т. 1. С. 713]. Кроме того, А.Т. Болотов сетует на еще одну «досадную неудобность» «тесных городских улиц»: «. по ночам всякую нечисть и сор выкидывают из домов на улицы, которая хотя ежедневно особыми и нарочно к тому определенными людьми счищается и свозится долой, но нередко бывает от того дурной запах и духота, заражающая воздух.» [10. Т. 1. С. 714]. Неудивительно, что столь ценящий визуальную панорамность мемуарист маркирует нижние этажи узких и устремленных вверх домов негативными свойствами скуки и темноты («обыкновенно бывают очень скучны и от узкости улиц темны» [10. Т. 1. С. 714]). Кроме того, Кенигсберг, как всякое место инициации героя, связан с испытаниями, опасностью, искушениями. В случае А. Т. Болотова эти испытания имеют не физическую, а морально-волевую природу. Нарратору приходится не только прилагать усилия и надеяться на случай / провидение, чтобы остаться в Кенигсберге, но и сопротивляться соблазнам города. Одни из этих соблазнов физического рода, поскольку наряду с идиллической Кенигсберг имеет также маргинальную сторону, связанную с темами пьянства, азартных игр и проституции': «.Кенигсберг преисполнен всем тем, что 1 Эта маргинальная тема, однако, встречается во многих «немецких» траве-логах русской литературы, в том числе карамзинском, когда речь заходит о крупных германских городах. 225 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии страсти молодых и в роскоши и распутствах жизнь свою провожда-ющих удовлетворять... может, в оном превеликое множество трактиров и биллиардов и других увеселительных мест; женский пол в оном слишком любострастию подвержен и. находятся в оном превеликое множество молодых женщин, упражняющихся в бесчестном рукоделии и продающих честь и целомудрие свое за деньги» [10. Т. 1. С. 688-689]. Несколько раз А.Т. Болотов упоминает, что товарищи старались склонить его к распутству и пьянству, но он избегал соблазнов авантюрно-опасной стороны города: «.единая невидимая рука Господня спасла и не допустила меня в таковой же тине мерзостей и беззаконий погрязнуть, в которую погрузили себя все почти наши офицеры. и поныне не могу довольно надивиться тому, каким образом я тогда от сего зла свободился. Целому стечению многих и разных особливых обстоятельств надлежало быть к тому, чтоб избавить меня от тех опасностей, которыми я окружен был, и руке Господней, или паче промыслу его. принуждено было насильно исторгнуть меня из средины общества людей, .развращенных и опасных.» [10. Т. 1. С. 691]. Таким образом, Кенигсберг имеет черты города-блудницы с набором характерных порочных локусов (трактиров, биллиардов, винных погребов, непотребных домов), причем опять-таки тема попадания в опасноавантюрное пространство связано с мотивом погружения-утопления. Еще одним авантюрно-фривольным топосом выступает у А.Т. Болотова ярмарка1 с ее увеселениями, включая народный театр, который описывается автором негативно, как пространство низкопроб- 1 Впрочем, «прусскому» имажинально-географическому пространству в болотовских мемуарах вообще свойственна амбивалентность. Соответственно, то-посу авантюрно-опасной, фривольной «проклятой ярмонки» [10. Т. 1. С. 722] с ее «буянством» и «шумом» [10. Т. 1. С. 723] противопоставлена благая рождественская «христова ярманка» [10. Т. 1. С. 846] с «конфектами» и блеском огней, которая, по впечатлениям А.Т. Болотова, «.производит довольно приятное зрелище» и связана с идиллической семейственностью: «Весь город дожидается ярманки сей, власно как некоего особливого праздника лучшие мещане со всеми своими семействами и малолетными детьми съезжаются Обыкновение у них есть покупать малолетным детям своим в сей вечер конфекты и игрушки и другие мелочные подарки и приносить и привозить таковые же остающимся дома» [10. Т. 1. С. 847]. 226 Имагология / Imagology ного фарса шуток, где на фоне «кой-как размазанных кулис» [10. Т. 1. С. 718] «усатый гарлекин» «...старается разными своими кривляниями, коверканиями, глупыми и грубыми шутками и враньем, составляющим сущий вздор, смешить и увеселять глупую чернь, смотрящую на него с разинутыми ртами и удивлением. Не бывает тут никакого порядка и никакой связи в представлениях, а все действия и вранье сих представляющих лиц было столь нелепо и несвязно, что без чувствования некоего отвращения на них смотреть. было не можно.» [10. Т. 1. С. 719]. Это также место обмана, поскольку, по А.Т. Болотову, представление использовалось содержателем театра, чтобы привлекать публику для последующей продажи «обманных лекарств» [10. Т. 1. С. 719]. Ярмарка привлекает и ряд офицеров русской армии, которые здесь «.упражнялись в разных забиячествах и непростительных шалостях, а иногда и самых непотребствах» [10. Т. 1. С. 721-722]. Продажным женщинам1 сам А.Т. Болотов, однако, предпочел книги, поскольку Кенигсберг для него «оказался своеобразными "вратами учености", территорией самопознания» [6. С. 60], о чем будет сказано далее. Но с познанием связано другое искушение автора мемуаров - искушение, как он ее называет, «вольфианской философией», порождающей вольнодумство: «.была она такого свойства, что как скоро из последователей оной кто-нибудь похочет. углубляться более в существо вещей всех, то всего и скорее может сбиться с правой тропы и заблудиться до того, что сделается наконец деистом, вольнодумом и самым даже безбожником, и что весьма многие, преразумные впрочем люди, действительно от ней таковыми негодяями сделались и, вместо искомой пользы, крайний себе вред приобрели и в невозвратимую впали пагубу, так как то же самое едва было и со мною не случилось.» [10. Т. 1. С. 983-984]. Заметим, что мотив знания в данном случае актуализируется через пространственную образность, заданную словами «углубляться в сущность», «сбиться с тропы», «заблудиться». Спасительным средством, помогшим А.Т. Болотову справиться с искушением, выступает другая, крузианская философия, с которой автор знакомится у магистра 1 Для А.Т. Болотова Кенигсберг тоже город «бесчисленных утех и удовольствий» [10. Т. 1. С. 674], но иного (интеллектуально-духовного) рода, чем для его сослуживцев. 227 Жданов С. С. Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии Веймана, чья квартира, «сущая хибарочка во втором этаже одного посредственного домика» со «следами совершенной бедности» и одновременно средоточие «мудрости», противопоставляется богатым домам сторонников вольфианской философии [10. Т. 1. С. 987]. Итак, еще один лик Кенигсберга в болотовском тексте - это город познания, в том числе книжной мудрости. Еще предвкушая попадание в данный локус, мемуарист выражает надежду, что ему «... там будет очень весело и не скучно; могу многому и такому насмотреться, чего не видывал, а книг доставать себе купить сколько угодно» [10. Т. 1. С. 664]. А.Т. Болотов пишет, как он жадно охотился за книгами, тратя на них существенную часть своих денег, и потом читал запоем как художественную, так и натурфилософскую и душеспасительную литературу. Соответственно, библиотеки, книжные лавки и распродажи составляют один из значимых локусов болотовского Кенигсберга, наполненного, по замечанию автора, «учеными людьми и охотниками до книг»1 [10. Т. 1. С. 898]. Также город знаний маркируется через локус университета, поблизости от которого располагались «дома тамошних профессоров и других ученых людей», хотя стоит отметить, что нарратора больше интересуют сами ученые люди, чем здание: «. университет сей ни наружностью, ни внутренностью своей не мог приводить в удивление, ибо здание оного было самое простое и старинное, и самая аудитория не составляла никакой важности» [10. Т. 1. С. 709]. Не менее книг и ученых людей А.Т. Болотова привлекают мастерские («.я находился тогда в таком городе, который наполнен был всякими мастеровыми, могущими сделать все, что б им ни заказать...» [10. Т. 1. С. 866]), дом «прусского отставного полковника, великого охотника до наук и до всяких рукоделий и художеств» [10. Т. 1. С. 872] с «превеликой комнатой», заставленной «множеством всякого рода машин, орудий и инструментов» [10. Т. 1. С. 874] как знаков ургии, а также выставка бабочек и «малень
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 38
Ключевые слова
А.Т. Болотов, имажинальное пространство, граница, Германия, Восточная Пруссия, Кенигсберг, мемуары, русская литератураАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Жданов Сергей Сергеевич | Сибирский государственный университет геосистем и технологий; Новосибирский государственный технический университет | д-р филол. наук, заведующий кафедрой языковой подготовки и межкультурных коммуникаций; доцент кафедры иностранных языков технических факультетов | fstud2008@yandex.ru |
Ссылки
Милютин М.П., Веселова А.Ю. Мемуары А.Т. Болотова: история создания // Русская литература. 2020. № 3. С. 165-182.
Попова В.И. «Записки..» А.Т. Болотова как энциклопедия провинциальной жизни в России XVIII в. // Проблемы науки: материалы Всероссийской научно-технической конференции. Ч. 3: Гуманитарные науки. Новомосковск : Новомосковский институт, 2019. С. 64-68.
Володина Т.А., Тарунтаева Т.А. Имперский характер русской армии в Семилетней войне (по воспоминаниям А.Т. Болотова) // Университет XXI века: научное измерение: материалы научной конференции научно-педагогических работников, аспирантов, магистрантов ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Тула, 22 мая 2019 г. Тула : ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2019. С. 494-495.
Овчарова Е.Э. Западноевропейский литературный пейзаж XVIII века и мемуары А.Т. Болотова // Национальные коды в европейской литературе ХГХ-XXI веков. Нижний Новгород : ННГУ, 2016. С. 140-146.
Овчарова Е.Э. Русский дворянин XVIII в. в европейской культурной сре де: кенигсбергский период жизни А. Т. Болотова // Национальные коды европейской литературы в контексте исторической эпохи: колл. монография. Нижний Новгород : ННГУ, 2017. С. 406-415.
Пауткин А.А. Кенигсберг А.Т. Болотова. Оптика самопознания // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2017. № 4. С. 52-61.
Schmidt W. Ein junger Russe erlebt Ostpreussen. Andrej Bolotovs Erinnerungen an den Sibenjahrigen Krieg // Deutsche und Deutschland aus russischer Sicht. 18. Jahrhundert: Aufklarung. Munchen : Wilhelm Fink Verlag, 1992. S. 190208.
Антюхов А.В., Антюхова С.Ю. Время и пространство в мемуарноавтобиографической прозе // Вестник Брянского государственного университета. 2010. № 2. С. 60-67.
Жданов С.С. «Средневековые» немецкие локусы в «Письмах русского путешественника» Н.М. Карамзина // Семиотическое пространство языка. Смыслы и знаки : материалы 2-й Международной научно-практической конференции. Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2018. С. 57-67.
Болотов А.Т. Жизнь и приключения Андрея Болотова: описанные самим им для своих потомков: в 4 т. СПб. : Печатня В. Головина, 1870-1873.
Тиме Г.А. О феномене русского путешествия в Европу. Генезис и литературный жанр // Русская литература. 2007. № 3. С. 3-18.
Зиновьев В.Н. Журнал путешествия по Германии, Италии, Франции и Англии (1784-1785) // Россия и Запад: горизонты взаимопознания. М. : ИМЛИ РАН, 2008. Вып. 3: Литературные источники последней трети XVIII века. С. 335-380.
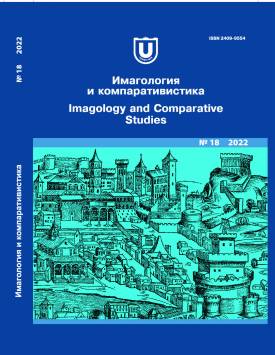
Имажинально-географическое пространство Восточной Пруссии (на материале мемуаров А.Т. Болотова) | Имагология и компаративистика. 2022. № 18. DOI: 10.17223/24099554/18/11
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 735

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью