В статье рассмотрен комплекс реалий мусульманского мира, нашедших отражение в прозе и письмах А.П.Чехова, оценены особенности образного восприятия восточных народов, выявлено отношение писателя к этническим стереотипам. Приведены воспоминания современников о связях Чехова с представителями мусульманской общины Крыма. Проведен анализ специфики чеховской репрезентации различных проявлений этноконфессионального своеобразия мусульманского мира. Структурно статья построена на последовательном рассмотрении мусульманских народов, ранжированных по степени представленности в произведениях писателя. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Muslims and the Muslim world in the works of Anton Chekhov.pdf Русская общественная мысль XIX в. активно интересовалась конфессиональной политикой империи и религиозной жизнью ее подданных. Критическому осмыслению подлежали основы вероучений и специфика отправлений культа, отношения между светскими и духовными властями, межконфессиональные отношения всех уровней, практика прозелитизма и т.д. Интерес к конфессиям был неодинаков. Православие как господствующая религия находилось в центре внимания общественной мысли с момента ее зарождения, интерес же к исламу, религии «признанной» и по сути второй в российской иерархии конфессий, активно проявился только в XIX в. Исламская проблематика в рамках общего интереса к Востоку нашла свое место в спорах западников и славянофилов о путях исторического развития России. Роль Запада и Востока, в том числе исламского, в формировании российской культурной идентичности исследовалась в трудах П.Я. Чаадаева, А.С. Хомякова, К.Н. Леонтьева, В.С. Соловьева. Мусульмане, большая часть которых по традициям тогдашней классификации была отнесена к так называемым «природным» (в отличие от «культурных») народам, оказались в поле зрения зарождающейся этнологии. Формировались основы русского востоковедения, представленного практическим (записки путешественников Д.Д. Смышляева, Л.И. Жемчужникова, М.Н. Дохтурова, Н.В. Берга, В.А. Сологуба, Е.Л. Маркова, В.Л. Дедлова, Д.Л. Мор-довцева, дипломатов C.B. Чиркина, Ю.Н. Щербачева, путевые дневники паломников В.И. Пельской, А.Ф. Нарцизовой, O.A. Щербатовой и священнослужителей Антонина Капустина, архиепископа 307 Шатунов Ю.А. Мусульмане и мусульманский мир Никанора и многих других) и академическим направлениями (И.Н. Березин, Х.Д. Френ, О.И. Сенковский, А.В. Болдырев, М.Г. Волков, В.В. Григорьев, В.Г. Тизенгаузен, позднее В.В. Бартольд, И.Ю. Крачковский). Заметное место в научной, беллетристической литературе и публицистике занимали связанные с исламским миром политические коллизии бурного XIX в. - Кавказская война, войны с Оттоманской Портой, Персией (С.Ф. Ольденбург, Ф.И. Щербатской). Начатая в правление Петра I модернизация России, формирование европоцентричной картины мира, ориентация на концепции исторического прогрессизма обусловили уничижительное отношение к консервативному исламскому миру. Н. В. Рязановский отмечает, что «характер вражды между русскими и “Азией” резко изменился. Вместо того, чтобы внушать опасение или даже ужас, азиаты стали ассоциироваться с отсталостью и немощью» [1. С. 392]. При этом следует отметить, что «уровень грамотности татарского населения в течение всего XIX и начала XX в. был выше, чем у русских» [2]. Не помогали имиджу Востока ни академическая наука, ни историософская рефлексия молодой русской интеллигенции, ни джа-дидитские попытки модернизировать ислам. В то же время государственная политика России по отношению к исламу в XIX в. оставалась вполне лояльной. С появлением романтического направления в русской литературе интерес к исламской культуре начинает расти, восточные мотивы активно проникают в стихи и прозу A.C. Пушкина, Д.П. Ознобишина, A.A. Бестужева-Марлинского, М.Ю. Лермонтова, А.С. Грибоедова, Ф.И. Тютчева, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. Есенина. В последние десятилетия сформировался и обширный корпус исследований по мусульманской тематике в русской литературе, чему в немалой степени способствовало формирование имагологии как историко-литературной дисциплины, изучающей формирование в национальных текстах образов «других» - других культур, других стран, других людей. Образы иностранцев и инородцев в русской литературе ХІХ -начала ХХ в. исследуются во множестве статей, диссертаций, монографий. Чехов, обильно населявший свои произведения такими персонажами и другими этнически маркированными элементами, весьма популярен в имагологических исследованиях [3-5]. Активно изу-308 Имагология / Imagology чаются созданные писателем образы евреев, французов, немцев, англичан, поляков, греков, украинцев и др. Что же касается мусульманских народов, то, несмотря на широкую представленность в рассказах и повестях классика, в имаголо-гической чеховиане они встречаются редко. В работах, посвященных мусульманским образам и мотивам в русской литературе, имя Чехова либо лишь упоминается в ряду авторов, гораздо более увлеченных исламским миром (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, И. А. Бунин), либо вовсе отсутствует [6-8]. Близкими к нашей тематике являются исследования, посвященные образам «других» и этностереотипам в чеховских произведениях. Но и здесь мусульманский компонент занимает весьма скромное место [9, 10]. Еще один комплекс источников, связанных с рассматриваемой тематикой, составляют исследования литаратурных связей России и стран Востока и той роли, которую творчество Чехова сыграло в их становлении и развитии. Если в подобных работах, например, израильских авторов, наряду с основной темой могут прослеживаться и образы «своих» в чеховской прозе, то в трудах арабских литературоведов все внимание уделено растущей популярности произведений Чехова в их странах [11-13]. В раскрытии темы важная роль принадлежит краеведческой литературе. В работах Г.А. Шалюгина, который с 1983 по 2006 г. был директором ялтинского Дома-музея А.П. Чехова, приводится богатый фактический материал об отношениях писателя с крымскими татарами [14, 15]. В то же время авторам очерков о пребывании Чехова в Андреевской кумысолечебнице в Уфимской губернии удалось собрать весьма скудные данные об интересе классика к башкирскому народу [16]. Своеобразно трактуемый патриотизм заставлял иных краеведов отрицать контакты писателя с аборигенами-мусульманами. Результатом кавказского путешествия Чехова стало единственное упоминание бакинцев в письме Н.А. Лейкину: «Сам Баку и Каспийское море - такая дрянь, что я и за миллион не согласился бы жить там. Крыш нет, деревьев тоже нет, всюду персидские хари, жара в 50°...» [171. П. Т. 2. С. 310-311]. 1 В тексте ссылки на это издание даются с указанием тома и страниц сочинений (С) и писем (П). 309 Шатунов Ю.А. Мусульмане и мусульманский мир Поскольку в дореволюционной России азербайджанцев чаще всего и именовали персами, то это несколько нелестное определение побудило знатоков местной истории убеждать читателей, что «персидские хари» принадлежали вовсе не мусульманам, а иным народам, населявшим те части города, в которых обретался путешествующий писатель: «К 1888 году, в Баку уже “понаехали”, а рядом с гостиницей, где обитал Антон Павлович (район Парапета), мусульман не водилось. Тем более среди обслуживающего персонала. Это был центр коммерческо-торговой жизни (в основном тифлисских армян)» [18]. В краеведческих исследованиях акцент делается на «живые» контакты писателя с представителями мусульманских народов и практически отсутствует имагологический анализ. Таким образом, слабая изученность темы мусульман и мусульманского мира в творчестве А.П. Чехова обусловила актуальность настоящей работы. В статье рассмотрены образы мусульманских народов в последовательности, соответствующей степени их представленности в произведениях писателя. Категория «Азия» в ее мусульманской составляющей, представлена в трудах писателя изрядным количеством стран, регионов и народов. Это Турция и Персия, Египет и Сирия, Кавказ и Крым. Представители мусульманских народов (татары, турки, чеченцы, черкесы, киргизы, персы, афганцы и даже печенеги с маврами) расселены по шести десяткам рассказов, повестей, пьес и юмористических миниатюр писателя. В большинстве случаев восточные народы у Чехова представлены не полноценными художественными образами, а этнонимами, используемыми в качестве уничижительных характеристик персонажей. Майор в рассказе «Упразднили!» восклицает: «Негодяй!.. Мошенник! Каналья! Повесить тебя мало, анафему! Афганец!» [17. С. Т. 3. С. 225]. Анонимный повествователь фельетона «В Москве» признается: «.. .я азиат и моветон... Я, ничего не знающий и некультурный азиат...» [3. С. Т. 7. С. 503], Павел Иванович в «Гусеве» в том же ключе упоминает мусульманский народ: «Вы люди темные, слепые, забитые, ничего вы не видите, а что видите, того не понимаете... вы, скоты, печенеги.» [17. С. Т. 7. С. 333]. «Афганец», «татарин», «азиат», «печенег» (часть печенегов приняла мусульманство в 310 Имагология / Imagology начала XI в.) выступают здесь в качестве этнонимических единиц вторичной номинации и служат синонимами грубости, дикости, бескультурья. Часто Чеховым используются этнонимические прилагательные азиатского происхождения - турецкий диван, персидский порошок и т.д. Еще одно популярное у чеховских персонажей слово «басурманин» употребляется как синоним этнонимов татары, турки. Однако поскольку это прозвище часто адресуется любым иноверцам, иноземцам, чужакам, или используется просто как бранное слово, в данной работе мы не будем рассматривать его применительно к мусульманству. Мусульманам нашлось место и в юмористической миниатюре «К характеристике народов», представляющей собой подборку типичных этностереотипов. Использует Чехов и региононим Кавказ. Из «Острова Сахалина» мы узнаем, что кавказцы плохо переносили суровый климат, кухню и условия быта каторжной территории. Чаще всего у Чехова фигурируют турецкие (23 произведения) и татарские этнонимы (21 произведение). Собственно турецких персонажей у писателя нет, если не считать таковыми упоминаемого в повести «Три года» старичка паши, прощающегося со своим гаремом, еще одного паши, о котором хотел, но не успел ничего рассказать Федор Иванович Орловский в «Лешем», а также таганрогского турка Вальяно, известного тем, что у него водится «нечто похожее на деньги» («Завещание старого, 1883-го года»). Вскользь упоминаются безымянный турецкий султан («Осколки московской жизни») и бродячие голодные турки («Дуэль»). Единственный характерологический признак этого народа отмечен комическим персонажем рассказа «Живая хронология»: «Турки - офицеры, помню, без ума были от Анюточкина голоса, и всё ей руку целовали. Хе, хе... Хоть и азиаты, а признательная нация» [17. С. Т. 3. С. 174]. В книге «Остров Сахалин» также упомянут пленный турок, из запоздалой ревности к которому некий Пищиков убивает свою жену. В остальных случаях имеют место только этнонимические прилагательные: «турецкий табак», «турецкое судно», «турецкий диван», этнофразеологизмы и отдельные этнонимы («понимать законы не по-турецки», «турок в чалме», «крестится потому, что не турок», «русско-турецкая война», 311 Шатунов Ю.А. Мусульмане и мусульманский мир «турки Калугу приступом взяли бы», «турки поступают по-свински» и т.д.). Татары представлены в работах А.П. Чехова значительно полнее. Отдельно встречающийся этноним «татарин» обозначает то же, что «азиат» или «афганец»: «Сальманов груб и слишком татарин...» [17. С. Т. 6. С. 419]. Не смущается писатель использованием по отношению к мусульманским этнонимам и обобщающих пейоративных выражений: «Население состоит из помеси персов, афганов, индейцев и прочей азиятской чепухи» [17. С. Т. 16. С. 225]. В пяти рассказах встречаются пословицы «и злому татарину не пожелаю» и «гость не вовремя хуже татарина». Эпизодические персонажи в рассказах писателя уже лишены негативной нагрузки: татары-старьевщики («Завещание старого, 1883-го года»), кучер-татарин («Дуэль»), продавец отличного лисьего чучела («После бенефиса»), татарин, ведущий свое дело в Щапове («Убийство»). И даже крымские татары-проводники с имиджем «страшных донжуанов» выглядят скорее подневольным развлечением для барынь-курортниц («Дуэль», «Иванов»). Заметными фигурами второго плана стали Кербалай из повести «Дуэль» и ресторанный мальчик Мустафа из рассказа «Пьяные», который на расспросы клиентов, почему в былые времена татары владели русскими и брали с них дань, теперь у русских в лакеях служат и халаты продают, философски отвечает: «Превратность судьбы!». В рассказе «В ссылке», где татарин является главным героем, Чехов в художественной форме воплощает одну из центральных идей философствующей интеллигенции от славянофилов до В.С. Соловьева - оппозиции индивидуализма Запада и восточной общинности. Циническому индивидуализму ссыльнопоселенца Семена противопоставляются аффилиативные потребности безымянного татарина. Семен, очевидно, за свои рассуждения в стиле Макса Штирнера («Ничто - вот на чём я построил своё дело») прозванный Толковым, проповедует эгоистический аскетизм: «Ты на меня погляди. Ничего мне не надо. Дай бог всякому такой жизни.. Нету ни отца, ни матери, ни жены, ни воли, ни двора, ни кола! Ничего не надо, язви их душу!» [17. С. Т. 8. С. 42]. Все социальные привязанности он считает дьявольским искушением: «Бес мне и про жену, и про родню, и про волю, а я ему: ничего мне не надо! Уперся на своем и вот, как 312 Имагология / Imagology видишь, хорошо живу, не жалуюсь» [17. С. Т. 8. С. 42]. Татарин же все, от чего отказывается Семен, напротив, считает милостью божьей: «Бог создал человека, чтоб живой был, чтоб и радость была, и тоска была, и горе было, а ты хочешь ничего, значит, ты не живой, а камень, глина! Камню надо ничего и тебе ничего... Ты камень - и бог тебя не любит, а барина любит!» [17. С. Т. 8. С. 49-50]. Здесь просматривается некая идейная перекличка с концепциями, авторы которых в Востоке искали если не панацею, то полезную прививку от недугов Запада (П.Я. Чаадаев, А. С. Хомяков, В.С. Соловьев, К.Н. Леонтьев). Параллели историософских исканий того времени и размышлений героев Чехова прослеживаются и в «Дуэли». В разговоре с православным дьяконом татарин-мусульманин Кербалай утверждает: «Твой бог и мой бог все равно... Бог у всех один, а только люди разные. Которые русские, которые турки или которые английски - всяких людей много, а бог один. только богатый разбирает, какой бог твой, какой мой, а для бедного все равно» [17. С. Т. 7. С. 449-450]. Эти рассуждения выходят далеко за рамки этнического эгалитаризма исламской уммы и скорее оказываются ближе В.С. Соловьеву, утверждавшему, что две явно деградирующие силы (мусульманский Восток и христианский Запад) должны дать дорогу третьей, которая «может быть только откровением высшего божественного мира» [19. С. 29]. Конечно, во всем сказанном бессмысленно искать мировоззренческие установки писателя, это просто литературные приемы. Чехов скептически относился к любым сообществам, верил только в конкретного человека, но не был склонен абсолютизировать и индивидуализм. Его индивид вполне социален. В этом смысле показательны рассуждения о воспитанности, изложенные в письме брату Николаю и начинающиеся фразой: «Чтобы чувствовать себя в своей тарелке в интеллигентной среде, чтобы не быть среди нее чужим и самому не тяготиться ею, нужно быть известным образом воспитанным» [17. П. Т. 1. С. 223]. Не был Чехов адептом ни своих, ни чужих мировоззренческих концепций. Как всякий глубоко мыслящий человек, он стремится преодолеть крайности бессистемного, стихийного мировосприятия, с одной стороны, и псевдогармоничную целостность догматизма - с другой. 313 Шатунов Ю.А. Мусульмане и мусульманский мир Чехов неоднократно использует в своих рассказах этнонимиче-скую синонимию. Его персонажи путают татар, турок, персов, не видят большой разницы между ними и индейцами. И если слова «турок» и «татарин» часто отождествлялись в русской литературе, то употребление слова татарин как синонима перса является уже художественным приемом. Правда, эта «путаница», не противоречила ни официальной дифференциации народов империи с опорой на конфессиональную, а не этническую принадлежность подданных, ни догматам ислама. Классический ислам не отрицал «племен и народов», однако границы между ними в рамках одной религии оставались символическими, все народы считались равными перед богом. Во второй половине XIX в. происходит бурный рост национального сознания народов. Мусульманские модернизаторы своеобразно реагировали на этот процесс, заявляя, что «в исламе нет ни араба, ни татарина, ни башкира, ни мещеряка и т.д. Все мусульмане составляют одну нацию» [20. С. 10]. Для Чехова характерно намеренное смешение этнической, религиозной, сословной, профессиональной принадлежностей, которое встречается как в юмористических, так и в серьезных его работах. Этническая принадлежность оказывается встроенной в сословную иерархию в рассказе «Длинный язык», где героиня наставляет своего ялтинского проводника: «...ты не должен забывать, что ты только татарин, а я жена статского советника!..» [17. С. Т. 5. С. 315]. Купеческое звание вступает в ассоциацию с азиатским происхождением: «Хоть и купчихи они, хоть Азия, а все же есть своеобразная прелесть» («Ненастье») [17. С. Т. 6. С. 223]. Ялту молодой беллетрист именует то татарско-парикмахерским [17. П. Т. 3. С. 233], то татарско-дамском градом [17. П. Т. 3. С. 235]. В «Острове Сахалине» мы находим лютеранина Перецкого, сожительствующего с еврейкой Леей Пермут Бро-ха, и ссыльного крестьянина Калевского, который живет с аинкой [17. С. Т. 14-15. С. 252]. Опыт общения А.П. Чехова с реальными мусульманами нашел отражение и в книге «Остров Сахалин», и в его эпистолярном наследии. Здесь господствуют объективные оценки и уважение к татарскому народу. В письмах, посылаемых родным по дороге на Сахалин, Чехов так описывает поволжских и сибирских инородцев: «Татар очень много: народ почтенный и скромный» [17. П. Т. 4. С. 69], 314 Имагология / Imagology «...и про татар... Люди хорошие. В Казанской губ о них хорошо говорят даже священники, а в Сибири они “лучше русских” -так сказал мне заседатель при русских, которые подтвердили это молчанием. Боже мой, как богата Россия хорошими людьми!» [17. П. Т. 4. С. 82]. На страницы чеховского травелога попали участник экспедиции Полякова татарин Фуражиев [17. С. Т. 14-15. С. 164], житель Верхнего Армудана Тухватула, женатый на русской, хотя, как отмечает писатель, браки между русскими и инородцами бывают очень редко [17. С. Т. 14-15. С. 252]. Встречает Чехов на Сахалине татарских женщин, добровольно последовавших за мужья-ми-каторжанами. В Андрее-Ивановском любуется «чрезвычайно красивой татаркой 15 лет, которую муж купил у ее отца за 100 рублей» [17. С. Т. 14-15. С. 265]. Сетует Чехов, что из-за плохого знания татарами русского языка не записал правильно ни одного женского имени в переписных карточках. Опрашивая в одной избе трехлетнего татарского мальчика и сказав ему несколько ласковых слов, писатель замечает: «...вдруг равнодушное лицо его отца, казанского татарина, прояснилось, и он весело закивал головой, как бы соглашаясь со мной, что его сын очень хороший мальчик, и мне показалось, что этот татарин счастлив» [17. С. Т. 14-15. С. 270, 272]. И еще в Александровске осматривает заброшенную ветряную мельницу, которую построил татарин со своей женой и, уезжая на материк, не захотел оставить своим соплеменникам «так как был сердит на них за то, что они не избрали его в муллы» [17. С. Т. 1415. С. 306]. В том же Александровске мулла Вас-Хасан-Мамет, красивый брюнет лет 38, строит на свой счет мечеть и интересуется у Антона Павловича, пустят ли его по окончании срока в Мекку [17. С. Т. 14-15. С. 306]. В письмах Чехова прослеживается близость его суждений с идейными позициями Константина Леонтьева, считавшего мусульманский мир гораздо более близким России по сравнению с Западом. Тому явно пришлись бы по душе строки письма Чехова к Суворину: «Кстати о Феодосии и татарах. У татар расхитили землю, но об их благе никто не думает. Нужны татарские школы. Напишите, чтобы деньги, затрачиваемые на колбасный Дерптский университет, где учатся бесполезные немцы, министерство отдало бы на школы татарам, которые полезны для России» [17. П. Т. 3. С. 79]. 315 Шатунов Ю.А. Мусульмане и мусульманский мир В письмах с первыми впечатлениями писателя о поездке в Крым встречаются и «наглые татарские хари», и ироничное описание застолья у феодосийского татарина Мурзы, где присутствовала вся местная знать и даже сам Айвазовский, где подавалось 8 татарских блюд, и открывалась перспектива увидеть татарские же гаремы [17. П. Т. 2. С. 295-296], и упоминавшееся титулование Ялты почетным званием татарско-парикмахерского и татарско-дамского града. Со временем ялтинские впечатления меняются. В письмах из «Татарии», как Чехов именовал Крым, без былой иронии и вполне сочувственно упоминаются «татарские деревушки с наивными улицами», «старик татарин, 127 лет, помнивший еще Екатерину», соседка-татарка, продаваемые татарами «вкуснейшие бублики», «верный» работник Мустафа и даже одалживающий деньги богатый татарин. Если природа «Татарии» пришлась Чехову не по душе («здешняя весна, как красивая татарка - любоваться ею можно, и всё можно, но любить нельзя» [17. П. Т. 9. С. 231], то с аборигенами хозяин Белой дачи сошелся легко и быстро («... я перешел в магометанскую веру и уже приписан к обществу татар деревни Аутки близ Ялты» [17. П. Т. 8. С. 231]). Сближение с крымскими татарами началось осенью 1898 г., когда Антон Павлович приехал в Ялту для лечения и решил здесь обосноваться. На строительстве дома в Аутке трудились турецкие и татарские рабочие. Вскоре приобретается именьице в Ку-чукое (Кучук-Кой по-татарски - маленькая деревня) с живописным домиком и флигелем («сакля в татарском вкусе»), о котором Чехов пишет: «поэтично, уютно, но дико; это не Крым, а Сирия». В январе 1900 г. у гурзуфского рыбака-татарина писатель покупает еще один участок. Соседями писателя везде были татары. Как вспоминает Е.М. Шаврова-Юст, ялтинский татарин Нури, с которым Чехов знакомится еще в 1889 г., регулярно посылал полезный для больного чахоткой писателя кумыс. Чехов помогает местным школам и в своей благотворительной деятельности сотрудничает с татарским мыслителем и общественным деятелем Исмаилом Гаспринским. Доктор Е.Б. Меве в своих воспоминаниях приводит слова простой жительницы Аутки, татарки ИдииУзенбаш: «К Антону Павловичу часто обращались бедные татары. Он не только выписывал рецепты, но и давал деньги на покупку лекарств. Мы его очень любили» [21]. И таких воспоминаний множество. 316 Имагология / Imagology На примере татар видно, что чем дальше Чехов в своем творческом воображении и в реальной жизни отдалялся от абстрактного этнонима, чем ближе он оказывался к живому человеку, тем привлекательнее становился представитель Востока. Эта эволюция легко прослеживается от текстов с паремиями про «злого татарина» и эт-нонимическими единицами вторичной номинации («...татарин все еще бродит в нем» [17. С. Т. 9. С. 231-232]) к положительному образу «молодого татарина» из рассказа «В ссылке» и, наконец, к почти панегирическим сибирским письмам. Писатель вряд ли заблуждался относительно восприятия татарскими читателями «морденек татарских, глупых таких, смешных...» или «наглых татарских харь». Но Чехов не фетишизировал этноса («Нельзя из народа болонку делать» [17. С. Т. 5. С. 174]) и не испытывал почтения к обывательской стадности, столь легко отказывающейся от индивидуальности в пользу общности. Таким обывателям в свойственной ему юмористической манере писатель отвечал словами Камышева из рассказа «На чужбине», адресованными французу-гувернеру Шампуню: «Если я французов ругаю, так вам-то с какой стати обижаться?» [17. С. Т. 4. С. 166]. Персы удостоились отдельного рассказа Чехова. Правда, здесь представлена не сама Персия или персы, а персидский орден «Лев и солнце». Характеристика фигурирующего в рассказе персидского сановника Рахат-Хелама лапидарна. Это «громадный азиат с длинным, бекасиным носом, с глазами навыкате и в феске», плохо говорящий на французском языке, звучащем в его исполнении «как стук деревяшки о доску» [17. С. Т. 6. С. 396]. В персах, правда, напрямую ассоциируемых с татарами, обнаруживает наличие благородства портной Меркулов из рассказа «Капитанский мундир» [17. С. Т. 3. С. 165]. Более подробные сведения о народе мы находим в юмореске «К характеристике народов» - персы изобрели персидский порошок, посредством которого активно воюют с русскими клопами, блохами тараканами, сами охотно носят и щедро раздают россиянам свой орден «Лев и солнце», любят сиживать, кто побогаче, на персидских коврах, а кто победнее - на колах. Персидский порошок и персидские же ковры прославляются еще в нескольких рассказах. Персия как вожделенный торговый партнер встречается в рассказе «В Москве». Где эта Персия и чем с ней торговать, рассказчик не 317 Шатунов Ю.А. Мусульмане и мусульманский мир знает, поскольку сам не «совлек с себя азията». В «Рассказе неизвестного человека» ситуация с Персией несколько проясняется - она оказывается страной такой же скучной и убогой, как Россия [17. С. Т. 8. С. 149]. В сахалинском путешествии Чехов встречается с двумя заключенными персидскими принцами, родными братьями, осужденными за убийство. «Ходят они по-персидски, в высоких мерлушковых шапках, лбы наружу. Они... не имеют права иметь при себе деньги, и один из них жаловался, что ему не на что купить табаку, а от курения, ему кажется, кашель у него становится легче. Он клеит для канцелярии конверты, довольно неуклюжие; поглядевши на его работу, я сказал: “Очень хорошо”. И, повидимому, эта похвала доставила бывшему принцу большое удовольствие» [17. С. Т. 14-15. С. 194]. Самыми дикими азиатами представлены в прозе А.П. Чехова афганцы. В одном случае «афганец» оказывается в ряду таких определений, как «негодяй», «мошенник», «каналья» [17. С. Т. 3. С. 225], в другом - именно жестоким афганцам вложено в уста предложение не просто изжарить на гусином сале, но еще и приправить чесноком г-на Липскерова [17. С. Т. 16. С. 174]. В юмореске «К характеристике народов» описаны черкесы: «Черкесы все до единого имеют титул “сиятельства”. Едят шашлык, пьют кахетинское и дерутся в редакциях. Занимаются выделыванием старинного кавказского оружия, ни о чем никогда не думают и имеют длинные носы для удобнейшего вывода их из публичных мест, где они производят беспорядки» [17. С. Т. 3. С. 114]. Многие герои чеховских рассказов «чувствуют предубеждение» к этому народу [17. С. Т. 5. С. 313], находят их лица «зверскими» [17. С. Т. 6. С. 201] и представляют исключительно с кинжалами в руках [17. С. Т. 7. С. 126]. Встречаются и более мягкие ассоциации: «.лучше сотня черкесов, чем одно привидение!» [17. С. Т. 5. С. 484]. А доктор Са-мойленко из повести «Дуэль» вообще был убежден, что «черкесы честный и гостеприимный народ» [17. С. Т. 7. С. 361]. Немного меньше внимания Чехов уделил чеченцам. Они также оказываются народом агрессивным: «Пожалуй, не напали бы чеченцы» [17. С. Т. 7. С. 440] и вызывают ассоциации с невысоким уровнем культуры: «Феденька чеченцем нарядился. Что значит родители направления хорошего не дали» [17. С. Т. 12. С. 167]. 318 Имагология / Imagology Киргизы встречаются в произведениях Чехова всего дважды. В одном случае это только этноним в перечне населяющих Сахалин народов, зато в другом - целый этнографический очерк, написанный будущим писателем в гимназическом возрасте [17. С. Т. 18. С. 7]. Читая произведения А.П. Чехова, можно заметить, что при характеристике своих героев писатель гораздо меньше внимания уделяет конфессиональным различиям по сравнению с этническими. В самом исламе он не видит никакой угрозы, но разделяет расхожее мнение о цивилизационной отсталости мусульманского мира. Азиатские стереотипы представлены у него как агрессивными и дикими афганцами, персами, черкесами, так и вполне «приличными» киргизами. Характер персонажей у писателя в значительной степени зависит от жанра произведения и степени детализации образа. Изучение этнорелигиозных мотивов в творчестве А.П. Чехова позволяет сделать вывод, что отношение классика к человеку всегда позитивнее, чем к общности, а используемые писателем этнические и конфессиональные стереотипы группируются не столько вокруг народа, сколько вокруг этнонима (конфессионима). Подобного рода этнические и конфессиональные стереотипы можно отнести к категории номиналистических, т.е. активно функционирующих в культуре, но утрачивающих генетическую связь с соответствующей общностью.
Рязановский Н.В. Азия глазами русских // В раздумьях о России (XIX век). М. : Археографический центр, 1996. С. 387-416.
Бакланов В. Исламский фактор в империи Романовых во второй половине XIX века. URL: http://historick.ra/view_postphp?id=187&cat=15
Клишина О.С. Методология этнологического исследования художественных текстов: на примере творчества А.Н. Островского, Н.С. Лескова и А.П. Чехова : автореф. дис.. д-ра ист. наук. М., 2013. 46 с.
Абрамова В. С. Экзистенциальное сознание и национальное бытие в прозе А.П. Чехова 1890-1900-х годов : дис.. канд. филол. наук. Пермь, 2016. 189 с.
Шатунов Ю.А. Этническая тематика в творчестве А.П. Чехова // Творчество А.П. Чехова: природа, человек, общество : сборник материалов международной научно-практической конференции, Таганрог, 11-15 сентября 2017 г. Таганрог : Foundation, 2018. С. 179-190.
Ростовцев Е.А., Сидорчук И.В. Образ Турции и турок в текстах русской художественной литературы XIX-XX веков в контексте формирования современной исторической памяти россиян // Научно-технические ведомости СПбГПУ: Гуманитарные и общественные науки. 2014. № 1 (191) С. 215-223.
Алексеев П.В. Мусульманский Восток в русской литературе: проблемы исследования // Мир науки, культуры, образования. 2009. № 6 (18). С. 45-49.
Ермаков И. Ислам в русской литературе XV-XX вв. М. : Компания «Спутник», 2000. 184 с.
Абрамова В.С. Образ иностранца в прозе А.П. Чехова: переосмысление этностереотипов // Мировая литература в контексте культуры. 2017. № 6 (12). С. 84-90.
Жуковская Н.В., Нужнова Е.Е., Савицкая А.Н. Отражение этнических стереотипов в прозе А.П. Чехова (на материале рассказов «Злоумышленники», «Лев и Солнце», «Длинный язык», «Гусев», «Дочь Альбиона», «На чужбине») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2021. Т. 14, вып. 4. С. 1083-1087.
Аббасхилми Абдулазиз Яссин. Творчество А.П. Чехова в Ираке: Восприятие и оценка : дис.. канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2015. 163 с.
Али-заде Э.А. Русская литература и арабский мир (к истории араборусских литературных связей). М. : Изд-во МБА, 2014. Кн. 1. 524 с.
Ларионова М. Ч., Аббас Хилми А.Я. Путь творчества А.П. Чехова к арабскому читателю: историко-литературный обзор // Вестник Южного научного центра. 2014. Т. 10, № 1. С. 99-104.
Шалюгин Г. Осман Чехов. URL: https://proza.ru/2010/11/12/653
Шалюгин Г.А. Чехов в Крыму. М. : Гелиос АРВ, 2017. 256 с.
Свице Янина. «Я живу в Аксёнове, пью кумыс..». Чехов в Уфимской губернии // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2010. № 4 (23). С. 75-94.
Чехов А.П. Полн. собр. соч. и писем : в 30 т. М. : Наука, 1974-1988.
А.П. Чехов о Баку: «я и за миллион не согласился бы жить там». URL: https://zen.yandex.ru/media/azerbaijan/apchehov-o-baku-ia-i-za-million-ne-soglasi-Isia-by-jit-tam-6107fe7c51206a5ad6f2c7d3
Соловьев В.С. Сочинения : в 2 т. Т. 2: Философская публицистика. М. : Мысль, 1989. 822 с.
Аширов Н. Ислам и нации. М. : Политиздат, 1975. 144 с.
Меве Е.Б. Страницы из жизни А.П. Чехова. Харьков : Изд-во Харьковского научного медицинского общества и Харьковского военного госпиталя, 1959. 112 с.
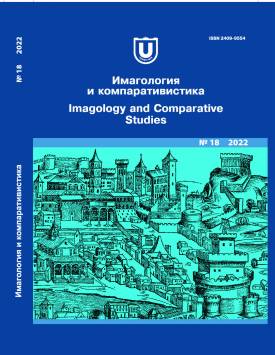

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью