Рассматриваются пространственные оппозиции: Россия - заграница, Россия - Германия, Россия - Италия, Россия - Украина, Киев - Петербург, Киев - Москва. Подробная топография в романе появляется при описании освоенного, нечужого пространства. Выделяются мотивы топофобии и топофилии при освоении чужого пространства. Анализируются лиминальные образы: вокзалы, аэропорты, государственная граница, Берлинская стена, кладбища, церкви. Метапространство Брисбена соединяет воедино все сюжетные узлы романа. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The art space in Eugene Vodolazkin’s novel Brisbane: The imagological aspect.pdf Евгений Г ерманович Водолазкин, современный российский писатель и литературовед, доктор филологических наук, специалист по древнерусской литературе, широкой читательской аудитории известен прежде всего романами «Лавр» (2012), «Авиатор» (2016), «Брисбен» (2018) и «Оправдание Острова» (2020). Ему принадлежат также пьесы, рассказы, повести и сборники эссе. Вышедшему сравнительно недавно роману «Брисбен» по вполне понятным причинам посвящено относительно небольшое количество исследовательских работ, которые затрагивают либо особенности культурологического характера [1, 2], либо различные аспекты поэтики этого романа: феномен двойничества [3], композиционно-стилистическое своеобразие [4], концептуальную сферу [5, 6], либо проблемы лингвостилистики [7]. Собственно имагологическим аспектам романа в отечественных работах отводится весьма скромное место. Из зарубежных работ следует отметить статью польской исследовательницы И. Но-гавица, в которой проанализированы образы украинцев в романе «Брисбен», а также этностереотипы в их восприятии представителями других этносов [8]. Однако имагологические аспекты романа не ограничиваются исключительно «украинской» тематикой. Исследование романа «Брисбен» представляется актуальным и в русле изучения такого стилевого направления современной прозы, как неомодернизм, к которому ряд исследователей [1. С. 13] относят произведения Евгения Водолазкина. Роман «Брисбен» продолжает традиционную тему как русской, так и мировой литературы и посвящен судьбе художника, творческой личности. Герой этого произведения, известный музыкант Глеб Яновский, родился, как и автор романа, в Киеве, так же учился в университете в Ленинграде; будучи женатым на однокурснице-немке, живет в Германии, в Мюнхене, но в период концертной деятельности перемещается между странами и концертными залами. О.В. Арзямова выделяет в этом романе две чередующиеся «временные и одновременно сюжетные линии»: план прошлого и план настоящего, обращая внимание на особенности обозначения дат и временных отрезков [4. С. 97]. Линия прошлого обозначается указанием года, а линия настоящего дается более конкретно: «Заголовки состоят из точной даты с указанием места действия, например: “25.04.12, Париж - Петербург”; “18.07.12, Киев”, “15.09.12, Мюн-367 Крюкова О. С. Художественное пространство в романе Е.Г. Водолазкина хен” и др., то есть передают локальные и временные рамки повествования. С жанровой точки зрения это дневниковые записи, принадлежащие главному герою, Глебу Яновскому, выступающему в роли активного рассказчика» [4. C. 97]. Роман начинается в Париже, в одной из глав действие происходит в Лондоне, в другой - в Нью-Йорке. Настоящее разочаровывает героя, и он пытается найти опору в прошлом, в своих детских и юношеских воспоминаниях. Литературная география романа задана заглавием - «Брисбен», но именно в этом городе герой не был ни разу. Брисбен - это город-мечта, земля обетованная для матери главного героя, но эта мечта оказывается призраком и в конце концов дорогой в небытие, гибельной для героини, хотя в этом австралийском городе Ирине и удалось начать новую и свободную от забот и обязательств, как ей казалось, жизнь. В художественном пространстве романа можно выделить несколько значимых географических противопоставлений: Россия - заграница, Россия - Германия, Россия - Италия, Россия - Украина, Киев - Петербург, Киев - Москва. Пространственная оппозиция Россия - заграница для героя появляется впервые в Ленинграде, во время учебы Глеба в университете. Это противопоставление носит вначале несколько иллюзорный характер. Во-первых, Ленинград даже в советском коллективном сознании воспринимался как не вполне русский город, и это было следствием пограничности Петербурга, который, как утверждает С.С. Жданов, «в текстах русской культуры выступает то как “свое” (русское), то как “чужое” (иностранное, нередко именно немецкое) пространство» [9. С. 190]. Во-вторых, заграницу для Глеба в этот период олицетворяли студенты из соцстран: болгарин Красимир Дуйчев по прозвищу Дуня и Катарина Гертнер, немка из Восточного Берлина, которая впоследствии стала женой Глеба Яновского. Граждане социалистических стран в иерархических представлениях советского человека занимали промежуточное положение между гражданами СССР и «настоящими» иностранцами, но это обстоятельство и повлияло в итоге на решение комсомольской организации университета, которая рассматривала на одном из своих заседаний непозволительную для советского человека связь с иностранной гражданкой, пусть и из стра-368 Имагология / Imagology ны социалистического лагеря. В итоге, выступив в патерналистской роли, комсомольская организация разрешила официальный брак согрешившим студентам. Оппозиция Россия - Германия является инвариантом пространственной оппозиции Россия - заграница и также начинает сюжетную реализацию во время обучения героя в университете. «Немецкое» для Глеба связано прежде всего с Катариной, позже Катей, в которую она себя переименовала из уважения к русским корням Глеба. Вначале интерес героя к Германии носит лингвистический характер и выражается в занятиях разговорным немецким языком в большой ванне, ставшей приютом для влюбленных профессорской квартиры: «Так, регулируя горячую и холодную воду (напор в трубах постоянно менялся), Глеб и Катя вышли на международный уровень. Здесь речь пошла преимущественно о русско-немецких связях, которые пара укрепляла всеми доступными средствами. Этим окончился курс устного обучения немецкому, раз и навсегда поставивший Глебу хорошее немецкое произношение» [10. С. 238-239]. «Немецкое» в романе сюжетно также связано с педагогической деятельностью Кати в Ленинграде и с отзвуками Великой Отечественной войны, которые звучат приглушенно, иногда примирительно, иногда даже комически (надпись на джипе с петербургскими номерами «На Берлин», увиденная в Мюнхене). После окончания университета Катя начинает преподавать немецкий язык в ленинградской школе на Петроградской стороне, где уже преподавал Глеб. И ученики, и коллеги, и даже уборщицы доброжелательно отнеслись к молодой учительнице немецкого, и Катю удивляло толерантное отношение к ней и к немецкому языку в этой школе, находившейся в городе, который пережил блокаду: «Особое чувство у Кати вызывали портреты немецких классиков на стенах кабинета. После прошедшей войны виселось им косовато, хотя никто и не думал их ни в чем обвинять. Катя осознавала неловкость их положения и в свое приветствие вкладывала все возможное тепло. Классики отвечали ей тем же: они давно скучали по крепкому немецкому гутен морген. Об утреннем обмене любезностями знала вся школа, и отношение к Кате становилось от этого только лучше» [10. С. 275]. Еще один послевоенный немецкий «аккорд» звучит из уст любившего Булгакова и Тарковского, цитировавшего Чехова дяди Курта, известного худож-369 Крюкова О. С. Художественное пространство в романе Е.Г. Водолазкина ника, который был в русском плену, освоил там русский язык и который поддерживал Катарину в ее желании учиться в России. «Немецкое» в романе воплощается также в культурном онома-стиконе, включающем имена немецких композиторов (Баха, Бетховена, а также Шнитке - советского и российского композитора немецкого происхождения), писателя Томаса Манна. Цитируется также (на украинском языке) «Фауст» Гете. Восприятие Германии как чужого пространства у Глеба продолжается лишь три недели и связано с совместным проживанием Глеба, Кати и Катиных родителей в берлинской квартире на Вине-таштрассе. В этот драматический период жизни молодых супругов Гертнеры-старшие создают невыносимую атмосферу в доме, изрекая мрачные пророчества о Сталинградской битве, которую в будущем устроит их зять. Топофобия проявляется только у родителей Кати, которые небезосновательно опасались, что их дочь привезет из университета русского мужа. От войны семейного масштаба, своими корнями уходившей еще в Катино детство, Катю и Глеба спас дядя Курт, при содействии которого молодые супруги получили скромные должности в мюнхенском Коллегиуме святого Фомы. Новое пространство постепенно становилось «своим», освоенным, близким, и это радовало Глеба: «Они с Катей становились тут своими, и ему это было приятно» [10. С. 345]. Чужое пространство благожелательно принимает Глеба, который впоследствии получает немецкое гражданство, но и мюнхенский дом, и dacha в горах так и не становятся Домом для героя, блистательно гастролирующего по странам и континентам: «Потом домов было много - так много, что они потеряли свое домовое качество и стали местом жительства» [10. С. 33]. Постепенное освоение немецкого пространства сюжетно мотивируется в романе также введением образов персонажей-немцев, благожелательно настроенных к чете Яновских. Помимо дяди Курта, это Барбара, сестра Кати; мюнхенская галеристка Анна Кессель; ректор Мюнхенского коллегиума патер Петер; продюсер Майер; ментальный инвалид Франц-Петер, с которым Глеб и Катя подружились в коллегиуме; мюнхенская домоправительница Геральдина; немецкие музыкальные наставники Глеба - профессор Рихтер и профессор Лемке; врачи немецких клиник. 370 Имагология / Imagology Кроме сюжетно значимой оппозиции Россия - Германия в романе есть более частная оппозиция Восточная Германия - Западная Германия, которая реализуется преимущественно в художественных деталях: в упоминании о подаренном Кате западногерманскими родственниками конструкторе лего и в телевизионном сообщении о падении Берлинской стены. Несколько раз в романе Восточная Германия именуется ГДР. Быт социалистической Германии, с которым Глеб познакомился благодаря детективным сериалам, напомнил герою собственное детство, и это обстоятельство сделало Германию еще более близким и понятным пространством: «Так Глеб открывал для себя иную Германию, о которой прежде ничего не знал. В этой стране со скрипом открывались те же фанерные шкафы, что стояли в коммуналке его детства. В распахнутых окнах курили двойники дяди Коли, а стоптанная до дыр обувь регулярно сдавалась в ремонт» [10. С. 397]. Освоение немецкого пространства маркируется и подробной топографией Мюнхена с его Английским садом, велосипедными дорожками, улицами и уютными ресторанами. Берлин, в котором молодые супруги прожили недолго, описан менее подробно. Пространственная оппозиция Россия - Италия сюжетно занимает несколько более скромное место, чем оппозиция Россия - Германия, но она значима для национального и гражданского самоопределения героя. В Мюнхенском коллегиуме фраза садовника Пильца о национальной и гражданской идентичности «вы, русские, - еще римляне или уже итальянцы?» [10. С. 353], вычитанная им из газеты, стала ежедневным приветствием. Этой фразой проводилась историкокультурная параллель между распадом СССР и образованием новой государственности, с одной стороны, и завершением Рисорджимен-то, в результате которого возникла объединенная Италия, - с другой. Известное высказывание Меттерниха о Италии как о чисто географическом понятии «La Parola Italia e una espessione, una qualificazione che riguarda la lingua, ma che non ha il valore politico che gli sforzi degli ideologi rivoluzionari tendon ad imprimerle» (цит. по: [11. P. 19]), впервые произнесенное на Венском конгрессе, можно было в начале 1990-х, перефразируя, отнести и к родине главного героя романа. Для Глеба распад СССР с разъединением России и Украины был не просто «геополитическим разломом», а «телесным ощущением шат-371 Крюкова О. С. Художественное пространство в романе Е.Г. Водолазкина кости мироздания», как справедливо утверждает И.Б. Ничипоров [12. С. 99]. Современная же герою Италия появляется ближе к концу романа и связана со второй сюжетной линией - планом настоящего. Сначала эта Италия представлена на картинках в каталоге итальянской недвижимости, которые рассматривает Вера. Глеб привлекает внимание девочки к местечку Поццуоли под Неаполем, вызывающему ассоциации из Священной истории, и к Скалее в Калабрии. В Скалею Глеб и Катя обещали отвезти Веру в случае успешного исхода операции, но не смогли выполнить это обещание по причине смерти девочки. В «городок в табакерке» [10. С. 280], как автор определяет этот маленький город (явная реминисценция из литературной сказки В.Ф. Одоевского), Яновские приезжают без Веры, как бы в память о своем обещании. В маленькой византийской часовне герои встречаются с отцом Нектарием, русским, как его рекомендует Лючия, пожилая итальянская дама. Соположение России и Италии происходит символически, на границе вечности, во вневременном пространстве. «Итальянское» в романе связано также с миром музыки: это музыкальные термины, причем некоторые на итальянском языке (например, a bocca chiusa), имена композиторов, певцов и исполнителей прошлого и современности (Вивальди, Альбинони, Каркасси, Джу-лиани, Ремо Джазотто, Паваротти, Паганини и др.), знаменитого скрипичного мастера Страдивари; названия музыкальных шедевров. В ироническом модусе в этом произведении упоминается также известная детская повесть «Чиполлино» Джанни Родари. Наконец, еще одна пространственная оппозиция, Россия - Украина, играет важную роль и в сюжете, и в характеристике главного героя романа, который родился в Киеве в советское время, который с душевной болью пережил распад СССР и который оказался в Киеве на Майдане в 2014 г. в дни, трагические и для Украины, и для самого Глеба, приехавшего хоронить отца. Главный герой с детства органично соединяет в себе две национальные идентичности, не разделяя их, как и культурно-историческое пространство России и Украины, вступая при этом в споры (эти споры впоследствии продолжатся в дни похорон отца и со сводным братом Олесем) с собственным от-цом-украинцем, который, при всех своих взглядах, в жены выбирал почему-то только русских женщин. По желанию отца Глеб Яновский 372 Имагология / Imagology поступил в школу с украинским языком обучения, где учились также дети писателей и дети из близлежащих сел. Впоследствии во многих ситуациях украинский язык Глеба оказывался увереннее, чем у других - пограничников в киевском аэропорту, Ганны и др. В музыкальной школе, что вызвало одобрение отца, мальчик начал заниматься по классу домры - украинского народного музыкального инструмента (выбор инструмента, однако, был обусловлен чисто практическими соображениями: рука ребенка была в то время слишком мала для гитары). На концертах взрослого Глеба большим успехом пользовалось исполнение «сказочно красивых» [10. C. 19] украинских народных песен, как и, впрочем, белорусской песни «Купалин-ка» и русских песен «Летят утки», «Как на речке было на Фонтанке». В романе упоминаются (не всегда в исполнении Глеба) и частично цитируются такие украинские народные песни, как «Вже солнце низенько», «Ой, у гаю при Дунаю», «Ніч яка місячна», «За що полюбила, за що полюбила чорнявого Іванка». В романе фигурируют многочисленные киевские локации: Ботанический сад (Ботаника), кладбище в Берковцах, бульвар Шевченко (бывший Бибиковский), Русановская набережная, Владимирская улица и оперный театр, Золотоворотский садик, Голосеевский лес, Макарьевский храм на Лукьяновке, Крещатик, Прорезная улица, Лавра, а также Соломенская улица. Домом в самом высоком смысле этого слова для Глеба навсегда останется маленький двухэтажный дом «на бульваре Шевченко, бывшем Бибиковском. На втором этаже - балкон, скрытый в ветвях старого каштана» [10. С. 33]. Следует заметить, что подробная топография в романе появляется только при описании освоенного, нечужого пространства. Топофилия Глеба охватывает три города: так же подробно, как и киевские, описаны локации Ленингра-да-Петербурга, достаточно подробно - мюнхенские. Помимо Киева, в романе представлены и другие украинские то-посы: Винница, где был похоронен Пирогов; Каменец-Подольский, откуда приезжал дед Мефодий, Конотоп, в котором Глеб сел на московскую электричку; село Лозовое, где похоронили Федора, и др. Описаний Украины как земного рая в романе немного, но они есть, время в этих фрагментах обозначено как летнее, а пространство включает Киев и окрестности. Это лето, который Глеб провел с бабушкой в поселке Клавдиево под Киевом, и «умопомрачительный 373 Крюкова О. С. Художественное пространство в романе Е.Г. Водолазкина киевский июнь - с теплыми вечерами, лодочными прогулками по Днепру и первыми купаниями» [10. С. 104]. Украина и «украинское» была частью души Глеба, такой же весомой и значимой, как и Россия и «русское». Само название «Россия» у героя ассоциируется с женственным и нежным началом, он с детства любит, сначала заочно, край, откуда родом его мать и бабушка. Однако Федор, отец Глеба, еще в советское время полагал, что единого пути у России и Украины нет и быть не может, аргументируя свою точку зрения в том числе и грамматическими различиями близкородственных языков: «Главное отличие: в украинском путь - она. Грамматический женский род. Однажды Глеб спросил отца, как так получилось, что путь - она. Тому що наша путь, ответил Федор, вона як жінка, м’яка та лагідна, в той час як російский путь - жорсткий, для життя непередбаченний. Саме тому у нас і не може бути спільноі' путі» [10. С. 81-82]. Метафора различий русского и украинского пути будет повторяться в романе и во время судьбоносных исторических событий (путча 1991 г., Майдана 2014 г.), и в дни трагических семейных утрат. Федор иронизирует над национальной самоидентификацией сына, но в то же время гордится им и его музыкальными успехами. На лингвистический аспект высказывания Федора обращает внимание Л.В. Копоть при анализе концепта «русскость» в романе «Брисбен»: «...отец... виртуоза не приемлет единый путь развития для Украины и России, не считает жителей этих стран исторически одним и тем же народом. “Привет, москалю”, - обращается он к сыну. В данном случае лексема москаль вступает в синонимические отношения с лексемой русский, поскольку Глеб долго жил и учился в России, к тому же он не разделяет в душе два этих народа, будучи сыном русской женщины и украинца мужчины» [6. С. 53]. Помимо Федора гипертрофированную, порой даже агрессивную национальную идентичность демонстрирует сводный брат Глеба Олесь, авантюристка Ганна в вышиванке и Микола на Майдане. «Русскую» часть своей души Глеб обнаруживает как в выборе университета для получения высшего образования, так и в выборе филологической специализации. Этот выбор тем не менее поддерживает отец юноши, опираясь на историко-литературный прецедент, связанный с биографией Н.В. Гоголя: «Ти зробив свій выбір, і я його 374 Имагология / Imagology поважаю, сказал Федор, узнав о решении сына поступать в Петербургский университет. Глеб подумал было, что речь идет о выборе между музыкой и словесностью, но Федор сразу уточнил, что имеет в виду выбор языка и в целом культуры: то був той же вибір, що йо-го свого часу зробив наш однофамілец Микола. Глеб ничего не ответил, потому что свой выбор он осуществил давно - так давно, что даже о нем и не помнил. Что же касается Миколы, то он, кажется, ничего и не выбирал. Просто соединил в своем сознании две стихии и жил в них. Что он чувствовал, когда покидал родные края? То же, что и Глеб, - жажду нового, страх, боль расставания?» [10. C. 179]. И если писатель Гоголь - Яновский, отбросивший позже польскую часть своей фамилии, о чем отец Глеба умолчал, познакомил читающую публику с волшебным миром Диканьки, то гитарист-виртуоз Глеб Яновский впоследствии открыл для меломанов Европы и Америки чарующий мир восточнославянских народных мелодий. В момент первого приезда Глеба в Ленинград, еще в школьном возрасте, происходит реализация пространственной оппозиции Киев - Петербург. Петербург, хотя и в обличье Ленинграда, завораживает героя своими запахами, звуками и мелодией русской речи. Город, исторически воплощающий в себе созидательное, мужское начало, герой воспринимает вначале почему-то в женском роде: «Про себя сравнивал город с чахоточной женщиной, которая нуждается в его тепле. И вот он приехал, горячий южный человек, и теперь обнимает ее и подарит ей свое солнце» [10. С. 192]. Здесь возникают аллюзии с рассказом А.И. Куприна «Черный туман», где такой же восторженный южанин, малоросс, приехавший в Петербург, питает подобные юношеские надежды, но быстро гибнет от чахотки в холодном городе, так и не вернувшись на родину. «Сюжет рассказа построен по двум традиционным сюжетным схемам: завоевание провинциалом столицы и утраченные иллюзии. Традиционное в романтической литературе противопоставление идеального Юга реальному Северу неразрешимо и становится причиной жизненной катастрофы и гибели восторженного героя» [13. С. 22]. Однако с Глебом, который также намерен покорить северную столицу, ничего катастрофического не происходит, хотя холод преследует и его в Петербурге, но при специфических обстоятельствах. В ленинградском общежитии у Глеба над кроватью висит календарь с видами Киева, 375 Крюкова О. С. Художественное пространство в романе Е.Г. Водолазкина символически связывая Киев с Петербургом и в то же время противопоставляя их. Антитеза благодатного Юга и холодного Севера обнаруживается и в высказывании Глеба о «некупальной», «холодной во всех смыслах Неве» и «теплом», «радостном» Днепре [9. C. 111]. Пространственная оппозиция Киев - Москва сюжетно реализуется в неудачной поездке Глеба зимой к его неверной возлюбленной Анне Лебедь. Добравшись до Москвы на электричках, Глеб, в то время еще школьник, побывал лишь на вокзале, в метро, на станциях Киевская и Белорусская, и у дома Анны - на улице Правды. Топоним оказался символическим: юноше открылась неприглядная правда о предательстве Анны. Таким образом, оппозиция Киев - Москва для Глеба имеет сугубо личный характер, а как идеологическая антитеза эта оппозиция реализуется только в функции синекдохи в политическом дискурсе (в сцене допроса Глеба Миколой на Майдане). Художественный мир романа включает также образы лиминального пространства. Это, во-первых, вокзалы и аэропорты, своего рода ворота города (или страны), так как по роду своей концертной деятельности и в силу других жизненных обстоятельств герой много перемещается в пространстве. Во-вторых, это государственная граница. Особенно болезненным в духовном плане для Глеба становится пересечение границы в киевском аэропорту Борисполь. В-третьих, Берлинская стена, которая упоминается в романе, тоже представляет собой границу, не причем только государственного, но и цивилизационного характера. В славянской мифологии существует еще одна, невидимая онтологическая граница - между бытием и инобытием, зримыми символами которой являются церковь и кладбище, отделяющее мир живых от царства мертвых. На киевском кладбище Берковцы похоронена русская бабушка Глеба, родом из Вологды, а на деревенском кладбище в Лозовом состоялись похороны отца Глеба. Бабушку Антонину Павловну отпевают в киевском Владимирском соборе (как бы в параллель этому локусу венчание Кати и Глеба происходит в Князь-Владимирском соборе Ле-нинграда-Петербурга), а Федора - в деревенской церкви. В определенном смысле Брисбен - это тоже лиминальное пространство, так как Австралия в обыденном сознании воспринимается часто как край света. В детстве Глеб считал этот город продолжением ряда литературных городов великого мечтателя-романтика Александра Грина, затем, в рассказах Ирины, Брисбен постепенно обре-376 Имагология / Imagology тал осязаемые черты. Брисбен - это метафора райского уголка, земного рая, недостижимой мечты, желанной Аркадии, в то время как в восприятии героем и Украины, и Италии появляется мотив «утраченного рая» как предвестия цивилизационной катастрофы [14. С. 85]. Не случайно в романе, в соответствии со славянскими мифопоэтическими воззрениями, край света связан и с тем светом: Егор незадолго до своей гибели собирается навестить Ирину; Анне сообщают, что Вера уехала в Брисбен; а Ирина перед своим исчезновением восторженно рассказывает таксисту о Брисбене. Брисбен -это характерное для неомодернизма метапространство, которое соединяет воедино все сюжетные узлы романа.
Солдаткина Я.В. Мифологема воды в современном русском «романе о взрослении» (А.Г. Архангельский «Бюро проверки», А.Н. Варламов «Душа моя Павел», Е.Г. Водолазкин «Брисбен») // Наука и школа. 2020. № 4. С. 11-17.
Кривошапова Н.В. Лингвокультуремы в произведениях Е.Г. Водолазкина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2020. № 1 (144). С. 194-201.
Король Н.Б. Феномен двойничества в романе Е. Водолазкина «Брисбен» // Русский язык и литература в славянском мире: История и современность : материалы международной научно-практической конференции в онлайн-формате. 2020. С. 461-467.
Арзямова О.В. Композиционно-стилистические особенности романа Е.Г. Водолазкина «Брисбен» // Человек и язык в коммуникативном пространстве: сборник научных статей. 2019. № 10. С. 96-102.
Арзямова О.В., Слинько М.А. Концепт «музыка» в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен» // Филологические открытия : сб. науч. ст. VII Междунар. научнометодической конф. 2019. С. 5-8.
Копоть Л.В. Концепт «русскость» в художественном дискурсе Е.Г. Водолазкина // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2020. № 3 (262). С. 51-56.
Горковенко А.Е., Петухов С.В. Языковая картина мира в романе Е.Г. Водолазкина «Брисбен» // Язык в различных сферах коммуникации : материалы III Международной научной конференции. Чита, 2019. С. 174-176.
Nogawica I. Obraz Ukraincow w powiesci Brisbane Jewgienija Wodolazkina // Slavica Wratislaviensia. 2019. № 170. P. 65-74.
Жданов С.С. Границы Германии и Германия как граница: образы лиминального пространства в русской литературе конца ХѴШ - начала ХХ в. // Имагология и компаративистика. 2020. № 14. С. 186-209.
Водолазкин Е.Г. Брисбен. М. : Изд-во АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2019. 410 с.
Ciuffoletti Z. Federalismo et regionalismo. Roma-Bari : Laterza, 1994. 198 p.
Ничипоров И.Б. «Брисбен» Е. Водолазкина как роман о художнике // Пушкинские чтения - 2019. Художественные стратегии классической и новой словесности: жанр, автор, текст : материалы ХХІѴ Международной научной конференции. СПб. : ЛГУ, 2019. С. 94-100.
Крюкова О.С. Романтический образ Украины в русской литературе ХІХ века. М. : Наука, 2017. 125 с.
Крюкова О.С. Архетипический образ Италии в русской литературе ХІХ века. М. : КДУ, 2007. 216 с.
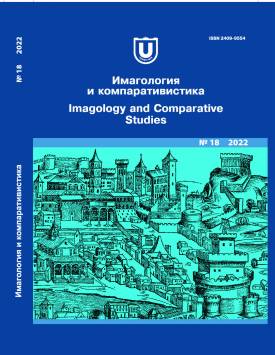

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью