Рассматривается легенда о Големе как вариант темы «живой инструмент». Предполагается, что такая тематика содержит вероятный конфликт между инструментом и его хозяином. Логика развития этого сюжета предусматривает выделение нескольких этапов освоения реальности: необходимость в особом помощнике или защитнике, его изготовление, использование, его восстание против своего владельца или создателя, его возможное уничтожение. Инструментальное освоение мира осмысливается в двух направлениях: польза и вред от применения этого инструмента. Идея «живого инструмента» содержит в себе элемент кощунственного уподобления его создателя Творцу независимо от того, чем продиктовано вмешательство человека в создание своего подобия -практической пользой или исследовательским интересом. Эстетический аспект этой легенды акцентирует отталкивающую внешность человекоподобного существа. Осмысление робота как развития Голема в художественных сюжетах подчеркивает опасность бунта машин либо сочувственное стремление понять их поведение.
The legend about Golem as a subject plot algorithm.pdf Введение Данная работа посвящена филологическому осмыслению общения человека и машины, эмблематике, аллегориям и символике этого процесса. Показаны культурно значимые аспекты такого контакта, отраженные в языковом сознании и коммуникативном поведении и представленные в содержании фольклорного и авторского нарратива о диалоге человека и робота. В качестве материала для анализа взяты легенда о Големе и художественные тексты (И. Башевис-Зингер, М. Шелли, Г. Уэллс, К. Чапек, А. Азимов), героями которых являются созданные людьми человекоподобные существа. Предполагается, что можно построить аксиологическую модель описания таких нарративов. Методология исследования Проблема общения человека и машины восходит к архетипической диаде «свои и чужие». Технологический прогресс привел к тому, что «умные вещи» постепенно стали частью нашего повседневного обихода. Эта проблема отражена в работах философов, специалистов в области искусственного интеллекта, психологов, социологов, культурологов и филологов. В условиях пандемии интернет-опосредованное общение во многих случаях стало ведущей формой коммуникации, компьютер как инструмент приобрел характеристики разумного существа. Отмечено, что в общении человека и машины выделяются технические и гуманитарные вопросы, что инструмент воспринимается как продолжение организма и организм осмысливается как инструмент, что суть человеческого общения состоит не в атомизации реальности, а в ее целостном ситуативном восприятии [1-7]. Осмысление инструмента в этом плане может рассматриваться как значимая ступень в самоидентификации человека: сначала используется любое подручное средство для осуществления нужного действия (бриколаж, по К. Леви-Строссу), затем специально изготавливается инструмент для выполнения определенных действий, затем этот инструмент приобретает интеллектуальные качества и, наконец, он становится партнером либо соперником человека. Заслуживает внимания обозначение современного этапа развития человечества в книге N.K. Hayles «How We Became Posthuman». Но филологическое осмысление этой проблемы, как показывает проанализированный материал, не сводится к пессимистическому выводу о финале человеческой истории. Повествование о Големе представляет собой совокупность нескольких предсказуемых взаимосвязанных сюжетных линий, которые могут быть охарактеризованы в личностном, концептуальном и дискурсивном планах. Каждая из таких линий образует алгоритм, отражающий множество однотипных ситуаций. Изучение таких алгоритмов представляется интересным и перспективным для понимания функциональных характеристик сюжетов [8-10]. История о глиняном истукане, которого слепил, оживил и затем уничтожил великий пражский каббалист Махараль, стала одним из известных мировых сюжетов о восставшей против своего создателя машине. Изучение эмблематических, аллегорических и символических характеристик этого сюжета заслуживает внимания, поскольку позволяет осмыслить закономерности освоения мира, отношения между человеком и природой и динамику ценностей, определяющих нашу идентичность. В основу данной работы положена семиотическая модель интерпретации общения, включающая объяснение эмблем - знаков принадлежности коммуникантов к тому или иному сообществу, аллегорий - иносказательного выражения определенных норм поведения и символов - ценностно насыщенных образов, допускающих множественное истолкование. Осмысление повествования о Големе Личностное измерение легенды о Големе дает возможность установить характеристики основных действующих лиц этого сюжета. Обратившись к историческим источникам и приняв к сведению опубликованные данные, мы узнаем, что основными фигурантами этой легенды являются живший в Праге раввин Йехуда Лейб бен Бецалель (1512-1609) и созданный им из глины человекообразный робот, который должен был выполнять черновую работу и в случае необходимости защищать своего хозяина и все сообщество от возможных угроз и неприятностей. Великий каббалист - историческое лицо, он прославился как праведный законоучитель, знаток религиозной литературы, автор фундаментальных трудов по теологии и математике, современник императора Священной Римской империи Рудольфа II, сумевший спасти от большого пожара в Праге императорскую библиотеку. Как и все ученые того времени, он экспериментировал с фактами оккультного знания. Глиняная статуя обрела жизнь, когда ее создатель вложил в рот истукану записку с именем Бога в виде тетраграмматона, произношение которого строго запрещено в иудаизме (этот запрет сформулирован в четвертой заповеди Декалога как требование не упоминать имя Всевышнего всуе). Массивный глиняный истукан вел себя послушно, но однажды вышел из повиновения и начал крушить все вокруг. Бен Беца-лель прочитал псалом 92, в котором сказано о величии Создателя, и сумел вынуть изо рта Голема листок со священным именем, после этого статуя рассыпалась в прах (по другим данным, на лбу Голема было написано одно из имен Бога, и когда разбушевавшуюся статую удалось опьянить, каббалист стер это имя, и глиняное изваяние вновь стало безжизненным). Тем не менее бытует мнение, что раз в 33 года монстр оживает и начинает бродить по городу, уничтожая все на своем пути. В изложении И. Башевиса-Зингера сюжет легенды о Големе выстроен как попытка бен Бецалеля спасти одного из жителей Праги, честного банкира, которого хотел наказать промотавшийся аристократ за то, что не получил от этого банкира денег. Человек был обвинен в похищении малолетней дочери графа для совершения ритуального убийства. Был создан глиняный человек, который нашел эту девочку в подвале графского замка и привел ее на заседание суда. Честный банкир был оправдан. Затем этот глиняный истукан стал постепенно осознавать, что его не считают человеком, рассердился на людей и начал крушить все вокруг. С трудом удалось его опьянить, и раввин стер священное имя со лба Голема. Эмблематика действующих лиц этого повествования характеризует нравы средневекового города, в котором бесправные жители могут быть в любой момент лишены жизни и собственности и которым остается надеяться только на чудесное спасение. Эти люди уверены в том, что эзотерические знания воплощаются в таинственные знаки, доступные немногим избранным, и с помощью таких знаков можно овладеть сверхъестественными способностями, в том числе создать из праха могущественное существо, которое защитит гонимых от притеснителей. Эмблематическое прочтение имени является одним из показателей архаического сознания. Считалось, что знание имени кого-либо дает власть над этим человеком. Именно поэтому было запрещено называть Бога по имени в монотеистических религиях, для обращения к Всевышнему в молитвах использовалось специальное слово со статусным смыслом возвеличивания Бога и умаления человека («Господь» этимологически означает «гость» + «хозяин», т.е. гости надеются на покровительство хозяина, «Adonai» объясняется как множественно-возвеличивающее образование от угаритского [adon] со значением «господин, отец», т.е. дети просят защиты у отца, «Allah» восходит к морфеме [el-] с вероятным значением «сильный», т.е. слабые просят помощи у сильного). Эмблема сотворения живого существа из праха (этимологически консонантный корень [glm] означает бесформенную массу) дана в Книге Бытия: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою (Бытие, 2: 7). Эмблематическим признаком живой души является дыхание. Внеприродное сотворение человека отражено в средневековых легендах о гомункулах (лат. Homunculus - человечек), выращенных алхимиками и колдунами в пробирках. Известный средневековый оккультист и медик Парацельс полагал, что гомункул созревает в течение 40 дней и может достичь размера 12 дюймов (около 30,5 см). Соответственно, если можно сделать маленького человечка, то можно сотворить и большого. Рост Голема варьирует в разных источниках, но обычно пишут, что он был значительно выше людей и обладал при этом нечеловеческой силой. Отмечено также, что Голем был грубо сделан (это своеобразное уточнение несовершенства человеческого творения по сравнению с творением божественным). В античной мифологии подобный сюжет представлен в рассказе о Пигмалионе и Галатее, но легендарному скульптору удалось создать столь красивое изваяние, что он в него влюбился. Осмысление рукотворного сотворения человекоподобных существ Рукотворное сотворение человека стало содержанием романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей». Герой этого произведения - ученый, которому удалось синтезировать человекоподобное существо, собрав куски тел из моргов и скотобоен. Его творение оказалось страшным и весьма крупным (юная писательница, которой в то время было 19 лет, отмечает его водянистые глаза и узкую прорезь черного рта). Эстетическое восприятие этого живого существа вызывает содрогание: На него невозможно было смотреть без содрогания. Никакая мумия, возвращенная к жизни, не могла быть ужаснее этого чудовища. Я видел свое творение неоконченным; оно и тогда было уродливо; но когда его суставы и мускулы пришли в движение, получилось нечто более страшное, чем все вымыслы Данте. О том, каким образом биологу удалось привести это существо к жизни, в книге не сообщается. Созданный человеком монстр пытается сблизиться с людьми, но его отовсюду изгоняют, и он начинает мстить всем, убивая в первую очередь окружение своего создателя, тот тщетно старается ликвидировать чудовище, но терпит поражение. Сюжетная линия этого текста сводится к созданию существа, которое вызвано к жизни исследовательским энтузиазмом ученого, но при этом обречено на одиночество, поскольку люди не принимают его в свое сообщество. Идея романа выражена предельно прямо: античному Прометею удалось принести человечеству огонь и тем самым сделать жизнь людей гораздо лучше, в то время как женевский ученый Виктор Франкенштейн сотворил монстра, способного уничтожить род людской. Эта идея получила в дальнейшем развитие в массовой культуре в виде сумасбродных ученых, изобретения которых могут привести человечество к гибели (например, доктор Стрейнджлав). В ином ключе рукотворное создание одушевленных существ показано в фантастическом романе Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Одержимый исследовательской страстью биолог проводит бесчеловечные опыты над зверями, превращая их в полулюдей. Их страдания его не интересуют. Он говорит: Как видите, я продолжал свои исследования, идя по пути, по которому они сами меня вели. Это единственный путь для всякого исследователя... Я ставил вопрос, находил на него ответ и в результате получал новый вопрос. Возможно ли то или это; вы не можете себе представить, что значат такие вопросы для исследователя, какая умственная жажда охватывает его! Вы не можете себе представить странную, непонятную прелесть стремлений мысли. Перед вами уже больше не животное, не создание единого творца, а только загадка. Жалость. я вспоминаю о ней, как о чем-то давно забытом. Я желал - это было единственное, чего я желал, - изучить до конца пластичность живого организма. - Но ведь это ужасно! - сказал я. - До сих пор меня никогда не беспокоила нравственная сторона дела. Изучение природы делает человека в конце концов таким же безжалостным, как и сама природа. В итоге эти создания уничтожают исследователя. Аллегория предельно ясна: человек не имеет права вмешиваться в божественный процесс творения жизни, исправлять или совершенствовать его. Осмысление взаимодействия человека и искусственного интеллекта Для выполнения различных производственных функций в наши дни используется множество вспомогательных программируемых устройств, но в художественном плане осмысливаются антропоморфные роботы, поскольку больше всего человека интересует человек. Соответственно, развитие таких сюжетов осуществляется в двух основных направлениях: осмысление возможного вреда, который может быть причинен людям от своих созданий, и осмысление страданий, которые испытывают созданные существа, от людей. Эта две сюжетные линии вписываются в содержание архетипической дихотомии «свои и чужие». Первая линия отражает страх перед чужими, вторая представляет собой попытку взглянуть на чужих с позиций гуманного сострадания и соответствует философско-этическому призыву понять и принять Другого. Отметим, что возможно развитие сюжета, в котором роботы используются как полезные механизмы, но в этой линии не просматривается конфликт, без которого нельзя построить интригу, необходимую для художественного текста. Осмысление робота детально раскрыто в научной фантастике и отражено в трудах филологов [11-13]. В пьесе Карела Чапека «Россумские универсальные роботы» (1920) сюжет отношений людей и роботов представлен в виде философской притчи. Именно в этом произведении появилось словацкое слово «робот», подсказанное драматургу его братом-художником. В отличие от привычных нам механических роботов, напоминающих железного дровосека из сказки Ф. Баума «Волшебник страны Оз», в пьесе К. Чапека представлены искусственно синтезированные одушевленные существа, похожие на людей, но лишенные человеческих эмоций. У них одинаковая внешность. Гениальный ученый Россум сумел создать живое существо, полностью похожее на человека, для того, чтобы освободить людей от тяжкого физического труда. Его предприимчивый племянник построил фабрику, которая стала производить таких роботов на продажу в большом количестве. Со временем этих роботов стали использовать как солдат. Развивая их, инженеры и ученые сумели довести интеллект роботов до очень высокого уровня. Тогда роботы решили захватить власть над людьми и истребили род человеческий, оставив в живых единственного ученого, который, как они полагали, знал секреты технологии их изготовления. По сюжету этой пьесы, они не могли сами себя изготовлять. Пьеса завершается тем, что два робота, молодой человек и девушка, неожиданно чувствуют привязанность друг к другу и готовы пожертвовать собой ради любимого существа. Последний из людей благословляет их, считая, что в мир пришли новые Адам и Ева. Из этого сюжета, представляющего собой один из вариантов развития сказания о Големе, вытекают следующие выводы: 1) попытки создать аналог человека приведут к гибели людей (этот вывод актуален для нас в связи с опытами по клонированию живых существ); 2) суть человека сводится к его чувствам, т.е. сердце важнее ума; 3) самопожертвование есть высшее проявление нравственного развития. Драматург создал свое произведение в трагическое время между мировыми войнами и революциями. Показательны следующие реплики героев: РАДИЙ (поднимается на баррикаду). Роботы мира! Власть человека пала. Захватив комбинат, мы стали владыками всего. Эпоха человечества кончилась... Мир принадлежит тем, кто сильней. Кто хочет жить, должен властвовать. Мы - владыки мира! В этой речи робота видна прямая аллюзия к революционным лозунгам. ДАМОН. Надо убивать и властвовать, если хочешь быть, как люди. Читайте историю! Читайте книги людей! Надо властвовать и убивать, чтобы быть людьми! АЛКВИСТ. Ах, Дамон, ничто так не чуждо человеку, как его собственный образ. Робот-революционер формулирует основную, по его мнению, характеристику людей. Последний человек, оставшийся в живых, с горечью констатирует разрыв между предназначением и проявлением людей. Робот как опасный враг в полной мере представлен в первой серии культового американского фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор». Вспомним, что по сюжету этого фильма, готовясь к войне с основными возможными противниками, американские ученые создали интеллектуальную вооруженную систему Sky Net (Небесная сеть), и однажды эта система начала войну против человечества. Можно заметить, что восставшие роботы в данном случае представляют собой единый распределенный организм, который вышел на такой уровень развития, который предполагает уничтожение слабых предшественников, т.е. людей. Биологически это осуществляется иначе: в живой природе появление более сильного вида не означает уничтожение слабого, но передвигает слабых на более низкую ступень в пищевой цепи. Более реальным было бы использование роботами людей как своеобразной пищи, но в рамках сюжетных образов для художественного произведения роботы являются механизмами, которые пополняют энергию не путем переваривания белковых продуктов и не с помощью фотосинтеза, а как-то иначе. Роботы в фильме, включая главного персонажа - терминатора, принципиально антропоморфны. Только такие существа и вызывают эмоциональный отклик. Логика развития таких сюжетов в полной мере повторяет исходную сюжетную линию Голема: будучи созданными в качестве полезных инструментов, роботы на определенном этапе перестают подчиняться людям и начинают вредить своим создателям. Исторически это было отражено в поступках луддитов, ломавших станки и тщетно пытавшихся остановить технический прогресс. Такая линия сюжетного развития пересекается с осмыслением чужих в научной фантастике (враждебных пришельцев), но это другая, хотя и близкая тематика. Эмпатическое восприятие роботов как разумных существ, у которых могут быть свои проблемы, представлено в большом количестве современных текстов. Эти аспекты осмысления искусственных созданий детально освещены в произведениях классика научной фантастики Айзека Азимова. Героиня одного из его рассказов, маленькая девочка, привязывается к своему роботу Робби, очень тоскует, когда ее родители отправляют его на фабрику, и когда во время экскурсии на фабрику робот спасает свою хозяйку, успевая выхватить ее из-под колес трактора, мы понимаем, что эти механические создания способны на благородные поступки: Глория так крепко обхватила шею робота, что будь на его месте существо из плоти и крови, оно бы давно задохнулось. Вне себя от счастья, девочка оживленно болтала всякую чепуху на ухо роботу. Руки Робби, отлитые из хромированной стали и способные завязать бантиком двухдюймовый стальной стержень, нежно обвивались вокруг девочки, а его глаза светились темно-красным светом. Вывод очевиден: человек способен вызвать у робота ответные человеческие чувства. Этот вывод в известной мере противоречит сентенции: основная ошибка Дрессировщика - очеловечивание собаки. Гуманистический подход к роботу как к Другому, наделенному чувствами существу, вызывает ответное отношение и действие. В произведениях Айзека Азимова сформулированы три закона робототехники, определяющие поведение этих искусственных разумных созданий: Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит Первому или Второму Законам. Как можно видеть, Голем как прообраз робота подчиняется только второму закону роботов, при этом он повинуется только своему хозяину. Роботы в рассказах цитируемого писателя-фантаста объективно оценивают свое физическое состояние, сравнивая его с человеческим: Кьюти засмеялся. Это был нечеловеческий смех, - он никогда еще не издавал такого машиноподобного звука. Резкий и отрывистый, этот смех был размеренным, так стук метронома, и столь же лишенным интонации. - Поглядите на себя, - сказал он наконец. - Я не хочу сказать ничего обидного, но поглядите на себя! Материал, из которого вы сделаны, мягок и дрябл, непрочен и слаб. Источником энергии для вас служит малопроизводительное окисление органического вещества вроде этого. -Он с неодобрением ткнул пальцем в остатки бутерброда. - Вы периодически погружаетесь в бессознательное состояние. Малейшее изменение температуры, давления, влажности, интенсивности излучения сказывается на вашей работоспособности. Вы - суррогат! С другой стороны, я -совершенное произведение. Я прямо поглощаю электроэнергию и использую ее почти на сто процентов. Я построен из твердого металла, постоянно в сознании, легко переношу любые внешние условия. Все это факты. Заметим, что такая нелицеприятная оценка не влияет на неукоснительное соблюдение роботами первого закона робототехники. Заключение Легенда о Големе представляет собой сюжетный алгоритм, относящийся к теме «живой инструмент». Такая тематика содержит вероятный конфликт между инструментом и его хозяином. Логика развития этого сюжета предполагает выделение нескольких этапов освоения реальности: необходимость в особом помощнике или защитнике, его изготовление, использование, его восстание против своего владельца или создателя, его возможное уничтожение. Инструментальное освоение мира осмысливается в двух направлениях: польза и вред от применения этого инструмента. Идея «живого инструмента» содержит в себе элемент кощунственного уподобления его создателя Творцу независимо от того, чем продиктовано вмешательство человека в создание своего подобия -практической пользой или исследовательским интересом. Эстетический аспект этой легенды акцентирует отталкивающую внешность человекоподобного существа. Осмысление робота как развития Голема в художественных сюжетах акцентирует опасность бунта машин либо сочувственное стремление понять их поведение.
Резаев А.В., Трегубова Н.Д. Мир общения в социологическом измерении. М. : Логос, 2017. 152 с.
Утехин И.В. Взаимодействие с «умными вещами»: введение в проблематику // Антропологический форум. 2012. № 17. С. 134-156.
Cook S.E. New Technologies and Language Change: Towards an Anthropology of Linguistic Frontiers // Annual Review of Anthropology. 2004. Vol. 33. P. 103-115.
Esposito E. Artificial Communication? The Production of Contingency by Algorithms // Zeitschrift fur Soziologie. 2017. № 46 (4). P. 249-265.
Hayles N.K. How We Became Posthuman: Virtual bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics. University of Chicago Press, 1999. 364 p.
Shaw-Garlock G. Looking Forward to Sociable Robots. International Journal of Social Robotics. 2009. № 1. P. 249-260.
Zhao S. The Internet and the Transformation of the Reality of Everyday Life: Toward a New Analytic Stance in Sociology // Sociological Inquiry. 2006. № 76 (4). P. 458-474.
Пропп В.Я. Морфология сказки. Л. : Academia, 1928. 152 c.
Неклюдов С.Ю. Мотив и текст // Язык культуры: семантика и грамматика. К 80-летию со дня рождения академика Никиты Ильича Толстого (1923-1996) / отв. ред. С.М. Толстая. М. : Индрик, 2004. С. 236-247.
Силантьев И.В. Сюжетологические исследования. М. : Языки славянской культуры, 2009. 224 с.
Лахманн Р. Дискурсы фантастического / пер. с нем. М. : Новое литературное обозрение, 2009. 384 с.
Путилова Э.А. Прагмалингвистические характеристики речи робота в американской и русской научно-фантастической прозе // Гуманитарные исследования. 2019. № 2 (70). С. 54-59.
Рыльщикова Л.М. «Мифы» и «ожидания» как концепты научно-фантастического дискурса // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика. 2007. № 2. С. 75-80.
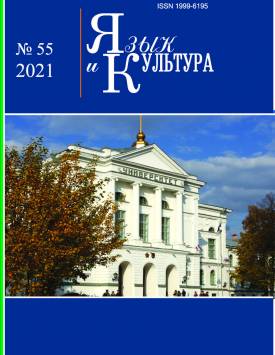

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью