В лингвистике традиционно выделяют три основных вида дейксиса: локальный (пространственный), темпоральный (временной) и персональный (личный). Рассматривается персональный дейксис, под которым понимается указание на лицо различными языковыми средствами в условиях текущего или воссозданного речевого акта. В рамках так называемой нормативной теории дейксиса, основы которой были заложены К. Бюлером, дейксису приписывается ряд характеристик ввиду выраженности персонального дейксиса в языках мира преимущественно личными местоимениями и показателями грамматической категории лица глагола. В теории функциональной грамматики А.В. Бондарко категория лица рассматривается как грамматикализованное ядро поля персональности. Однако такому социокультурному явлению, как японская коммуникация, присущ ряд характерных черт, обусловливающих стертость, размытость личного плана при синтаксическом оформлении высказывания, несмотря на релевантность указания на лицо. Этому способствует также и отсутствие в японском языке грамматической категории лица глагола. Поэтому указание на лицо осуществляется иными, чем традиционно выделяемые, средствами, что влечет за собой отклонения от характеристик дейксиса, которые приводятся в лингвистических описаниях как универсальные. Кроме того, средства персонального дейксиса в японском языке не только осуществляют указание на лицо, но могут кодировать дополнительную информацию, такую, как, например, пол говорящего и другие характеристики социального плана. Учет социальных характеристик, в свою очередь, приводит к прагматической окрашенности содержания, передаваемого средствами персонального дейксиса. Различия в средствах и способах указания на лицо в японском языке в сравнении с теми, что были выявлены при многочисленных исследованиях на материале индоевропейских языков, наталкивают на мысль о специфичности указания на лицо в данном языке. Таким образом, предметом рассмотрения являются специфические черты японского персонального дейксиса, которые есть отражение социокультурной специфики японской коммуникации. Данное исследование проводилось на материале японского языка и не является сопоставительным в строгом смысле слова, тем не менее, фоном для промежуточных и заключительных выводов выступает русский язык как родной язык автора.
On socio-cultural conditionality of person deixis (on the Japanese language material).pdf Введение Результаты исследований дейксиса преимущественно на материале европейских языков привели к формированию устойчивого мнения об универсальности его характеристик, таких как субъективность, си-туативность и др. Подобные выводы основываются на универсальности дейксиса как языковой категории, а также на универсальности самого многочисленного класса дейктиков - местоимений. Тем не менее исследования в рамках этнолингвистики обнаруживают некоторые закономерности языкового указания, обусловленные влиянием культуры на представляющий ее язык. Еще К. Бюлер, сравнивая тексты на древнеегипетском и древнегреческом языках, задумывался над связью между количеством дейктиков и анафорических средств и особенностями представляющей эти тексты культуры [1. С. 365]. Согласно лингвоантропологическим исследованиям Р. Перкинса, чем сложнее культура, тем меньше дейктических категорий грамматикализовано в используемом ею языке [2. С. 98]. К подобным выводам о связи культуры и развития дейктических и анафорических средств пришел и востоковед В.Б. Касевич, изучавший параллельные тексты на древнекитайском и русском языках [3. С. 220]. Следовательно, этническая культура влияет на состав и функционирование дейктических систем в разных языках мира, что, в свою очередь, обусловливает специфические характеристики дейксиса в конкретном языке. Японская культура обладает рядом отличительных черт, которые привлекают к себе пристальное внимание культурологов, социологов, антропологов и представителей других смежных наук во всем мире. Особенности японской культуры оказали влияние на формирование определенного стиля коммуникации на японском языке, характерные черты которого описаны в работах В.М. Алпатова, Я. Хага, Р.Дж. Дэвиса и многих других ученых. В настоящей статье мы ставим задачу на примере такого социокультурного явления, как коммуникация, определить влияние характерных культурных черт на формирование особых характеристик персонального дейксиса (ПД) в японском языке, отличных от характеристик ПД в европейских языках. Таким образом, цель данной работы - выявить, как особенности японской коммуникации проявляются на уровне ПД и какие его характеристики они обусловливают. Методология исследования Для достижения поставленной цели необходимо описать особенности японской вербальной коммуникации и во взаимосвязи с ними выделить характерные черты ПД японского языка, для чего применим метод описания, включающий элементы сравнения, обобщения, интерпретации. Многочисленные исследователи японской вербальной коммуникации, как в Японии, так и за ее пределами, пришли к сходным выводам относительно того, как этнокультурная специфика повлияла на формирование японского коммуникативного стиля. Они выделили следующие присущие ему черты: 1. Неясность, расплывчатость, неуверенность, туманность, незавершенность высказываний [4-8]. Данная черта в японистике встречается под названием aimaina iikata, что в переводе означает ‘смутная (неясная, туманная, двусмысленная) манера говорить', характеризующая процесс речеобмена между японцами. Как пишет В.В. Овчинников, «японцев из поколения в поколение приучали говорить обиняками, чтобы уклоняться от открытого столкновения мнений, избегать прямых утверждений, способных задеть чье-либо самолюбие» [6. С. 153]. Такое речевое поведение, контрастирующее с речевым поведением, свойственным европейцам, предполагает предпочтительность использовать «косвенный язык» для воздействия на собеседника [9]. Средствами выражения неопределенности смыслов в языке могут служить, например, грамматические показатели категории инференциальности (предположительного наклонения), содержание которой в русском языке передается преимущественно лексическими средствами, такими как вводные слова и выражения похоже, мне кажется, что..., суДя по всему и др. 2. Высокая контекстность в сочетании с невербальными средствами выражения смыслов [7, 9, 10]. Термин «высококонтекстная культура» (англ. high context culture) был введен американским антропологом Э. Холлом. Этим термином он обозначает культуры, в которых передача содержания сообщения невозможна без знаний широкого внеязыкового контекста, доступного только членам данной группы ввиду их постоянного взаимодействия, в том числе скрытых правил поведения, общих установок внутри группы и др. Иными словами, понимание содержания сообщения обеспечивается в значительной степени правильным пониманием речевых импликатур. Высококонтекстные культуры противопоставлены низкоконтекстным (англ. low context culture), где основная масса информации заключена в эксплицитном коде [11]. В отличие от характеристики коммуникации, изложенной в первом пункте, где речь идет о намеренном отказе от категоричных высказываний с целью оставить собеседника в неведении об истинных желаниях, намерениях и т.д., здесь подразумевается преимущественно имплицитное кодирование информации, понимание друг друга ввиду принадлежности к одной этнокультурной группе с опорой на невербальные средства коммуникации [12-15]. Особенно важную роль играют невербальные средства этикетной вежливости при знакомстве, извинении и др., которые «сопровождают или замещают соответствующие языковые формулы» [7. С. 75]. Например, фраза ZOtfcD [kono toori], дословно переводимая как ‘согласно этому', ‘вот так', в сочетании с легким поклоном и сложением рук перед грудью означает усиленную просьбу [7. С. 76]. 3. Стремление к гармонии, приоритет общественного перед личным в сочетании с затушевыванием личного плана [7, 9, 16]. Данная черта берет начало в таких основополагающих культурных установках, как «групповое сознание», концепция «взаимной зависимости», «чувства долга» [5, 13, 17], характеризующих японскую культуру как коллективистскую [18]. В этой связи следует отметить отсутствие в японском языке грамматической категории лица глагола, что свидетельствует о меньшей значимости приписывания действия определенному лицу. 4. Боязнь нарушить границы личного пространства собеседника [8, 19], что несколько противоречит утверждению о коллективизме, однако данная черта также способствует достижению всеобщей гармонии. В начале акта коммуникации средствами языка (именные суффиксы и другие маркеры вежливости) и иными способами (предоставлением информации о себе из визитной карточки, проксемическими средствами общения и др.) говорящий задает социальную дистанцию, тем самым маркируя границы личного пространства, проникать за которые без приглашения непозволительно. 5. Учет в коммуникации координат «свой - чужой». Данному яв лению, получившему название uchi - soto, посвящены многие социальноантропологические и лингвистические исследования [7, 16, 20]. В.М. Алпатов пишет следующее: «...в самом общем виде можно сказать, что для любого говорящего и собеседник, и все лица, упоминаемые в его речи, должны обязательно оцениваться с точки зрения принадлежности или непринадлежности к одной и той же с ним группе». Он подчеркивает, что понятия «свой - чужой» не абсолютны, а относительны. Например, «как “свои” могут рассматриваться члены своей семьи в противоположность остальным людям, соседи в противоположность далеко живущим, уроженцы одной местности в противоположность уроженцам иных мест, сотрудники своей фирмы в противоположность персоналу иных фирм, люди одного пола в противоположность иному полу и т.д. Каждый человек может для того же самого человека быть “своим” в одной ситуации и “чужим” в другой» [16. С. 79-80]. 6. Позиционирование себя в координатах «высший - равный -низший» [5, 7, 14, 16,21]. Это значит, что в коммуникации говорящий оценивает свое положение в социальной иерархии, помещая себя на уровень выше, ниже либо одинаковый с собеседником, и избирает при этом соответствующую линию речевого поведения. Наряду с оценкой статуса в данной системе координат отражаются и другие характеристики субъектов общения, такие как пол, возраст, а также условия конкретной коммуникации, создающие ситуацию неравенства (обслуживание клиента, важная просьба и др.). 7. Ярко выраженная прагматическая составляющая коммуникации [22-24], при которой отношение к собеседнику, выражаемое при помощи языковых средств, в избранных координатах по параметрам «свой - чужой», «высший - равный - низший» и другие, не может остаться незамеченным. Необходимо отметить, что апелляция к статусам и оценка коммуникативной ситуации свойственны в той или иной степени любой речевой культуре. Но в японской коммуникации в силу того, что японский язык обладает широкими возможностями при помощи грамматических показателей реализовывать различные регистры вежливости, эта черта выражена более ярко: очевиден сознательный выбор языковых форм в зависимости от собеседника [25]. Например, в японской грамматике насчитывается свыше 12 вспомогательных глаголов для образования аналитической формы императива. Причем в семантику некоторых из них входит как информация социального плана, что делает их социально маркированными, так и прагматического плана (заинтересованность говорящего в осуществлении действия, грубость, фамильярность и др.) [22. С. 379-393]. Примером также может послужить реальная коммуникативная ситуация делового общения, свидетелем которой стал автор данной статьи. Эта ситуация, коммуникативные роли в которой можно схематично обозначить как «исполнитель (наша фирма) -клиент (ваша фирма)», в стандартных случаях предписывает выбор средств коммуникации, указывающих на иерархические отношения «низший (свой) - высший (чужой)» соответственно. Однако «исполнитель», преследуя коммуникативную цель создать более доверительные отношения, сократить дистанцию, употребил форму императива, которая используется при общении с близкими людьми. Тем самым говорящий намеренно нарушил конвенциональные правила речевого поведения в данной ситуации, чтобы адресат заметил это нарушение. Особый стиль коммуникации в японской культуре влияет также и на характеристики ПД как важнейшего компонента построения высказывания. В ходе исследования мы устанавливали, каким образом характерные черты японской коммуникации проявляются на уровне указания на лицо. Материалом исследования послужили 350 диалогов, представляющих собой скрипт аниме «Брошенный кролик» (яп. ) . Также в качестве иллюстративного материала приводится три примера из японских электронных ресурсов. Пословный перевод с японского языка, в том числе устойчивых выражений и речевых клише, приводится исключительно в исследовательских целях. При этом перевод тематических и иных частиц опускается. Исследование и результаты Установлено, что в связи с такими характеристиками речевого поведения в японской культуре, как туманная манера говорить, высокая контекстность коммуникации, наблюдается очевидная тенденция к «обезличиванию» высказывания. Под обезличиванием мы понимаем не только опущение прономинального субъекта в синтаксической структуре, но и другие способы уклонения от прямого указания на лицо вплоть до исключения субъекта из описания ситуации. Таким образом, представляется возможным выделить две разновидности обезличивания (деперсонализации): синтаксическое, подразумевающее опущение личных местоимений в предложении с возможностью их восстановления, и семантическое, не предполагающее наличие роли с категориальным признаком лица в семантической структуре предикатного глагола. Возможность синтаксического опущения прономинального субъекта достаточно хорошо исследована в лингвистике, что позволило отнести японский язык к категории pro-drop [26. С. 549]. При таком опущении актантная структура чаще всего имеет форму исходной диатезы (хотя возможно и изменение диатезы с изменением залога глагола). При других видах опущений, которые мы называем семантическими, наблюдается диатетический сдвиг, при котором лицо не содержится в семантической структуре предиката и, соответственно, находится на периферии актантной конфигурации предложения, тем самым исклю-чаясь из описания ситуации. Для иллюстрации «семантического обезличивания» сравним следующие фразы на русском языке: Я голоДен, Я хочу есть, Я испытываю голоД, Мне хочется есть, У меня желуДок пуст. В целях анализа данных синтаксических конструкций с точки зрения их семантической структуры эффективным представляется полевой принцип, разработанный Г.А. Золотовой для типологизации моделей русского предложения. Г.А. Золотова предложила выделять основные, центральные модели, составляющие ядро синтаксического поля предложения (например, Спортсмен ловкий), и периферийные (Спортсмена отличает ловкость). В качестве критериев для отнесения моделей к основным предложены следующие: 1) каждый из двух предикативно сопряженных компонентов, предметный и признаковый, выражен изосемически, т.е. соответствующей частью речи в ее основном категориальном значении; 2) семантико-синтаксическая роль каждого из компонентов соответствует роли денотата в обобщенном моделью фрагменте действительности; 3) предложения не имеют дополнительных смысловых приращений из ряда регулярных грамматико-семантических, модальноэкспрессивных и коммуникативных нагрузок [27. С. 178]. Если данный полевой принцип применить к приведенным предложениям, выражающим семантические отношения «субъект - состояние», то основными моделями для русского языка будут являться Я голоДен, для японского - ЖелуДок пуст (опустел): Показатель Русский язык Японский язык Основная модель Я голоДен ‘Желудок опустел' Периферийные модели с разной степенью удаленности от центра Я хочу есть, Я испытываю голоД, Мне хочется есть, У меня желуДок пуст и др. ‘Желудок уменьшился' ‘Желудок вдавлен' ‘Пустой желудок' и др. Следует подчеркнуть, что при литературном переводе фразы на японском языке имеют следующий вид: Я голоДен, Ты голоДен и др. Очевидно, что основная модель в русском языке, в отличие от японского, изначально содержит указание на лицо, являющееся экспериенце-ром в семантической структуре предложения. Экспериенцер совпадает с формальным субъектом, выраженным личным местоимением. Что касается японской фразы, экспериенцер не выражен синтаксически, и предложение не содержит никаких формальных ссылок на лицо, позволяющих его декодировать. Лицо - субъект состояния в модели - восстанавливается путем логических умозаключений, т.е. инференциаль-но: если говорящий утверждает нечто, относящееся к сфере чувств, эмоций, состояний, значит, он соотносит утверждение с собой (при отсутствии прочих маркеров лица). В некоторых моделях экспериенцер (в примере (1) я) все же присутствует в предложении формально, но не в качестве субъекта, а в качестве темы высказывания, подлежащей в японском языке грамматическому оформлению. Таким образом, лицо получает опосредованную связь с формальным субъектом (в данном случае желуДком) темо-рематическими отношениями, посессивностью и др. В подобных случаях лицо - субъект состояния в семантической структуре высказывания, «вычисляется» через метонимические отношения «часть - целое»: (1) досл. ‘Я желудок опустел'. Связь между целым и его частью в (1) формально обозначена тематической частицей (i [wa], которая указывает на того, кто сейчас является предметом обсуждения, и позволяет без труда соотнести формальный субъект желуДок с 1-м лицом. «Делая начальный компонент носителем темы, актуальное членение и добавляет ему значение предмета, о котором говорится в остальной части в предложении» [27. С. 149]. Как показывает наш исследовательский материал, стремление к деперсонализации - характерная черта японского речевого поведения, которая реализуется как путем выбора особых синтаксических моделей, глагольных категорий и других грамматических средств, так и путем использования единиц лексического уровня: устойчивых выражений, клишированных фраз и т.п. Проиллюстрируем сказанное примерами: (2) Zftft'6t"9 1'l'Oft'U6о ‘Не знаю, что нам теперь делать?' (досл. ‘Теперь как если сделать, хорошо, пожалуй?'); (3) ‘[Я] не очень хорошо понимаю, что это значит' (досл. ‘Смысл хорошо не понятен'); (4) ЪЬъ £ о ‘Я совсем не подумал о твоих чувствах' (досл. ‘До твоих чувств дух не повернулся'); (5) ‘Дядя, я проголодалась' (досл. ‘Дядя, живот уменьшился'); (6) ‘Я очень виноват [перед Вами]' (досл. ‘Оправдания нет'); (7) fcftLPtCd, ‘Извините, что отрываю Вас от дел' (досл. ‘Занятый момент, не обошлось'); (8) ! ‘Надоел! Отстань!' (досл. ‘докучливый'). В примере (2) уклонение от конкретизации лица осуществляется через построение предложения по обобщенно-личной синтаксической модели. В примере (3) обезличенную синтаксическую конструкцию задает некаузативный глагольный предикат, субъект действия выводится лишь на основании контекста. Примеры (4)-(8) демонстрируют характерные модели речевых клише и устойчивых выражений, не содержащие указания на лицо. Семантически обезличенные конструкции в японском языке особенно употребительны при построении вопросительных фраз, которые могут придавать коммуникации оттенок подотчетности одного коммуниканта другому. Подотчетность подразумевает долженствование и тем самым затрагивает личную сферу собеседника (например, студент -профессору: Вы уже написали рецензию на мою работу?). Разберем в качестве примера стандартный для русского языка вопрос Ты получил мое письмо? (111 результатов по запросу в Google). Переводными эквивалентами данной фразы в японском языке могут служить выражения следующих типов: 1) досл. ‘Письмо доставилось?' - модель семантически обезличенного предложения с декаузативным глаголом Доставляться; 2) досл. ‘Письмо получил?' - модель синтаксически обезличенного предложения с глаголом получать. Как показывает исследование, более частотным является выражение первого типа, о чем свидетельствуют результаты запроса в Google (десятки тысяч вхождений), а также данные японского электронного корпуса сочетаемости слов Hinoki. Согласно корпусу Hinoki существительное ‘письмо' чаще всего используется с глаголом Ж ‘ писать' и с глаголом Ж ‘доставляться' (https://hinoki-project.org/ natsume/). Фраза Письмо Доставилось? в русском языке возможна, но не является употребительной (поисковая система Google по запросу данной фразы предлагает результаты поиска фразы Письмо Доставлено). Семантическая структура данного предложения не содержит деятеля, который исключается через употребление декаузативного глагольного предиката. Тем самым создается впечатление, что действие совершается произвольно, независимо от воли действующего лица. Предложения такого типа не содержат эксплицитного указания на некоторого активно действующего участника ситуации. Они описывают ситуацию без обозначения лица, ответственного за ее возникновение. При построении высказываний таким образом участники коммуникации представляют события как происходящие сами по себе, без активного воздействия либо вмешательства извне, что означало бы нарушение гармоничности отношений, вторжение в личное пространство. Модель второго типа согласно данным англо-японского корпуса Weblio также встречается, но менее частотна. В подавляющем большинстве случаев она используется в утвердительных повествовательных предложениях (19 из 20 вхождений), не затрагивающих личную сферу собеседника: (9) ‘Вчера [я] получил от нее письмо' (https://ejje.weblio.jp/sentence/content/%E6%89%8B%E7%B4%99%E3%8 2%92%E3%82%82%E3%82%89%E3%81%A3 %E3%81%9F). Таким образом, туманность при выражении смыслов, высокая контекстность, стремление к гармонии как характерные черты японской коммуникации находятся в очевидной взаимосвязи с речевой практикой неявного указания на лицо, вследствие чего ПД в ряде случаев является имплицитным. В тех случаях, когда нужно с достаточной степенью определенности указать на собеседника, а культурные нормы не допускают прямоты выражения смыслов, указание производится, прежде всего, на статус лица через посредство номинативной референции. Поэтому возникает необходимость позиционировать себя и собеседника в координатах «высший - равный - низший» и в некоторой степени в координатах «свой - чужой», которая обусловливает превалирование в высказываниях номинативной референции над дейктической, делая ПД опосредованным (косвенным). Вместо личных местоимений в ряде случаев используются термины родства, имена собственные в сочетании с именными суффиксами san, kun и др., поскольку указание отсылает непосредственно к субъекту как таковому, но не актуализирует его определенную характеристику, важную для конкретной ситуации (должность, семейный статус и др.). Чаще всего номинативные средства используются при обозначении 2-го лица, но встречаются и при обозначении себя, т.е. 1-го лица, в разговоре с детьми и в детской речи: (10) ‘Как Вы (досл. ‘сэнсэй') и сказали, надел костюм и отправился в лабораторию'. (11) Ф? ttfcZUTo ‘Мама, возьми и меня (досл. Юу) на руки'. Таким образом, можно утверждать, что в японском языке ПД в ряде случаев выражен косвенно и выводится из номинации. Следует отметить, что апелляция к статусам присутствует также и в русскоязычной речи, например в разговоре матери и ребенка: Ты должен слушать маму (меня); начальника и подчиненного: Ты отказываешься выполнять указания своего начальника (мои)? Но, как показывает материал исследования, в отличие от русского, в японском языке это является не редким явлением, а характерной чертой общения. Следовательно, несмотря на то что в так называемой нормативной теории дейксиса субъективность и ситуативность рассматриваются как универсальные его характеристики [28], исследования на материале японского языка позволяют утверждать, что это не совсем так. Японский ПД, ввиду его опосредованного в ряде случаев выражения через номинативную референцию, менее ситуативен, т. е. менее привязан к текущей речевой ситуации, и более объективирован, так как при номинации объективируются признаки поименованного коммуниканта (например, имя, должность и др.), позволяющие идентифицировать его как адресата. Те же черты коммуникации, а именно учет статусов собеседников, необходимость позиционировать себя одновременно в нескольких социальных иерархиях, обусловливают следующую выявленную характеристику ПД в японском языке - акцентированную социальную маркированность в сравнении с русским языком. В социолингвистике при исследовании социальной маркированности языковых единиц в центре внимания находится их соотнесение с теми или иными социальными слоями и группами [29. С. 26]. В рамках данной статьи под социальной маркированностью понимается отражение в семантике языковой структуры социальных отношений между участниками ситуации. В японской речи средства указания на лицо кодируют совокупность социальных характеристик, среди которых социальный статус (должность, позиция в семье, положение в обществе), возраст, пол, степень знакомства и др. Исследование показало, что учет говорящим актуального статуса как своего, так и собеседника, который меняется от одной коммуникативной ситуации к другой, приводит и к варьированию маркеров ПД японского языка вслед за изменением статуса. В подтверждение сказанному рассмотрим, какими средствами осуществляется указание на героя по имени Дайкити в нашем материале исследования в разных коммуникативных ситуациях, описанных в примерах (12), (13) и (14). (12) V ‘[У меня] сложилось впечатление, что Рин вам очень доверяет' (досл. ‘Рин-тян Дайкити-сан дело чрезвычайно доверяет чувство делалось так как'). Пример (12) является репликой диалога между родителями детей, посещающих одну и ту же школу. Отношения между участниками диалога характеризуются тем, что собеседники уже знакомы, примерно одинакового возраста; объединенность равным социальным статусом родителя нейтрализует их различие по гендерному признаку. Поэтому данную ситуацию общения можно отнести к «симметричной», т. е. к той, в которой коммуниканты обладают примерно одинаковым статусом [30. С. 143]. Тем не менее статусная симметрия нарушается малой степенью знакомства, что предписывает соблюдение определенной дистанции, при которой прямое указание на лицо личными местоимениями считается этикетно невежливым. Поэтому избран косвенный способ указания на адресата через посредство номинативной референции с использованием имени собственного Daikichi. Формальным социальным маркером при этом выступает суффикс нейтральной вежливости san, присоединяемый к имени собственному Daikichi. Далее в эпизоде обслуживания клиента в ресторане к той же персоне обращаются очень почтительно, используя следующую модель словообразования: префикс вежливости о + числительное hitori ‘один' + именной суффикс высокой вежливости sama: (13) llU'Tft'o ‘Добро пожаловать. Вы будете один?' (досл. ‘Добро пожаловать. Один-сама?'). Пример (13) отображает асимметричные ролевые отношения, или «отношения подчинения (зависимости)» [5. С. 116], которые задаются неравенством ролей в иерархии «клиент - исполнитель». Несмотря на то что указание на лицо производится имплицитно, маркеры статуса лица, на которое производится указание, все же присутствуют в предложении. Как правило, они присоединяются к признаку, имеющему отношение к адресату. В данном случае префикс вежливости о и именной суффикс высокой вежливости sama, отражающие асимметрию отношений, присоединены к числительному hitori ‘один'. В следующей ситуации в семейном кругу мать указывает на сына (того же главного героя по имени Дайкити) эксплицитно, при помощи личного местоимения anta: (14) ‘Ты настолько необдуманно говоришь о таких важных вещах!' (досл. ‘Ты такое важное дело необдуманно не говорить ли же?'). В примере (14) социальным маркером является личное местоимение anta ‘ты', которое показывает гендерную принадлежность говорящего, поскольку данное местоимение используется преимущественно женщинами и часто в состоянии сильного раздражения [31]. Таким образом, анализ материала показывает, что учет социальных характеристик коммуникантов находит выражение в акцентированной социальной маркированности ПД (с помощью именных суффиксов, особых личных местоимений и др.). Социальная маркированность средств ПД влечет за собой необходимость для говорящего постоянного оценивания собеседника в статусно-ролевых координатах и демонстрации определенного отношения к себе и собеседнику (уважение, пренебрежение и др.) при выборе тех или иных форм указания на лицо. Кроме того, в дейктической системе японского языка представлены местоимения, содержащие закрепленный в его семантической структуре прагматический компонент, кодирующий «субъективное, эмоционально-оценочное отношение говорящего к предметам речи» [32. С. 80], подобно тому как в примере (14) местоимение anta не только социально маркировано (профилирует преимущественно женское употребление), но может выражать и чувство раздражения. Таким образом, использование в японской речи средств ПД усиливает прагматический аспект или прагматичность высказывания, не лишая при этом персональные дейктики своей основной функции указания на лицо. Проиллюстрируем сказанное на примере фрагментов одного и того же диалога из нашего исследовательского корпуса, в котором мужчина, разговаривая с женщиной, употребляет для указания на себя три разных личных местоимения - watashi, boku и ore: (15) ‘Меня зовут Кава-ти. Я - родственник Рин Кага по отцовской линии'. (16) ‘Только что я слышал, как кто-то называл Вас сэнсэем. Но Ваше имя...'. (17) Uh Sb UW< UWfWdlVuT'Tfro ‘ Для вас не проблема, что и в дальнейшем Рин будет жить со мной?' (18) ThOttf? НЭ U^fe< To ‘Я не это имею в виду'. В примере (15) употреблено нейтральное местоимение watashi ‘я', не выражающее никакого особого отношения к собеседнику в ситуации первой встречи (знакомства). В примере (16) местоимения отсутствуют, что характерно для почтительного регистра речи, обусловленного статусом адресата «сэнсэй». Этот регистр, который характеризуется также употреблением так называемой гоноративной лексики, используется в ходе диалога до тех пор, пока мужчина не узнает, что женщина оставила свою малолетнюю дочь без особых, по его мнению, причин и не желает возвращаться к своему ребенку. После этого говорящий употребляет местоимение boku ‘я', распространенное в речи мужчин (пример (17)). Посредством данного местоимения говорящий косвенно обращает внимание адресата на свой пол, что позволяет ему описать ситуацию как не соответствующую в его понимании социальным устоям. На русский язык эту фразу можно было бы перевести как ‘Вы не возражаете, что ваша дочь, девочка будет жить со мной, мужчиной?', хотя слово мужчина в оригинале отсутствует. Далее и до конца беседы используется мужское местоимение ore, одним из значений которого является выражение пренебрежения к собеседнику (пример (18)). И только в заключительных фразах прощания собеседник-мужчина возвращается к нейтрально-вежливому стилю общения. Следует подчеркнуть, что социальная маркированность в японском языке присутствует и на морфемном уровне, поэтому выражение отношения к собеседнику в ряде случаев принимает обязательный характер. Примером могут служить именные суффиксы типа san и др. «Именные суффиксы... присоединяются к именам, фамилиям, названиям профессий, должностей и т.д. и передают отношение к лицу, обозначенному данным словом» [33. С. 62]. Таким образом, ярко выраженная прагматическая составляющая японской коммуникации, зафиксированная в перечне ее характерных черт под номером 7, находит отражение в акцентированной прагматичности ПД японского языка. Также установлено, что в японских высказываниях, если они семантически не обезличены, прослеживается преимущественно эгоцентричная коммуникативная перспектива высказывания, что свидетельствует, по нашему мнению, о нежелании вторгаться в личное пространство, принуждать к каким-либо действиям. Согласно теории функционального синтаксиса говорящий, определяя свою точку зрения на ситуацию и оформляя соответствующим образом предложение, должен определить: а) с точки зрения какого из актантов описано положение дел (выбор ориентации); б) какими членами предложения выражаются разные актанты (выбор диатезы); в) как высказывание делится на тему и рему (выбор актуального членения предложения) [34. С. 41]. Как показывает материал японского языка, при оформлении субъектно-объектных отношений между деятелем и экспериенцером очевиден выбор указания направленности действия от говорящего даже в тех случаях, в которых семантическая роль экспериенцера в синтаксической структуре эквивалентных предложений на русском языке выражается агентивным дополнением. На русский язык такие предложения переводятся, как правило, методом синтаксической трансформации, что свидетельствует об обратной тенденции в русскоязычном дискурсе: (19) ‘Скоро ты и меня пере растешь' (досл. ‘Тетя скоро быть обогнанной'). (20) L о Tt Ufco ‘Вы меня очень выручили' (досл. ‘Очень спасся'). (21) fclS&Mb'tiTX fc'^l'o ‘Расскажите, пожалуйста, Вашу историю' (досл. ‘Разрешите услышать историю'). В приведенных примерах фактическим центром события представляется говорящий, причем не имеет значения, в каком качестве: как субъект либо как объект действий. В (19) перспектива высказывания преподносит фрагмент ситуации как означающий, что не «ты меня обгонишь», а «я буду обогнана»; в (20) - не «Вы меня выручили», а «я спасся»; в (21) - не «Вы говорите», а «я слушаю». В русскоязычной коммуникации в сообщениях, побуждающих адресата к действию, также встречаются обороты, выражающие направленность действия «от себя», поскольку такие просьбы звучат более вежливо (ср.: Покажите Ваш паспорт и Можно мне взглянуть на Ваш паспорт?). Однако, в отличие от русского языка, в японской коммуникации такая модель построения фраз довольно часто встречается и в разговорно-бытовом стиле общения и не ограничивается побудительными фразами. В следующем примере из материала исследования (22) девушка рассуждает о себе, используя пассивную конструкцию глаголов ‘обхаживать, носиться с кем-либо' и ‘отворачиваться, игнорировать'. На русский язык эти фразы не представляется возможным корректно перевести иначе, как с помощью приема синтаксической трансформации в обобщенно-личное предложение с добавлением обобщающего слова «все». (22) ^
Бюлер К. Теория языка: репрезентативная функция языка. М. : Прогресс, 1993. 528 с.
Perkins Revere D. Deixis, Grammar and Culture. Typological Studies in Language. Am sterdam; Philadelphia : John Benjamin Publishing Company, 1992. 245 p.
Касевич В.Б. Буддизм. Картина мира. Язык. СПб. : Центр «Петербургское Востоко ведение», 1996. 288 с.
Грунина О.Н. Грамматические особенности японской языковой картины мира и во просы адекватного перевода // Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания. М. : Ключ-С, 2011. № 6. C. 41-49.
Корчагина Т.И. Обучение культуре языкового общения с японцами // Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания. М. : Ключ-С, 2009. № 7. C. 65-78.
Овчинников В.В. Сакура и дуб. М. : АСТ, 2005. 570 с.
Тумаркин П. С. Лексика, фразеология, жест в японской разговорной речи. М. : Во сток-Запад, 2004. 248 с.
Masuoka T. Hyogen no shukansei to shiten // Nihongogaku I l.4A7'i'7:. Japanese linguis tics. 1992. № 11(9). P. 28-34.
Изотова Н.Н. Этнокультурные особенности стиля японской коммуникации // Вест ник МГИМО-Университета. 2012. № 6. С. 179-182.
Nagashima N. A reversed word: or is it? The Japanese way of communication and their attitudes toward alien cultures // Modes of thoughts. Essays on thinking in Western and non-western societies / eds by R. Orton, R. Finnengan. L., 1973. P. 95.
Hall E. Beyond Culture. New-York : Anchor books, Doubleday, 1976.
Гуревич Т.М. Национально-культурная обусловленность непрямой коммуникации // Вестник МГИМО-Университета. 2013. № 2. С. 163-166.
Мюллер К. Japanland: Всегда сопротивляйся, никогда не подчиняйся : пер. с англ. М. : Рипол классик, 2008. 288 с.
Неверов C.B. Особенности речевой и неречевой коммуникации японцев // Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977. С. 320-337.
Резникова Т.Б. Невербальное поведение японцев как объект изучения при подготовке японистов // Японский язык в вузе: актуальные проблемы преподавания. М. : Спутник+, 2009. № 2. С. 42-47.
Алпатов В.М. Япония: язык и культура. М. : Языки славянских культур, 2008. 208 с.
Passin H. Japanese and the Japanese. Tokyo, Japan : The Simul Press, 1980.
Triandis Harry C. Individualism and Collectivism: Past, Present and Future // The handbook of Culture and Psychology. Oxford : Oxford Univ. Press, 2001. P. 35-50.
Дэвис Р., Икэно О. Япония. Как ее понять: очерки современной японской культуры / пер. с англ. М. : АСТ, 2007. 318 с.
Решетникова П.А. Организация пространства в японской культуре: концепты и модели // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2007. № 49. С. 269-278.
Ide S. Japanese Sociolinguistics' Politeness and Women's Language // Lingua. 1982. Vol. 57, № 2-4. P. 366-368.
Алпатов В.М., Аркадьев П.М., Подлесская В.И. Теоретическая грамматика японского языка : в 2 кн. Кн. 1. М. : Наталис, 2008. 559 с.
Стрижак У.П. Содержательная сторона обучения японскому языку: семантика vs прагматика // Японский язык в вузе: актуальные пробыемы преподавания. М. : Ключ-С, 2014. Вып. 11. С. 58-68.
Ikegami Y. How Cognitive Linguistics Can Help You To Master Natural Japanese. Tokyo : Hitsuji, 2009.
Крнета Н.Д. Социолингвистические исследования в Японии и их значение для изучения восточных языков // Японский язык в вузе: актуальные пробыемы преподавания. М. : Ключ-С, 2015. Вып. 12. С. 69-73.
Huang J. On the Distribution and Reference of Empty Pronouns // Linguistic Inquiry. Autumn, 1984. Vol. 15, № 4. Р. 531-574.
Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. 6-е изд. М. : Ком-Книга, 2010. 368 с.
Артемова О.А. Функционально-семантическая интерпретация дейксиса в белорусском и английском языках // Вестник Брянского государственного университета. 2017. № 1 (31). С. 247-251.
Крысин Л.П. Социальная маркированность языковых единиц // Вопросы языкознания. 2000. № 4. С. 26-42.
Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика : учеб. для вузов. М.: Рос. гос. гума-нит. ун-т, 2001. 215 с.
Алпатов В.М. Категории вежливости в современном японском языке. 5-е изд. М. : ЛЕНАНД, 2015. 152 с.
Краснова Т.И. Субъективность - Модальность (материалы активной грамматики). СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2002. 189 с.
Алпатов В.М., Крючкова Т.Г. О мужском и женском вариантах японского языка // Вопросы языкознания. 1980. № 3. С. 58-68.
Мустайоки А. Теория функционального синтаксиса: от семантических структур к языковым средствам. М. : Языки славянской культуры, 2006. 512 с.
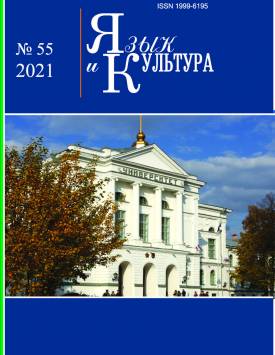

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью