Временная система ваховского диалекта хантыйского языка по материалам современных полевых исследований
Анализируется система временных (темпоральных) показателей глагола в ваховском диалекте хантыйского языка. Цель исследования заключается в установлении спектра значений глагольных темпоральных суффиксов и в представлении их авторской интерпретации. Источниками материала послужили полевые данные, собранные одним из авторов в селе Корлики Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2019 г. Лингвистические данные получены с помощью заранее адаптированных и переведенных на русский язык анкет, предложенных шведским лингвистом Эстеном Далем (Esten Dahl). Интерпретация семантики осуществлялась с учетом типологического своеобразия суффиксов в сравнении с подобными маркерами других диалектов хантыйского языка. Временная система ваховского хантыйского, представленная двучленной оппозицией по типу «прошедшее/непрошедшее», включает в себя суффиксальные репрезентанты, которые неравномерно распределяются по соответствующим фрагментам временного поля. Большее количество функционально различных суффиксов представлено в зоне прошедшего времени, которые, по мнению авторов, сосредоточены на выражении метрического временного дейксиса. Согласно полевым данным, суффиксы прошедшего времени в исследуемом диалекте вступают в парадигматические отношения, указывая на различную отдаленность прошлого действия от момента речи. Суффикс -s ориентирован на маркирование ближайшей темпоральной дистанции, -yas -yas сигнализирует о близкой темпоральной дистанции, в то время как суффикс -yal/-yal указывает на отдаленную темпоральную дистанцию. Для маркирования настоящего или футуриального временного периода используются функционально однородные суффиксы -l/-w/-wsl(-wsl), формирующие единую парадигму по лицам и числам субъекта. Семантика нулевого суффикса 0 представляется наиболее сложной для интерпретации, поскольку языковой материал указывает на способность данной граммемы относить действие к как прошедшему, так и к настоящему времени. Наблюдается тенденция к закреплению за данной морфемой функции маркера настоящего времени. Полевые данные позволяют также предположить, что темпоральные суффиксы -s и 0 обладают синкретичной семантикой и могут сигнализировать об аспектуальных характеристиках обозначаемого действия. Языковые примеры свидетельствуют в пользу того, что суффикс -s может маркировать семантику завершенности и результативности действия, а нулевой суффикс - семантику незаконченности действия. Суффиксы ближнего и отдаленного прошлого, -yas/-yas и -yal/-yal соответственно, в выражении аспектуальных значений не задействованы. Представленные результаты могут быть использованы для актуализации сведений о темпоральной морфологии глагола в ваховском хантыйском языке, так как были получены из новейших полевых данных, собранных в XXI столетии. Авторы не настаивают на завершенности полученных выводов, планируют новые экспедиции и дальнейшую обработку имеющегося полевого материала в полном объеме, допускают возможность последующего уточнения интерпретации значений ваховских темпоральных маркеров.
The temporal system of Vakh Khanty (a case study of the modern field research data).pdf Введение Целью настоящей статьи является представление авторского подхода к интерпретации системы глагольных маркеров времени в вахов-ском диалекте хантыйского языка с учетом их типологического своеобразия по отношению к временным системам других диалектов хантыйского. В работе обсуждаются отличительные особенности временной системы ваховского диалекта хантыйского языка, выявленные на материалах полевых исследований. Полевые данные, послужившие источниками материала для настоящей статьи, были собраны в ходе научной экспедиции в село Корлики Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры в 2019 г. Хантыйский язык принадлежит коренному малочисленному сибирскому народу ханты. Распространение хантыйского языка происходило на довольно обширной территории Сибири, что привело к распадению хантыйского языка на три диалектные группы: северную, южную и восточную, в каждой из которых выделяется по несколько диалектов и говоров. К настоящему времени полностью ассимилировались не только отдельные говоры и диалекты, но вся южная группа. Прогрессирующее разрушение хантыйской языковой среды продолжается. Из восточной диалектной группы сегодня на этническом языке сохраняют коммуникацию сургутские и ваховские ханты. Последние из упомянутых проживают в селе Корлики Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а также близлежащих и отдаленных родовых угодьях, принадлежащие семьям корликовских ханты. Село расположено в верхнем течении реки Корлики - участке реки Вах правого притока верхнего бассейна Оби. Слово «корлики» произошло от хантыйского «корлькив», которое в переводе означает «круг, извилистая река с крутыми поворотами». В селе проживают семьи вахов-ских ханты - Кунины, Каткалевы, Хохлянкины, Сигильетовы, Могуль-чины, Прасины. Село характеризуется как труднодоступное и изолированное, благодаря чему коренные жители сохранили традиционный уклад жизни предков и родной язык, несмотря на то что все ханты села билингвы. На территории низовьев и среднего течения реки Вах, в зону которого также входит распространение ваховского диалекта хантыйского языка, этническое население уже не говорит на родном языке. Языковые данные, послужившие материалом для исследования, собирались одним из авторов статьи летом 2019 г. на территории описанного выше села. Лингвистическая информация была получена от Е.А. Куниной и Ж.А. Хохлянкиной. Евгения Алексеевна Кунина родилась в 1943 г. в поселке Красный Север в 70 км от пос. Корлики. Жанна Александровна Хохлянкина (Могульчина) родилась в 1967 г. в пос. Корлики. Оба информанта родились в хантыйских семьях, проживавших на угодьях. Общение членов семьи происходило на родном языке. Все информанты являются билингвами и оценивают свой уровень владения родным языком как ‘semi-speaker' по классификации К. Гринвальд [1. Р. 12-15]. Для сбора лингвистической информации был использован метод анкетирования. Элиситация необходимых данных происходила с помощью заранее обработанных и переведенных на русский язык анкет на тему «Грамматическое время», предложенные Эстеном Далем [2. Р. 198-206]. Одна и та же анкета, содержательно ориентированная на выявление темпоральных и аспектуальных характеристик хантыйского глагола, была записана дважды от каждого респондента, т. е. Е. А. Куниной и Ж. А. Хохлянкиной. В анализ также вошли прозаические тексты, рассказы и сказки, записанные от коренных жителей села. Две основные сказки, «Две птички-сёстры» и «Песня мышонка», рассказанные сказительницей Татьяной Фёдоровной Каткалевой, учительницей-пенсионеркой хантыйского языка, были расшифрованы Евгенией Алексеевной Куниной. В настоящее время собранный материал постепенно расшифровывается, глоссируется и размещается на сайте проекта «Языковое и этнокультурное разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур» Лигводок (http://lingvodoc.ispras.ru/ dictionary/3568/147/perspective/3568/15 1/view), в рамках которого выполняется исследование. Объем корпуса собранных и проанализированных языковых данных составляет около 5 тыс. слов. Методология исследования Представляемое в статье исследование было проведено с опорой на теоретические положения общей и типологической лингвистики. Методологической базой исследования послужили концепции и теории, представленные в работах [2-14]. Согласно мнению Б.А. Серебренникова [15. C. 8], грамматическая категория времени служит для хронологического соотнесения высказывания с моментом речи, при этом наряду с действием или состоянием в определенный временной план переносятся все связанные с ними слова субстантивного и адъективного характера. Временная локализация сообщаемого события может быть соотнесена с временным планом прошедшего, настоящего и будущего, что позволяет говорить о трехчленных временных системах, но в «конкретных языках встречаются и двучленные системы типа «настоя-щее/ненастоящее», «прошедшее/непрошедшее», «будущее/небу-дущее» [16. C. 22]. Так, к двучленным языкам, будущая ситуация в которых описывается граммемами непрошедшего времени, относится финский, японский, алгонкские языки [14. C. 269]. Временная система исследуемого нами хантыйского языка двучленна по типу «прошедшее/непрошедшее». Как известно, понятие времени само по себе не является достаточным основанием для выделения в системе грамматических средств языка особой грамматической формы или категории времени. Например, в русском языке форма прошедшего времени может выражать те же значения, что и перфект [15. C. 7]. Идентификация в языке какого-либо грамматического времени опирается на критерий выделимости граммемы. Хотя категория времени может претендовать на универсальную лингвистическую категорию, в мире встречаются языки, как, например, бирманский, в которых граммем времени нет [17. Р. 51]. В таких языках соотнесенность с временным полем осуществляется посредством лексических средств (вчера, сегодня, год назад и т.д.). Сложность систем различных времен, существующих в языках мира, обусловлена взаимоотношением между фактом объективной действительности, логическим понятием и единицей грамматического строя. Грамматический строй любого языка отражает то, какие характеристики действия находят отражение в морфологии языка, при этом допускается, что какие-то свойства или характеристики могут быть логически осознаваемыми, но не иметь материального грамматического выражения. В типологической литературе выделяют три вида временного дейксиса: абсолютное (дейктическое, первичное), относительное (анафорические, вторичное) и метрическое [2, 9-12]. Граммемы абсолютного временного дейксиса связывают ситуацию с настоящим, прошедшим или будущем полем временной оси, например ест, ела, будет есть. Граммемы относительного временного дейксиса локализуют ситуацию внутри временного интервала настоящего, прошедшего и будущего времен, например англ. had read, would read. Граммемы метрического временного дейксиса дополнительно различают степени отдаленности от момента речи. Во временных системах языков мира метрические временные системы типологически редки. Временной дейксис ничего общего не имеет с тем, как развивалась сама ситуация (т. е. была ли она мгновенной или длительной, завершилась или нет), эти сведения передаются разнообразными граммемами аспекта (вида) [14. C. 268]. Аспектуальные формы глагола практически во всех языках в той или иной степени имеют отношение к выражению дейктического времени [14. C. 258]. Аспектуальные категории определяют ситуацию с точки зрения характера ее протекания во времени (длительности, ограниченности, наличия результата и т.д.) [14. C. 281]. Не все языки обладают грамматической категорией вида; она рассматривается как скрытая семантическая или понятийная категория [15. C. 26; 18. C. 117; 19. C. 170; 20. C. 167-168]. С точки зрения таких ученых, как Б. Комри [7. Р. 9], Дж. Лайонс [6. Р. 74], М. Джонсон [8. Р. 148], грамматические времена имплицитно маркируют аспект, что проявляется в том, что, например, древнегреческий аорист выражает значение прошедшего времени с аспектом совершенности [21. C. 79]. Абсолютные грамматические времена маркируют перфектный или неперфектный аспект, в то время как относительные грамматические времена маркируют перфектный или предполагаемый (проспективный) аспект. Так, в английском простые прошедшее и будущее времена полисемично совершенные и несовершенные [22]. Время и аспект взаимодействуют друг с другом, а также с Ak-tionsart и наклонением, особенно с эвиденциональностью и инференци-анальностью. Аспект также взаимодействует с залогом [12]. В языках мира возможны времена стабильные, но наряду с ними могут также существовать времена, постепенно исчезающие или вновь возникающие. Например, в языке сургутских ханты, наиболее близко географически локализованном к исследуемому языку ваховских ханты, одна из форм прошедшего времени, маркированная суффиксом -s, практически утратила свое употребление в современном языке [23]. Исследование и результаты Временная система хантыйского глагола двучленна по типу «прошедшее/непрошедшее», а глагольная форма содержит морфемы, выражающие особую залоговую, видовую, временную и личночисловую семантику. Абсолютный временной дейксис представлен граммемами настоящего и ненастоящего времени. Категория аспекта либо не выделяется (см., например, [24. Р. 55-70; 25. Р. 103-123; 26; 27. Р. 47-52]), либо смешивается со способами действия (см., в частности, [28. С. 215-216; 29. С. 92; 30. С. 335; 31]). Последнее положение, наряду с отрицанием категории вида, до недавнего времени являлось традиционным и в отношении большинства других уральских языков (см., например, [15. С. 23; 32. С. 70-80; 33. С. 26]). Основываясь на более широком подходе к интерпретации понятия глагольного вида, ряд исследователей, тем не менее, выделяют данную категорию в некоторых финно-угорских языках, в частности в финском [34. С. 157], коми [35. С. 272-273], венгерском [36. С. 264-265; 37], а также в самодийских языках [38. Р. 139-141; 39. Р. 143]. Существующие на сегодняшний день исследования глагольной морфологии северных диалектов хантыйского языка позволяют сделать вывод о наличии в нем видовременной глагольной системы. При рассмотрении категории наклонения-времени в северно-хантыйском языке М.И. Черемисиной, Е.В. Ковган (1989), А.Д. Каксиным (2000) отмечаются некоторые видовые оттенки (например, такие как длительность и перфектность), выявляемые в значении временных глагольных форм. Однако самыми распространенными значениями из семантической зоны аспектуальности, вовлекаемыми в систему категории наклонения-времени хантыйского языка, являются оппозиционные значения результативности (совершенности/предельности) и нерезультативности (несовершенности/непредельности). О средствах передачи значения совершенности (результативности) в северо-хантыйском языке см.: [26. С. 9, 28-34; 40]. По мнению авторов, выражение того или иного аспектуального значения зависит не только от выбора временной формы, но и от условий контекста, соответствующих обстоятельству времени и лексического значения глагола. Данные, полученные на материале северо-хантыйских диалектов, хотя могут подтверждаться для восточнохантыйских, в том числе и для вах-васюганского, все же не могут быть отнесены к ним в полной мере ввиду значительного своеобразия восточно-хантыйского. Так, например, в северно-хантыйских диалектах система временных форм не характеризуется признаком близо-сти/отдаленности, в то время как в восточном вах-васюганском хантыйском это различие имеется. Кроме того, такого многообразия показателей прошедшего времени (четыре) не встречается ни в одном другом диалекте хантыйского языка. По материалам грамматических очерков в ваховском диалекте хантыйского языка временная система представлена как двучленная, в ней выделяются суффиксы прошедшего и непрошедшего времени. Непрошедшее время маркируется функционально однородными суффиксами -l/-w/-wal/-wal. Суффикс -w употребляется во 2 л. ед. ч. Суффикс -wal/-wal - в 3 лице ед. и мн. ч. Суффикс -wal/-wal, по мнению Н. И. Терёшкина, представляет собой сочетание двух показателей непрошедшего времени - -w и -l [41. С. 80]. Во всех остальных лицах и числах употребляется суффикс -l. Происхождение хантыйского единого для всех диалектов суффикса настоящего времени -l- (l X t (w Xp) [42. Р. 407]) не установлено [43. Р. 23]. Представим парадигму спряжения глагола werta ‘делать' по материалам Н.И. Терёшкина [41. С. 80]: ma wer-l-am ‘я делаю', min werl-aman ‘мы вдвоем делаем', may wer-l-oy ‘мы делаем', noy wer-w-an ‘ты делаешь', nin wer-l-atan ‘вы вдвоем делаете', nay wer-l-atay ‘вы делаете', loy wer-wal ‘он делает', lin wer-l-ayan ‘они вдвоем делают', lay wer-wal-t ‘они делают'. Суффиксов прошедшего времени три: -s, -yas/-yas, -yal/-yal. Уточнение всего спектра их значений является не до конца решенной задачей, что следует заключить в ходе анализа трудов исследователей вах-васюганского наречия. Семантика суффиксов прошедшего времени в вах-васюганском хантыйском продолжает оставаться дискуссионным вопросом, стоящем на повестке дня уже более века. В записках К.Ф. Карьялайнена, которые были сделаны на рубеже XIX-XX вв., говорится о двух временных суффиксах в ваховском диалекте. Так, автор выделяет суффикс -l, суффикс -w во 2 л. ед. ч. и суффикс -wsl/-wsl в 3 л. ед. и мн. ч., который служит для маркирования события в настоящем (Gegenwart). Форма глагола на -s указывает на событие в прошлом (Vergangenheit) [44]. В васюганском диалекте, который составляет одно наречие с ваховским, К. Ф. Карьялайнен выделяет все четыре суффикса времени, которые функционируют в современном ваховском хантыйском. Из числа этих морфем значение настоящего времени выражается суффиксом в формах -l/-w/-wel/-wsl, в то время как имперфектное (Imperfect) событие маркируется суффиксом -s или невыраженным материально (нулевым) суффиксом перфекта (Perfect), прошедшее имперфектное (Hist. Imperfеct) событие оформляется суффиксом -yas -yas (< -kas/-kas), а прошедшее перфектное (Hist. Perfect) -суффиксом -yal/-yal (< -kal/-kal) [44. Р. 180-181]. В сургутском диалекте выделяется три временные формы: форма настоящего времени на -l, им-перфектная форма на -s и перфектная форма с нулевым суффиксом (материально невыраженная) [44. Р. 268]. В современном сургутском осталось две формы времени: непрошедшего на -l и прошедшего - без материально выраженного показателя. В табл. 1 представлена система показателей грамматических времен по материалам Л. Хонти [27. С. 51]. Т а б л и ц а 1 Система показателей времени в диалектах хантыйского языка Грамматическое время Вах.-вас. Сург. Салым. Низ. Шерк. Каз. Бер. Обд. Презенс l X t t t X l l Перфект 0 0 0 0 - - - - Имперфект s (s) (s) s s s s Прошедший Перфект yal/yal - - - - - - - Непрошедший Перфект yas/yas - - - - - - - Из данных табл. 1 следует, что в вах-васюганском наречии имеется один показатель для обозначения настоящего времени -l и четыре показателя - для прошедшего: 0, -s, -yal/-yal, -yas/-yas. В сургутском диалекте, относящемся к этой же группе, а также в диалекте переходного типа - салымском, как и в южном низямском, выделяются два грамматических показателя: -A/-t и -0. В переходном из южной в северную группу шеркальском диалекте временными показателями выступают -t, -s. В северной группе хантыйских диалектов определяются две граммемы времени: -A/-t и -s. В ваховском диалекте хантыйского Н.И. Терёшкин различает четыре показателя прошедшего времени, но интерпретирует их по-иному. С точки зрения исследователя, формы прошедшего времени на -s, 0, -yas/-yas и -yal/-yal по своей семантике различаются в двух аспектах: по давности и определенности. В табл. 2 показано, как суффиксы прошедшего времени вовлечены в противопоставление по признаку определенности - неопределенности момента, в который произошло событие в прошлом. Т а б л и ц а 2 Система суффиксов прошедшего времени по данным Н.И. Терёшкина [41. С. 81-82] Время Определенное прошедшее Неопределенное прошедшее Недавно прошедшее -s -yas/-yas Давно прошедшее 0 -yal/-yal Автор грамматики поясняет [41], что формы недавно прошедшего времени, характеризуемые суффиксами -s и -yas-yas, выражают действие, которое произошло или происходило в момент, близкий к моменту высказывания, или, во всяком случае, в такой момент, который не может считаться очень далеким от последнего. При этом прошедшее время с суффиксом -s употребляется тогда, когда необходимо подчеркнуть, что данное действие происходило или произошло в определенный момент, являющийся близким к моменту высказывания. Прошедшее время на -yas-yas, наоборот, употребляется тогда, когда необходимо подчеркнуть, что оно происходило или произошло в неопределенный момент, являющийся относительно близким к моменту высказывания. Формы давно прошедшего времени, характеризуемые отсутствием суффикса или суффиксом -yal/-yal, выражают действие, которое произошло или происходило в момент, далекий от момента высказывания, или, во всяком случае, в такой момент, который не может считаться очень близким к последнему. При этом прошедшее время без суффикса употребляется тогда, когда необходимо подчеркнуть, что данное действие происходило или произошло в момент, являющийся, безусловно, далеким от момента высказывания. Прошедшее время с суффиксом -yal/-yal, наоборот, употребляется в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что данное действие происходило или произошло в момент, являющийся относительно далеким от момента высказывания. По мнению Н.И. Терёшкина, формы неопределенного прошедшего времени свойственны исключительно ваховскому диалекту, а в других диалектах эти формы не встречаются даже в реликтах [41. С. 81-82]. В исследованиях по ваховскому диалекту Я. Гуя упоминается пять временных суффиксов, употребление которых автор интерпретирует следующим образом. Непрошедшее время маркируется суффиксом -l и его формами: -w - для 2 л. ед. ч. и -wali-wal - для 3 л. ед. и мн. ч. (табл. 3). Т а б л и ц а 3 Система суффиксов прошедшего времени Я. Гуя [26. С. 110-111] Показатель Соотносится с определенным моментом в прошлом Не соотносится с определенным моментом в прошлом Действие в прошлом - 0 Действие, завершенное в далеком прошлом, длительное -yal/-yal - Действие, совершенное в прошлом до наступления другого действия, обозначенного суффиксом -s -yas/-yas - Действие, прошедшее недавно или только что свершившееся, завершенное, кратковременное -s - С точки зрения Я. Гуя, суффикс прошедшего времени -s используется для маркирования только что свершившегося или недавно произошедшего действия. Кроме того, этот суффикс используется для обозначения законченного действия, иногда кратковременного по длительности, в прошлом. Суффикс прошедшего времени -yas/-yas указывает на действие, совершенное в прошлом до наступления другого действия, обозначенного суффиксом -s. Суффикс прошедшего времени -yal/-yal используется для выражения завершенного, длительного действия, свершившегося относительно давно в прошлом. Глаголы с суффиксами -s, -yas/-yas и -yal/-yal можно соотнести с определенным моментом в прошлом, но их сравнение относительно друг друга не устанавливается. Бессуффиксальное прошедшее время обозначает прошедшее время без привязки к определенному периоду [26. С. 110-111]. В монографии А.Ю. Фильченко [45. Р. 244-245], посвященной описанию грамматического строя васюганского диалекта, темпоральная оппозиция также представлена как двучленная по типу «прошед-шее/непрошедшее». На оси прошедшего времени основными критериями выбора одного из маркеров прошедшего времени являются относительное временное расстояние от момента высказывания и относительная релевантность по отношению к моменту высказывания (табл. 4). Т а б л и ц а 4 Система суффиксов прошедшего времени по данным А.Ю. Фильченко [46. С. 244-245] Время Релевантное прошедшее Нерелевантное прошедшее Недавно прошедшее -s -yas/-yas Давно прошедшее 0 -yal/-yal Относительно недавно прошедшее событие, которое является более релевантным для момента речи, маркируется показателем -s, а то, которое является менее релевантным, менее определенным или менее значимым, маркируется суффиксом -yas/-yas. Далее, относительно удаленное прошедшее событие от речевого акта, которое является более определенным или релевантным по отношению к речевому акту, маркируется суффиксом -yal/-yal, а то, которое менее определенно по своему местоположению или менее релевантно относительно момента речи, не маркируется [45. С. 244-245]. Как следует из приведенных выше описаний, один из критериев употребления четырех временных маркеров, предложенных российскими учеными (Терёшкиным - для ваховского, Фильченко - для васюганского диалекта), не совпадает. Так, Н. И. Терёшкин оперирует понятием определенности, а А.Ю. Фильченко - понятием релевантности. У венгерских ученых Л. Хонти и Я. Гуя в классификации временных маркеров выделяется параметр завершенности (completeness). Можно констатировать расхождение мнений хантологов только в отношении одного из критериев употребления маркеров события в прошлом, а именно того, который связан с аспектуальностью. Критерий отдаленности во времени от момента речи учитывается всеми хантологами без исключения. Аспект (вид) является центральным понятием в системе аспекту-альности, в которой разграничивают такие термины, как «вид» и «способ действия» (последний - от нем. Aktionsart). Отличием между ними является тот факт, что способы действия не образуют четких парадигматических противопоставлений широкого охвата, т. е. они не образуют грамматической категории, оставаясь только в рамках лексических различий между глаголами [7. Р. 7; 14. С. 282]. Способы действия наряду с категорией вида (аспекта) и предельностью/непредельностью входят в круг наиболее дискуссионных тем в теории аспектуальности. Традиционным положением современной аспектологии является рассмотрение способов действия в качестве достаточно автономной, формальной и содержательной области глагольной системы. В финно-угорских языках суффиксы видового значения противопоставляются в основном не по совершенности/несовершенности действия, а по возможности выражения мгновенности (начинательности), кратковременности, т.е. по количественному признаку, с одной стороны, и по выражению повторности, продолжительности, рассредоточенности - с другой. Что касается суффиксов залогового значения, то они противопоставляются по выражению средневозвратного, страдательного и взаимного значения, с одной стороны, а с другой - по выражению переходности и побудительности [46. С. 18]. Хантыйский язык в целом характеризуется обилием суффиксов, специализирующихся на передаче различных оттенков протекания действия [15. С. 34-35; 31; 47. С. 250-251; 48. С. 4]. Суффиксальные морфемы, задействованные в маркировании способов действия, вносят дополнительные характеристики в лексическое значение исходного глагола, а именно характеризуют многократность/однократность, интен-сивность/аттенуативность действия, указывают на его внутреннюю расчлененность. Средства выражения способов глагольного действия на материале вах-васюганского диалекта хантыйского языка были описаны в работах [30, 49]. Например, (1) weli-t-na-ti jSl-il-l-UY олень-PL-COM-PRTC ездигь-MULT-NPST-SBJ. 1PL [Мы] на оленей ездим [многократно], (2) ptikini amas-wayto-s заяц сидеть-MONT .DIM-PST1. SB J.3SG Заяц посидел. (3) wajy-alj-t lisk-aksta-s-st зверь-DIM-PL CMearbCH-INCH-PSTl-SBJ.3PL Зверята [начали] смеяться. В хантыйском языке помимо суффиксов видовой и временной семантики глагольная основа может быть осложнена суффиксами залоговой семантики, придающей действию каузативный характер. Кроме того, в языке имеются суффиксы для преобразования непереходных глаголов в переходные или непереходных с рефлективным значением в переходные [50. C. 35]. Значения транзитивности, каузативности и рефлексивности ниже упоминаются как суффиксы особой залоговой семантики (см. о других типах залога: [14. C. 198-222]). Порядок следования суффиксов в хантыйской глагольной словоформе строго регламентирован и может представлять собой длинную вереницу следующих суффиксов: деривационный суффикс, суффикс особой залоговой семантики, суффиксы способов действия, временной суффикс, залоговый суффикс и лично-числовой суффикс субъектного или объектного спряжения. Обязательные при образовании глагольной словоформы суффиксы - временной, залоговый и лично-числовой, присоединяются в конце, соблюдая порядок следования. В одном морфемном ряду может стоять более одного суффикса способа действия. Так, Н.Н. Шаламова отмечает, что наиболее распространенной является комбинация двух суффиксов способов действия, хотя возможно сочетание из трех суффиксов. Глагол с различной комбинацией суффиксов способов действия подробно характеризует разнообразные оттенки протекания глагольного действия. Основным смысловым оформителем является обычно последний суффикс, который и является функционально сильным. Он может служить как для усиления значения первого суффикса, так и для внесения нового оттенка [31. C. 115-116]. Например: (4) weli-t олень-PL wor лес kotl день on-pa нутро-ALL me го porki-na ala-wal-t в.течение дымокур-LOC 4e3KaTb-PRS-SBJ.3PL ja l-wa yta-wa l-t бегать-MONT .DIM-NPST -SB J. 3PL itan-ati os вечером-РТСР ещё Олени у дымокура лежат, вечером сбегают в лес. (5) ldt]kr-ali aykal oyti-a kan-ta-s мышь-DIM пень поверхность-LAT B36npaTbCH-TR-PSTl.SBJ.3SG kormayl-il-akata-s, lay-al-па narmala-wal, вертеться-MULT-INCH-PST 1. SB J. 3 SG хвост-POSS. 3 SG-COM играть-NPST. SB J. 3 SG ajlana toy-al tawsakan-ta-s вдруг туда-POSS. 3SG падать-TR-PST 1. SBJ.3SG Мышка на пень залезла и начала вертеться, хвостом играет, вдруг свалилась. Данные о временной системе ваховского диалекта хантыйского pani и языка, представленные в грамматических очерках, дополняются данными полевых исследований, проведенных в текущем столетии. Для уточнения значений граммем, входящих во видо-временную систему глагола ваховского диалекта хантыйского языка, были проанализированы материалы полевых записей, выполненных в ходе научной экспедиции в 2019 г. Решение данной задачи предполагало анализ функционирования суффиксов прошедшего и непрошедшего времени, а также выявление комплексной и синкретичной природы семантики указанных граммем. Временная система ваховского диалекта хантыйского языка состоит из двучленной оппозиции маркеров прошедшего и непрошедшего времени. В сфере прошедшего времени маркеров больше, чем в области настояще-футуриальной семантики, которая репрезентирована разными по форме показателями с единым значением. Рассмотрим темпоральные маркеры -l/-w-/wal/-wal (NPST). В хантыйском языке только в вах-васюганском наречии наблюдается несколько показателей для выражения непрошедшего временного периода. Функционально однородные суффиксы непрошедшего времени -l/-w/-wal/-wal сигнализируют о локализации ситуации в настоящем или будущем времени. Н.И. Терешкин определяет данные морфемы как суффиксы, однако их неустановленное происхождение не позволяет сделать однозначное заключение о том, являются ли данные морфемы формами одного и того же суффикса или разными суффиксами, включенными в одну парадигму. В дальнейшем описании данные морфемы будут называться функционально однородными суффиксами непрошедшего времени. Значение настоящего или будущего времени однородных суффиксов -l/-w/-wal/-wal «задается» условиями контекста, т.е. определенное значение - футуриального или настоящего времени - маркер получает в реальных условиях коммуникации. Так, в примере (6) маркер -l в условиях контекста приобретает значение настоящего времени и соотносит ситуацию с моментом в будущем: (6) апг-1 cecTpa-POSS.3SG kak-ali-l младший. брат-DIM-POS S. 3 SG kak-ali-m младший. брат-DIM-POS S. 1 SG пду-а 2SG-LAT pas-ali-ккэп loks-s кинуться-PST 2. SB J. 3 SG way-l-ste: звать-NPST- SB J. 3 SG: OBJ. SG jd-y-d, идти-EP-IMP.SBJ.SG pdni и pdni и на. улицу Уодеа ’ '' домой домой п 'jr-ali-kksn хантыйская. обувь-DIM-DU wer-1-эт варежки-DIM-DU делать-NPST -SBJ. 1 SG Сестра на улицу бросилась и братика домой зовет: братик мой, домой иди, я здесь тебе нырики и варежки орнаментом вышью. ksncat] узорный ma tam 1 SG здесь ksncat] узорный Нарратив (7) получен от информанта, которому заранее «задали» временные рамки истории, а именно попросили рассказать о том, что произойдет с ним завтра, т.е. на следующий день. В указанных примерах использованы маркеры -l/-w/-wsl/-wsl, которые в заданных контекстуальных условиях относят действия к области будущего временного отрезка: (7) та kds-1-dm тдцкат. 1SG находить-NPST-SBJ. 1SG змея Я найду змею. (7а) тап-пэ коу kdts-l-am pdni joy-l-im mdtjkdm-pd 1SG камень XBaTaTb-NPST-SBJ.3SG и 6pocaTb-NPST-SBJ.3SG:OBJ.SG змея-ALL Я схвачу камень и брошу в змею. (76) токкат jl kola-wal змея вниз yMHpaTb-NPST.SBJ.3SG Она умрет. Замечено, что для примеров такого рода характерно регулярное использование лексических средств типа tim kotl ‘сегодня’, it ‘сейчас’, koltsy ‘завтра’, однозначно соотносящих действия с временным полем настоящего или будущего времени: (8) та koltay пду-а jsl-l-sm 1SG завтра 2SG-LAT come-NPST-SBJ.lSG Я завтра к тебе приду. Суффикс -l/-n/-w3l/-wsl в контекстных условиях настоящего момента передает значение настоящего времени, терминологически обозначаемого как «неопределенное настоящее» или «настоящее общее». Форма с указанным суффиксом представляет действие, происходящее в настоящем времени, без привязки к конкретному моменту, например: (9) weli-t-na-ti тэу wor оп-пэ jsl-il-1-иу олень-PL-COM-PRTC 1PL лес нутро-LOC ездить-MULT-NPST-SBJ. 1PL На оленей мы в лесу ездим. (10) кдгуэ1-ду weli wer-wel-t полено-ABL олень делать-МРЗТ-ЗВТЗРЬ Щепковых оленей делают из щепок (полено). (11) koj-пэ tim kat wer-l-i? кто-LOC этот дом делать-NPST-PAS S.3SG Кто строит этот дом? (букв. Кем этот дом строится?) Неограниченная повторяемость и хабитуальный характер протекания действия в настоящем или будущем контексте могут подчеркиваться лексическими единицами mscsy ‘всегда’ или mst ‘постоянно’, например: (12) oh, ata not] anta telikin-ta-w-an t’utj macay jok-w-an ox, обращение, к. мужчине 2SG NEG HafloeflaTb-TR-NPST-SBJ.2SG так постоянно танцевать-NPST -2SG Ox, брат, тебе не надоело, ты всегда танцуешь. (13) luy mat koljsla-wal 3 SG постоянно кашлять-NPST. SB J. 3 SG Он постоянно кашляет. В примере (14) значение отнесенности к будущему дополнено модальной семантикой ирреальности, сигнализирующей о возможности события, которая выражается лексически t’om ‘возможно’. В самом суффиксе -l/-n/-wsl/-wsl синкретизм временного и модального значения не наблюдается: (14) та t’om koltsy notj-а jsl-l-эт 1SG возможно завтра 2SG-LAT come-NPST-SBJ. 1SG Я, возможно, завтра к тебе приду. В качестве показателя будущего времени может также использоваться видовой суффикс начинательности -sksts/sksts. Полисемичный характер обсуждаемого начинательного суффикса был отмечен ранее рядом ученых [25. Р. 98, 109; 51. C. 64]. (15) ul wanna enam-wal taytaij ul wan't ’-akata-l-aman гагара ягода скоро расти IlfcH-NPST.SUB.3SG гагара ягода собирать-PRS-SBJ. 1DU: ' ' Голубика скоро вырастет, голубику будем собирать. В северных диалектах хантыйского языка значение будущего времени также может передаваться глаголом с суффиксом начинательного способа действия [40. C. 36], а в сургутском диалекте футуральная семантика кодируется аналитической конструкцией, образующейся сочетанием инфинитива и вспомогательного глагола nutta ‘начинать делать что-нибудь’. Последний принимает показатель непрошедшего времени -l и соответствующий лично-числовой маркер [23. C. 161]. Полисемичная природа непрошедшего суффикса -l выражается не только в том, что он используется как маркер действия, которое происходит в момент речи и будет происходить за моментом речи, но и как маркер мультипликативного действия, например: (16) та kut cas-пэ кйЬу-il-l-Sm ' 1SG шесть час-LOC вставать-MULT-NPST-SBJ.l SG Я встаю в шесть утра [многократно]. Это явление наблюдается и в других уральских языках. Исследователи предполагают, что глагольная форма, выражавшая мультипликативность, осмысливалась как форма настоящего времени, поэтому в современных языках уральской семьи некоторые показатели настоящего времени по своей природе являются суффиксами многократных глаголов [52. Р. 186; 53. C. 46]. Таким образом, суффикс непрошедшего времени в формах -l/-n/-wsl/-wsl выступает в роли маркера действия, которое темпорально соотнесено с моментом в настоящем или будущем и мыслится как одноразовое, хабитуальное или повторяемое, мультипликативное. Точное понимание временной локализации называемого действия предопределяется ситуативным контекстом (время, место, обстановка, участники) и может дополнительно обозначаться лексическими единицами с темпоральным значением (сегодня, завтра). Все это указывает на отсутствие в содержательной структуре обсуждаемого суффикса сем «настоящее время» или «будущее время». Далее проанализируем маркеры прошедшего времени. Временная система в языке ваховских ханты является расширенной по сравнению с языками северных и даже других восточных ханты, проживающих южнее [43. Р. 23]. В исследуемом диалекте хантыйского в сфере прошедшего времени выделяются четыре маркера. Если формально временные маркеры учитываются всеми хантологами без исключения, то значения, которые кроются за каждой из четырех употребляемых граммем, трактуются неоднозначно. Соотнесенность с временным полем прошедшего времени осуществляется посредством морфем -s, -yas/-yas и -yal/-yal. Три граммемы временного дейксиса, используемые в языке, различают степени отдаленности называемого действия от момента речи. Измерение временной дистанции между ситуацией в прошлом и моментом речи осуществляется приблизительно. Граммемами временной дистанции, или метрического временного дейксиса, являются: - -s: для маркирования ближайшей темпоральной дистанции. В таких случаях ситуация имеет место в момент речи или в непосредственной близости от момента речи; - -yas/-yas: для маркирования близкой темпоральной дистанции. Обозначаемая ситуация произошла либо в тот же день, либо в умеренно близком отдалении от момента речи; - -yal/-yal: для маркирования отдаленной темпоральной дистанции. Обозначаемая ситуация отдалена от момента речи одним днем, интервалом в несколько недель, месяцев, лет, столетий. Семантика материально невыраженного маркера остается не до конца выявленной, вызывает противоречивые мнения среди хантологов и требует дополнительного анализа. В языке современных ваховских ханты показатель -0 используется для маркирования дистанции близкой от момента речи или в момент речи. Схематически распределение областей, покрываемых темпоральными маркерами на временной оси, представлено на рис. 1. Рассмотрим каждый из показателей прошедшего времени по отдельности. Темпоральный маркер -s (PST1). Происхождение суффикса -s связывают с прахантыйским суффиксом причастия (настоящего/прошедшего времени) и терминологически обозначают как маркер действия несовершенного вида (the imperfect marker) [43. Р. 23]. Временная ось Область прошедшего времени Момент речи Область непрошедшего времени Рис. 1. Области, покрываемые темпоральными маркерами на временной оси Маркер -s указывает на действие, свершившееся в непосредственной близости к моменту речи, произошедшее только что, практически на глазах говорящего или в момент речи. Непосредственную важность играет связь c моментом речи. Например: (17) lorjkr-alijoY-td tayi kds-m-il-a, lal-s-dt мышь-DIM танцевать-IPFV.PTCP место видеть-РРУ.РТСР-ЗРЬ-ЬАТ вставать-PST1 -SBJ.3PL Когда мышонка танцующего на месте увидели, остановились. (18) ojlano -war lat’il-t-in-oy кэт э11э lat’-s-dyan вдруг запор осматривать-IPFV.PTCP-3DU-ABL вынимать. добычу-Р ST 1 - SB J. 3 DU очень большой Вдруг, когда осматривали запор, очень большую щуку оттуда вынули. (19) cokin kanoij-auto tala-s-otan еле-еле-край-LAT на.берегтащить-PST 1- SB J.3DU: Еле-ели (щуку) на берег вытащили. (20) jok jo-min-a рэу-ali домой приходигь-CNV-LAT юноша-DIM PST1.SBJ.3SG Придя домой, мальчик так сестре сказал: (21) та tipa woja-ia 1 SG с ейча с. же спать - INF Я спать захотел и лёг. OBJ SG sart щука t’utj так ani-1-a cecTpa-POSS.3SG-LAT Jd-s-эт, хотеть-PSTl-SBJ. 1SG ii ВНИЗ atd-s: говоритьэ1рг-1э-1-эт ложится-TR-NPST-SBJ. 1SG Анализ языковых данных позволяет сделать вывод о том, что форма на -s совмещает темпоральное значение с аспектуальным. Маркер -s употребляется тогда, когда необходимо указать на результативность произведенного действия, например: (22) koj-пэ кдуэ! toy/ кто-LOC чашка прочь Кто разбил чашку? (23) koj-пэ tim kat кго-LOC этот дом ari-to-s-j ломать-TR-PSTl -PASS.3SG wer-s-i? flenaib-PSTl-PASS.3SG Кто построил ЭТО ДОМ? (24) jay ejnam id li-s-dt люди все ягода ecib-PSTl-SBJ.3PL Люди всю ягоду поели. (25) тап-пэ ajkorat ejnam тэ-s-dt 1SG-LOC поровну все давать-Р8Т1-ЗРЬ Я дал всем поровну. (26) та kumpd lilya-s-dm 1 SG на. улицу выходить-PS Т1-SBJ. 1SG Я вышел на улицу. Достаточно неожиданными являются комментарии носителей ва-ховского диалекта относительно употребления суффикса в эвиденци-альном значении. Так, они отмечают, что использование формы на -5 связано с намерением подчеркнуть достоверность события, которое произошло на их глазах либо информацию о котором они получили из достоверных источников, например: (27) 1эрэк ко fl wers-s темный день делать-SB J.PST1.3SG Потемнело. (28) ni fits t’a nuy Ictl ’э-s pani niij-al-a tayola jd-s женщина так PT CL вверх BCTaTb-PST1.3SG и женщина-POSS. 3 SG-L A туда прийги-PST 1. SB J. 3 SG Женщина вот встала и к его женщине туда пришла. Имеющийся языковой материал недостаточен, чтобы принять однозначное решение относительно эвиденциальной семантики суффикса -5. Тем не менее описанные выше случаи употребления показателя -5 позволяют предположить, что врем
Ключевые слова
хантыйский язык,
ваховский диалект,
полевые данные,
глагольная морфология,
время,
темпоральные суффиксыАвторы
| Воробьева Виктория Владимировна | Национальный исследовательский Томский политехнический университет; Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН | кандидат филологических наук, доцент; научный сотрудник | vorobeva@tpu.ru |
| Новицкая Ирина Владимировна | Национальный исследовательский Томский государственный университет | доктор филологических наук, доцент | irno2012@yandex.ru |
| Дубровская Наталья Викторовна | Национальный исследовательский Томский государственный университет | кандидат филологических наук, доцент, старший научный сотрудник | ruraru@yandex.ru |
Всего: 3
Ссылки
Grinevald C. Speakers and Documentation of Endangered Languages. Language Documentation and Description. L., 2003. Vol. 1. P. 52-72.
Dahl О. Tense and Aspect System. Oxford, 1985.
Bhat D.N. The prominence of tense, aspect and mood. Amsterdam/Philadelphia, 1935.
Prior A. Past and Future. Oxford, 1967.
Lyons J.Introduction to theoretical linguistics. Tense, mood and aspect. Cambridge, 1968. P. 304-317.
Lyons J. Semantics. Cambridge, 1977.
Comrie B. Aspect. An Introduction to the Study of Verbal Aspect and Related Problems. Cambridge, 1976.
Johnson M.M. A unified temporal theory of tense and aspect. P.J. Tedeschi and A. Zae-nen, Syntax and Semantics. Tense and Aspect. N.Y., 1981. № 14. P. 145-175.
Dahl О. Tense and Aspect in the languages of Europe. Berlin ; New York, 2000.
Bybee J., Perkins R. and Pagliuca W. The Evolution of Grammar. Tense, aspect, and modality in the language of the world. Chicago ; London, 1994.
Klein W. Time in Language. L. ; N.Y., 1994.
Binnick R.I. Temporality and aspectuality Language. M. Haspelmath, Typology and Language Universals // An International Handbook. Berlin ; New York, 2001. P. 557-567.
Lindstedt J. Tense and aspect. M. Haspelmath, Language Typology and Language Universals // An International Handbook. Berlin ; New York, 2001. P. 768-783.
Плунгян В. А. Введение в грамматическую семантику: грамматические значения и грамматические системы языков мира. М., 2011.
Серебренников Б. А. Категория времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп. М. : Изд-во АН СССР, 1960. 300 с.
Ооржак Б.Ч. Временная система тувинского языка. М., 2014.
Comrie B. Tense. Cambridge, 1985.
Никулеску Р. И. От безвидового языка к видовому // Вопросы языкознания. 1984. № 2. C. 115-121.
Иваницкий В. В. Основы общей и контрастивной аспектологии. Кемерово, 1991.
Кароляк С. К вопросу о типологии вида в славянских и романских языках // Типология вида: проблемы, поиски, решения : материалы Междунар. науч. конф., 1619 сентября 1997 г. М., 1998. C. 167-182.
Рунг Э. В., Габелко О. Л. Древнегреческий язык : учеб. пособие. Казань, 2010.
Declerck R. Tense in English: its structure and use in discourse. L., 1991.
Чепреги М. Сургутский диалект хантыйского языка. Ханты-Мансийск, 2017.
Redei K Northern Ostyak chrestomathy (Muzhi dialect). Bloomington, Indiana, 1965.
Gulya J. Eastern Ostyak Chrestomathy. Uralic and Altaic Series 51. Bloomington : Indiana University - Mouton & Co. The Hague, 1966.
Черемисина М.И., Ковган Е. В. Хантыйский глагол. Методические указания к курсу «Общее языкознание». Новосибирск, 1989.
Honti L. Chrestomathia Ostiacica. Budapest, 1984/1986.
Steinitz W. Хантыйский язык. Языки и письменность народов Севера. М., 1937. C. 193-227.
Животиков П. К. Очерк грамматики хантыйского языка (средне-обской диалект), Ханты-Мансийск, 1942.
Терёшкин Н. И. Хантыйский язык // Языки народов СССР. Т. 3: Финно-угорские и самодийские языки / под ред. В.И. Лукина, К.И. Майтинской. М. : Наука, 1966. С. 319-342.
Шаламова Н. Н. Выражение способ действия в вах-васюганском диалекте хантыйского языка : дис.. канд. филол. наук. Томск, 2001.
Дэжё Л. Типологическая характеристика русской грамматики в сопоставлении с венгерской. Будапешт, 1984.
Баталова P.M. Унифицированное описание диалектов уральских языков. Оньковский диалект коми-пермяцкого языка. М., 1990.
Репин А. К вопросу о различии лексико-грамматических способов выражения видовых значений в эстонском и финских языках // Fenno-Ugristica. 1990. № 17. C. 155-159.
Шеболкина Е. Категория вида в коми языке // Linguistica Uralica. 1996. № 4. С. 270277.
Агранат Т. Б. Функции превербов в современном венгерском языке // Журнал Сибирского федерального университета. Гуманитарные науки. 1989. № 4. P. 262-273.
Ясаи Л. Особенности выражения видовых значений в венгерском языке (типологические наблюдения) // Типология вида: проблемы, поиски, решения : материалы Междунар. науч. конф., 16-19 сентября 1997 г. М., 1998. С. 508-513.
Магк T. Tempus und Aspekt im Samojedischen // Specimina Sibirica III. 1990. P. 137141.
Kuznecova N., Bolsunovskaja L. Category of Aspect in Samoyed Languages // Congres-sus Nonus Intemationalis Fenno-Ugristarum. 13.08.2000. Tartu, 2000. Vol. 7 (II). P. 143.
Каксин А. Д. Категория наклонения-времени в северных диалектах хантыйского языка. Томск, 2000.
Терёшкин Н.И. Очерки диалектов хантыйского языка (ваховский диалект). Л., 1961. Ч. 1.
Kalman B. The History of the Ob-Ugric Languages // The Uralic languages: description, history, and foreign influences / ed. by D. Sinor. Brill Academic Publ., 1988. Т. 1. P. 395412.
Forsberg U.M. Ostiacica; Manuscripta castreniana Linguistica V; Attempt at an Ostyak grammar with a short word list by Dr. M. Alexander Castren / ed. by Ulla-Maya Forsberg, 2018.
Karjalainen K.F., Vertes E. Grammatikalische Aufzeichnungen aus Ostjakischen Mundarten. Helsenki, 1964.
Filchenko A.Yu. A Grammar of Eastern Khanty : Doctor of Philology Thesis. Houston, Texas, 2007.
Майтинская К. Е. Финно-угорские языки. Введение // Языки народов СССР. Финно-угорские и самодийские языки. М., 1966. № 3. С. 319-341.
Хайду П. Уральские языки и народы. М., 1985.
Хонти Л. Ваховский диалект хантыйского языка // Народы Северо-Западной Сибири. Томск, 1995. № 2. C. 3-22.
Ganshow G. Die Verbalbildung im Ostjakischen. Wiesbaden, 1965.
Осипова О. А., Шаламова Н.Н. Суффиксы залогового и видового значения в васюганском диалекте хантыйского языка // Linguistica Uralica. 2001. № 3. C. 34-46.
Майтинская К. Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков. М., 1979.
Tauli W. The Origin of Affixes // FUF. 1956. Bd. XXXll, Heft 1-2. P. 170-225.
Серебренников Б. А. К проблеме отражения развития человеческого мышления в структуре языка // Вопросы языкознания. 1970. № 2. С. 29-49.
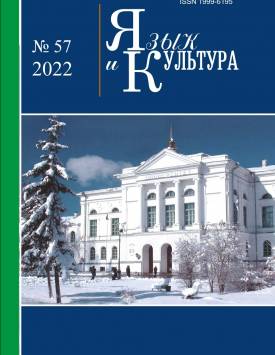

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью