Представлены результаты сравнительного изучения вербальной репрезентации терминов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в целях конкретизации их содержательной трактовки. Данная работа актуальна в силу востребованности развития представлений о языковой личности, испытывающей значительные травмирующие нагрузки под влиянием расширения масштабов информационной неопределенности и агрессивного манипулятивного давления среды на человека. Преодоление сохраняющейся неполноты и противоречивости заявленной терминологической трактовки в данном исследовании реализовано средствами эмпирического исследования. Его целью выступило изучение концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в сознании субъектов, специализирующихся в языковой сфере. В качестве исследовательской гипотезы выступило предположение о существовании смысловых особенностей концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в сознании субъектов языковой специализации, обусловленных общностью для них родового концепта «безопасность» и уникальностью сферы применения каждого из них. Исследование реализовано на 100 студентах старших курсов бакалавриата и магистратуры, изучающих иностранный язык на профессиональной основе в ряде вузов России (Московский государственный лингвистический университет, Российская международная академия туризма, Ставропольский государственный педагогический институт). Работа носила поисковый характер и основывалась на использовании свободного ассоциативного эксперимента в качестве ведущего метода сбора данных. Установлено, что усложнение конструкции концепта («безопасность» - «лингвистическая безопасность» - «психолингвистическая безопасность») сопровождается снижением объема продуцируемых им субъектных реакций. Наиболее полную реконструкцию структуры семантического поля стимула позволяют получить его первые реакции. Конкретизация предмета базового концепта «безопасность» приводит к смещению ее ассоциаций на этот предмет, в значительной степени изменяя психолингвистические универсалии его понимания, что обнаруживает существенную вариабельность репрезентации безопасности в субъективной картине мира. Подтверждено, что термины «безопасность», «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» характеризуются разным объемом ассоциативных полей. Концепты «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» обладают смысловым сходством с концептом «безопасность», подтверждаемым присутствием в их ассоциативных полях элемента защиты, и отличиями как следствиями особенностей их предметной специализации. Концепт «лингвистическая безопасность» в большей мере применяется к характеристике защищенности носителя языкового сознания как субъекта социального взаимодействия, а концепт «психолингвистическая безопасность» - как субъекта различных языковых процессов, имеющих внешнее выражение и внутреннее отражение. Основываясь на сделанных выводах, под лингвистической безопасностью нами понимается безопасность субъекта социального взаимодействия, воспроизводимость которой обеспечивается регуляцией его языковых систем традициями, культурой и нормами языка; под психолингвистической безопасностью - безопасность языковой личности, защищенность языковых систем которой поддерживается психическими средствами. Сделанные выводы могут стать основой последующих исследований по проблемам языковой личности. Ориентировка в нюансах лингвистической и психолингвистической безопасности может выступать одним из критериев профессионализма будущих специалистов-лингвистов, весомой предпосылкой их способности к обеспечению психического здоровья и благополучия собственного и субъектов их коммуникации.
Representation of linguistic and psycholinguistic security in language consciousness.pdf Введение Востребованность человеком безопасности в условиях нестабильного и противоречивого мира определяет формирование устойчивого интереса к ее вопросам практически всех современных отраслей знания сообразно их практикодетерминированным запросам и поисковым возможностям. Предпосылкой вовлеченности психологии в разработку ее базовых и прикладных проблем является не только центральная роль психики человека в процессах разрушения, инициирования, поддержания и восстановления безопасности, но и, что немаловажно, обладание данной наукой методологической и исследовательской базой для выявления ее сущностных, структурно-содержательных и функциональных особенностей [1, 2]. Несмотря на существенный научный задел ее классических направлений, прежде всего, психоанализа, гуманистической и бихевиористской психологии, в утверждении значимости безопасности для психической жизни человека, сам феномен долгое время не выступал объектом исследований экспериментальной психологии. Приданию предметного оформления и переходу к непосредственному изучению проблематики способствовало укоренение гуманистических традиций в обществе и науке, признание многофункциональности безопасности и ограниченности объяснения многих субъектных и личностных проявлений без учета ее феноменологии. Исследования показали, что безопасность обнаруживается специализированными новообразованиями в познавательной, эмоциональной, ценностно-смысловой сферах психики и определяет поведенческую и речевую активность человека, особенно в нетипичных, экстремальных условиях и ситуациях [3, 4]. По сути, появление в жизни любых трудностей, нарушений, рисков, угроз или опасностей, актуализируя значимость безопасности, изменяет объективное и субъективное состояние человека, перестраивает в соответствии с новыми условиями систему его мировосприятия, оценивания и реагирования. Понимание закономерностей и психических механизмов этих процессов повышает качество прогностических и проектировочных действий практиков, ориентированных на обеспечение безопасности субъектов и социальных систем. Углубление подобных исследований актуально в силу неоднозначности ряда аспектов безопасности и многоаспектности форм ее функционирования, многие из которых все еще находятся в стадии включения в предметное пространство психологических дисциплин. Сохраняющаяся неопределенность и двусмысленность трактовок затрудняют построение, согласование исследований, интерпретацию и обобщение их результатов, а также разработку рекомендаций по организации социальной активности при возникновении угроз безопасности. Сказанное в полной мере относится к феноменам лингвистической и психолингвистической безопасности. Включение терминов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в научный аппарат лингвистики и психологии имеет срок не многим более пяти лет, что еще не позволило согласовать их трактовки, оставляя их достаточную вариативность [57]. В немалой степени возникшие трудности интерпретации объясняются уникальностью базового для терминов концепта «безопасность» [8, 9]. На сегодняшний день данные термины в научном обороте или отождествляются, или осторожно дифференцируются. Первая позиция подкрепляется взаимным пересечением областей психологического и психолингвистического знания, при котором последняя является дочерней к базовой для нее дисциплине. Вторая позиция обнаруживается результатом погружения в проблематику: применение понятия лингвистической безопасности видится целесообразным при установлении возможности ее субъекта сохранять должный для интересов его развития уровень защищенности в ходе использования определенных (родных и (или) неродных) языковых систем, психолингвистической безопасности - при выявлении и оценке спектра нежелательных последствий преломления в психике субъекта разных языковых систем. Очевидно, что рассматриваемые концепты обладают некоторыми неочевидными признаками одновременно смысловой близости и нетожде-ственности, достаточными для инициации эмпирического исследования по их конкретизации. Методология исследования Несмотря на новизну терминов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность», образовательная практика позволяет предположить, что соответствующая им феноменология имплицитно представлена в процессах формирования языковой личности и в самом общем виде осознается субъектами, специализирующимися в языковой сфере. Установление нюансов их понимания может составить эмпирическую основу развития соответствующего понятийного аппарата в интересах дальнейшего расширения исследований по проблематике. Соответственно, проблему данного исследования составил вопрос об эмпирических предпосылках дифференциации и отождествления терминов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность». Целью исследования явилось изучение концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в сознании субъектов, специализирующихся в языковой сфере. В качестве исследовательской гипотезы выступило предположение о существовании смысловых особенностей концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в сознании субъектов языковой специализации, обусловленных общностью для них родового концепта «безопасность» и уникальностью сферы применения каждого из них, при которых: - усложнение формулировки термина («безопасность» - «лингвистическая безопасность» - «психолингвистическая безопасность») сопровождается сужением его ассоциативного содержания; - концепты «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» обладают смысловым сходством с концептом «безопасность», определяемым единством фрагмента реальности, и отличиями, обусловленными их предметной специализацией; - концепт «лингвистическая безопасность» в большей мере применяется к характеристике защищенности носителя языкового сознания как субъекта социального взаимодействия, а концепт «психолингвистическая безопасность» - как субъекта информационных воздействий. Цель и гипотеза определили следующие задачи исследования: 1. Выявить ассоциативные поля концептов «безопасность», «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность». 2. Сопоставить ассоциативное поле концепта «безопасность» с ассоциативными полями концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность». 3. Сопоставить концепты «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность». Научная новизна поставленных цели и задач обусловила поисковый характер исследования, которое было реализовано на базе свободного (ненаправленного) ассоциативного эксперимента в письменной форме. Ассоциативный эксперимент является одним из психосемантических методов изучения содержания сознания. Выбор исследовательского метода определился его способностью к выявлению комплекса субъективных значений задаваемого стимула. Значения, которые, по А.Н. Леонтьеву, являясь продуктом ассоциирования и генерализации впечатлений в сознании индивидуального субъекта, сочетают преобразованную и свернутую в материи языка идеальную форму существования предметного мира, его свойств, связей и отношений, раскрытых общественной практикой [10. С. 175]. Приближаясь по своим возможностям к реальному мышлению, ассоциативный эксперимент позволяет выявлять осознаваемые и неосознаваемые связи стимульного слова с другими словами, опосредованно устанавливать актуальные для субъекта когнитивные признаки реалий, задаваемых стимулом [11]. При организации ассоциативного эксперимента эмоциональная заряженность предъявляемых стимулов достигалась составом эмпирической выборки. К исследованию были привлечены субъекты (студенты старших курсов бакалавриата и магистратуры, изучающие иностранный язык на профессиональной основе), профессиональная деятельность которых непосредственно ориентирована на специализацию языкового сознания и предполагает знание основ функционирования языка в лингвистическом и психолингвистическом аспекте. Базой исследования выступил ряд вузов России, ведущих языковую подготовку (Московский государственный лингвистический университет, Российская международная академия туризма, Ставропольский государственный педагогический институт). В исследовании на добровольной основе приняли участие 100 студентов. Отказов не было. Выборка отвечала требованиям гомогенности по профессиональной направленности (специализация в языковой сфере) и возрасту (20-23 года) своего состава. Выбор возрастных рамок обусловлен, с одной стороны, тем, что этот возраст рассматривается исследователями [12] наиболее приемлемым для проведения ассоциативного эксперимента, с другой стороны, он соотносится с уровнем вузовской подготовки формирования базовых профессиональных понятий. Выборка характеризуется достаточной сбалансированностью по половому составу (55 человек женского пола, 45 - мужского пола). Эксперимент проводился авторами статьи, которые предварительно согласовали его условия: формулировку инструкции, ее предъявление, ответы на типовые вопросы, сбор выполненных заданий. Испытуемые указывали на листе бумаги свой возраст и пол. Далее им предъявлялись слова-стимулы («безопасность», «лингвистическая безопасность», «психолингвистическая безопасность») и предлагалось зафиксировать на бумаге первые ассоциации, возникшие в ответ на каждый из них. Инструкция: «Уважаемый участник исследования! В научных целях мы изучаем ассоциативные поля слов “безопасность”, “лингвистическая безопасность” и “психолингвистическая безопасность”. К каждому слову-стимулу запишите ассоциации, которые первыми приходят Вам в голову в ответ на предъявленные стимулы. Не торопитесь и помните, что все ответы считаются правильными, а задание не предполагает оценки». Время выполнения задания участниками исследования не оговаривалось. Однако на практике выполнение задания не превышало 10 минут. В качестве вспомогательного метода в исследовании использовался метод экспертной оценки. На этапе обработки эмпирических данных были использованы эксперты (три профессиональных психолога с опытом кон-тент-анализа, стаж более 10 лет), привлеченные для классификации ассоциативного материала. Работа экспертов проводилась индивидуально на начальном этапе (по единым инструкциям) с последующим совместным согласованием распределения ассоциаций по группам. В ходе полевой стратификации результатов экспериментального исследования значения и концепта мы использовали подход, предложенный И. А. Стерниным и А. В. Рудаковой, согласно которому ассоциации с частотой более 10% относились к центру ассоциативного поля, с частотой от 10 до 4% - к зоне ближней периферии, с частотой менее 4 до 2% - к зоне дальней периферии, с частотой менее 2% - к зоне крайней периферии [13]. Исследование и результаты По результатам ассоциативного эксперимента со словом-стимулом безопасность испытуемые выдали в общей сумме 832 реакции (не повторяющиеся - 328 реакций, включая 15 реакций в форме словосочетания или законченного предложения, 267 единичных реакций, 61 реакция с частотой более 1, отказов - 0). Обработка массива данных, полученных по ассоциативному эксперименту со стимулом безопасность, дала 100 реакций (не повторяющиеся - 58 реакций, из которых 6 реакций в форме словосочетания или законченного предложения, 49 единичных реакций, 9 реакций с частотой более 1, отказов - 0). Экспертами была проведена работа по смысловой группировке реакций испытуемых, результаты которой далее именуются ассоциациями. Наиболее высокочастотные ассоциации по всем и по первым реакциям на стимул безопасность приведены в табл. 1. Т а б л и ц а 1 Распределение частоты ассоциаций на слово-стимул безопасность по всем и по первым реакциям Ассоциации По всем реакциям, N = 832 По первым реакциям, N = 100 Абс., n Частота, % Абс., n Частота, % Дом (дом 38/7*, квартира 19/2, комната 8/2, стены 3/0) 68 8,17 11 11,0 Семья (семья 29/7, родители 14/2, мама 9/4, папа 1/0, брат 1/0, сестра 1/0, члены семьи 1/0) 56 6,73 13 13,0 Защита (защита 42/6, охрана 7/0, защищенность 3/2) 52 6,25 8 8,0 Спокойствие (спокойствие 29/5, спокойно 5/1) 34 4,09 6 6,0 Уверенность (уверенность 22/2, уверенность в себе 6/0, уверенность в завтрашнем дне 2/2) 30 3,61 4 4,0 Стабильность 26 3,13 3 3,0 Поддержка 23 2,76 1 1,0 Надежность 21 2,52 2 2,0 Возможности (возможности 18/2, перспективы 3/0) 21 2,52 2 2,0 Друзья (друзья 12/1, друг 5/0, падежный друг 2/0, плечо друга 1/0) 20 2,40 1 1,0 Любовь 19 2,28 1 1,0 Успех (успех 14/2, достижения 3/0) 17 2,04 2 2,0 Опора 16 1,92 1 1,0 Объятия 12 1,44 1 1,0 Комфорт 10 1,20 1 1,0 Покой 8 0,96 1 1,0 Свет 7 0,84 - - Доверие (доверие 5/1, доверять 2/0) 7 0,84 1 1,0 Тепло 6 0,72 - - Тишина 5 0,60 1 1,0 * Здесь и далее в таблицах первая цифра обозначает количество ассоциаций по всем реакциям, вторая - по первым реакциям. Сравнение ассоциативных полей, построенных по всем и первым эмпирически полученным реакциям стимула безопасность, показывает большую стратифицированность элементов во втором случае, при котором выделены: центр ассоциативного поля (семья, дом), зоны ближней (защита, спокойствие, уверенность), дальней (стабильность, надежность, возможности, успех) и крайней (поддержка, друзья, любовь, опора ) периферии рассматриваемого стимула. Распределение по всем реакциям рассматриваемого стимула при отсутствии в анализе центра ассоциативного поля обнаруживает большую многочисленность зон его ближней (дом, семья, защита, спокойствие), дальней (уверенность, стабильность, поддержка, надежность, возможности, друзья, любовь, успех) и крайней (опора, объятия, комфорт, покой, свет, Доверие, тепло, тишина ) периферии. Распределение элементов ассоциативного поля на стимул безопасность в сопоставлении с распределением элементов ассоциативного поля, полученным в ответ на тот же стимул по данным предшествующего исследования [14], демонстрирует высокий уровень воспроизводимости установленных особенностей. На схожей выборке подтверждена высокая частотность для стимула безопасность ассоциаций семья, дом и защита, относимых к источникам безопасности, и ассоциаций, характеризующих переживание безопасности, - спокойствие, уверенность, стабильность, надежность, возможности, успех. Таким образом, безопасность вне конкретизации своего предмета на субъектном уровне ассоциируется, в первую очередь, со своим источником и наводимыми ею состояниями. Соответственно, особенностью вербальной репрезентации концепта «безопасность» является неразрывное сочетание объективного (источник безопасности) и субъективного (переживание безопасности) с невозможностью адекватной реализации его смысловой нагрузки при отсутствии одного или другого. При этом само наведенное безопасностью субъектное переживание обладает высокой сложностью, так как интегрирует собой две противоположности - стагнацию (спокойствие, уверенность, стабильность, надежность) и развитие (возможности, успех). Вероятно, обозначение только одного полюса переживания обедняет концептосферу безопасность. Данная особенность находит отражение в современной дефиниции соответствующего понятия [15]. Изучение реакций на стимулы лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность демонстрирует их значительную предметную специализацию. На слово-стимул лингвистическая безопасность было получено в целом 528 реакций (не повторяющиеся - 246 реакций, из которых 96 реакций в форме словосочетания или законченного предложения, 201 единичная реакция, 45 реакций с частотой более 1, отказов - 0), что составляет 64,5% от всего массива реакций на стимул безопасность. Анализ результатов ассоциативного эксперимента на стимул лингвистическая безопасность по первой реакции привел к получению 100 реакций (не повторяющиеся - 62 реакции, из которых 32 в форме словосочетания или законченного предложения, 54 единичных реакции, 8 реакций с частотой более 1, отказов - 0). Наиболее высокочастотные ассоциации по всем и по первым реакциям на стимул лингвистическая безопасность, полученные по результатам работы экспертов, приведены в табл. 2. Т а б л и ц а 2 Распределение частоты ассоциаций на слово-стимул лингвистическая безопасность по всем и по первым реакциям Ассоциации По всем реакциям, N = 528 По первым реакциям, N = 100 Абс., n Частота, % Абс., n Частота, % Взаимодействие (взаимодействие 30/8*, ясность взаимодействия 3/0, честность взаимодействия 2/1, открытость взаимодействия 2/0, доступность взаимодействия 1/0, доверие взаимодействия 1/0) 39 7,39 9 9,0 Язык (язык 23/6, русский язык 5/1, родной язык 2/0, ведущий язык 1/0) 31 5,87 7 7,0 Общение (общение 24/8, коммуникация 5/0) 29 5,49 8 8,0 Речь (речь 18/8, развитие речи 4/0, речевая деятельность 2/0) 24 4,55 8 8,0 Защита (защита 19/4, охрана 2/0) 21 3,98 4 4,0 Безопасность (безопасность 13/3, безопасность культуры 3/0, безопасность языкового толкования 2/0, безопасность речевой коммуникации 1/0) 19 3,60 3 3,0 Процессы языка (сохранение родного языка 12/3, деградация родного языка 4/1) 16 3,03 4 4,0 Культура (культура 7/3, культура языка 4/0, культура речи 2/0, национальная языковая культура 1/0) 14 2,65 3 3,0 Языковые нормы (языковые нормы 7/1, языковые правила 5/0) 12 2,27 1 1,0 Способ выражения мысли (свободное выражение мысли 7/1, правильное формулирование мысли 4/0) 11 2,08 1 1,0 Информация 9 1,70 1 1,0 Компетентность 8 1,52 1 1,0 Слово 7 1,33 1 1,0 Языковое разнообразие 6 1,14 1 1,0 Языковая война 6 1,14 1 1,0 Грамотность 5 0,95 1 1,0 Цензура 5 0,95 - - Лексика 5 0,95 1 1,0 Языковая политика 4 0,76 1 1,0 Клевета 4 0,76 - - Составленные по всем и по первым реакциям массивы ассоциаций не обнаруживают центры ассоциативного поля стимула лингвистическая безопасность. По всему массиву реакций на рассматриваемый стимул выделяется зона ближней (взаимодействие, язык, общение и речь), дальней (защита, безопасность, процессы языка, культура, языковые нормы, способ выражения мысли) и крайней (информация, компетентность, слово, языковое разнообразие, языковая война ) периферии ассоциативного поля. По первым реакциям на него просматривается укрупнение зоны ближней периферии ассоциативного поля (взаимодействие, язык, общение, речь, защита), сужение зоны дальней периферии (культура) и сохранение многочисленности элементного состава зоны крайней периферии (языковые нормы, способ выражения мысли, информация, компетентность ). Содержательный анализ выделенных зон показывает, что ассоциации стимула лингвистическая безопасность в своем большинстве относятся к его атрибутированию (лингвистическая) - взаимодействие, язык, общение, процессы языка, культура (языковая), языковые нормы и т.д., обозначая социальный характер содержания соответствующей категории. Элемент безопасность при этом дал минимальный набор ассоциаций - безопасность и защита, что свидетельствует о его вторичности в наполнении смыслом рассматриваемой категории. Таким образом, уточнение предмета в концепте «безопасность» приводит к полной содержательной перестройке его ассоциативного поля: подавляющая часть ассоциаций раскрывает атрибут, а не базовое понятие. Вероятно, концепт «лингвистическая безопасность» характеризует сферу социального взаимодействия с позиции ее урегулирования языковыми нормами и современной культурой (национальной, языковой, речевой). Вместе с тем сохранение ассоциаций безопасность и защита в ассоциативном поле концепта «лингвистическая безопасность» подразумевает его общность с родовым концептом «безопасность» на более глубинном уровне со всеми субъектными последствиями этого. Подобное понимание концепта просматривается в исследованиях, посвященных лингвистической безопасности [16]. На слово-стимул психолингвистическая безопасность получена всего 261 реакция (не повторяющиеся - 142 реакции, включая 4 реакции в форме словосочетания или законченного предложения, единичных реакций - 117, реакций с частотой более 1 - 25, отказов -0), что составляет 31,4% от всего массива реакций на стимул безопасность и 49,4% - от массива реакций на стимул лингвистическая безопасность. По результатам ассоциативного эксперимента на стимул психолингвистическая безопасность по первой реакции получено 100 реакций (не повторяющиеся - 52 реакции, из которых 22 в форме словосочетания или законченного предложения, 46 единичных реакций, 6 реакций с частотой более 1, отказов - 0). Наиболее высокочастотные ассоциации по всем и по первым реакциям на стимул психолингвистическая безопасность, полученные по результатам работы экспертов, приведены в табл. 3. Т а б л и ц а 3 Распределение частоты ассоциаций на слово-стимул психолингвистическая безопасность по всем и по первым реакциям Ассоциации По всем реакциям, N = 261 По первым реакциям, N = 100 Абс., n Частота, % Абс., n Частота, % Процессы языка (восприятие языка 8/8*, понимание языка 7/7) 15 5,75 15 15,0 Речь (содержание речи 4/4, процессы речи 3/3, восприятие речи 3/3, формирование речи 1/1, производство речи 1/0, восстановление речи 1/0) 13 4,98 11 11,0 Общение (коммуникация 8/1, общение 3/1, здоровая коммуникация 1/0) 12 4,60 3 3,0 Защита 11 4,21 12 12,0 Психика 10 3,83 4 4,0 Звук 9 3,45 10 10,0 Вербальный 8 3,07 2 2,0 Символ 7 2,68 1 1,0 Психология (психология 3/1, психоанализ 1/0, консультирование 1/0, НЛП 1/0, программирование 1/0) 7 2,68 1 1,0 Когнитивный 7 2,68 1 1,0 Человек (человек 4/1, клиент 1/0, пациент 1/0) 6 2,30 1 1,0 Скрытый 5 1,92 1 1,0 Взаимодействие 4 1,53 1 1,0 Обработка 4 1,53 1 1,0 Логопедия 4 1,53 1 1,0 Психиатрия 3 1,15 1 1,0 Психология языкового восприятия 3 1,15 1 1,0 Знание 3 1,15 1 1,0 Безопасность 3 1,15 1 1,0 Анализ 2 0,77 1 1,0 Изучение массива первых реакций по стимулу психолингвистическая безопасность позволило осуществить полную реконструкцию его ассоциативного поля, выделив в нем центр (процессы языка, защита, речь), зону ближней (звук, психика), дальней (общение, вербальный) и крайней (символ, психология, когнитивный, человек, скрытый, взаимоДействие, обработка ) периферии ассоциативного поля. По всем реакциям на рассматриваемый стимул выделены зоны ближней (процессы языка, речь, общение, защита), дальней (психика, звук, вербальный, символ, психология, когнитивный, человек) и крайней (скрытый, взаимодействие, обработка, логопедия, психиатрия, психология языкового восприятия ) периферии. Содержательный анализ ассоциативных полей стимула психолингвистическая безопасность выявляет доминирование элементов, относящихся к процессам языка, их звуковым и психическим аспектам. Выделение вербального и, в меньшей мере, символьного в рассматриваемой категории сочетается с осмыслением ее когнитивных, скрытых особенностей. Кроме того, на субъектном уровне категория содержит оттенки научности: ассоциации психология, логопедия, психиатрия характеризуют не только дисциплины, но и области практики. В силу отмеченных особенностей, можно предположить, что концепт «психолингвистическая безопасность» представляет характеристику функционирования языковых процессов с позиции их речевого оформления, влияющего на психику субъекта. В этом качестве он включается в сферу интересов теоретиков-исследователей и практиков, владеющих методами коррекции. На основе рассмотренного материала сделаем ряд промежуточных выводов. Отметим, что усложнение конструкции концепта («безопасность» - «лингвистическая безопасность» - «психолингвистическая безопасность») сопровождается снижением объема продуцируемых им субъектных реакций. Наиболее полную реконструкцию структуры семантического поля стимула позволяют получить его первые реакции. Конкретизация предмета базового концепта «безопасность» приводит к смещению ее ассоциаций на этот предмет, в значительной степени изменяя психолингвистические универсалии его понимания, что обнаруживает существенную вариабельность репрезентации безопасности в субъективной картине мира. Последующее сопоставление элементов ассоциативных полей стимула безопасность с элементами ассоциативных полей стимулов лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность выявило их пересечение по ассоциации защита. Процентное распределение данной ассоциации по трем стимулам на материале всех реакций и первой реакции представлено на рис. 1. Рис. 1. Распределение ассоциации защита на стимулы безопасность, лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность в массивах всех и первых реакций Обнаружение ассоциации защита по всем трем стимулам позволяет рассматривать ее в качестве базовой для стимулов, включающих термин «безопасность». Данная ассоциация, как было установлено на материале стимула безопасность, находится в одной зоне с ассоциациями спокойствие, уверенность. Соответственно, можно предполагать, что именно эти состояния наиболее приближены друг с другом на смысловом уровне: защита интересна тем, что дает спокойствие и уверенность, а потребность в последних вызывает действия по поиску защиты. Наряду с этим отметим, что анализ распределения ассоциации защиты по трем стимулам обнаруживает различия, наиболее явные на материале первых реакций. Рассматривая первые реакции, обратим внимание на то, что стимул безопасность, базовый для двух остальных стимулов, вызвал по отношению к ним среднюю (возможно, эталонный) численность рассматриваемой ассоциации (8%): в ответ на стимулы лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность численность ассоциации дала минимум (4%) и максимум (12%) распределения соответственно. Причина ее доминирования на стимул психолингвистическая безопасность, вероятно, определяется присутствием в его ассоциативном поле элементов психика, звук, вербальный, когнитивный, психология, логопедия, психиатрия, которые обнаруживают субъективную связь соответствующей категории с психикой человека, реальностью, вероятно, достаточно уязвимой, с субъективной точки зрения, требующей защиту. Сопоставление элементов ассоциативных полей стимулов лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность показало присутствие ряда одинаковых ассоциаций. Обладание ими идентичными ассоциациями процессы языка, речь, общение и взаимодействие указывает на единство фрагмента реальности, к которому они относятся. Можно предположить, что вне зависимости от определенных различий они характеризуют языковую личность, изучаемую в рамках лингвистики и психолингвистики. Детали распределения ассоциаций, идентичных для двух стимулов, просматриваются при их количественном сопоставлении (рис. 2). На массиве первых реакций для стимулов лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность обнаруживается статистически значимое (табл. 4) преобладание для первого стимула ассоциации взаимодействие, для второго стимула - процессы языка и защита. Тем самым подтверждаются ранее выдвинутые нами предположения: категория «лингвистическая безопасность» на субъектном уровне в большей мере ассоциируется с процессом межличностного взаимодействия, общения, а категория «психолингвистическая безопасность» - с процессами речи на уровне языка. Ранее уже попадавшая под анализ ассоциация защита в сопоставлении с ассоциацией безопасность добавляет оттенки интерпретации: безопасность рассматривается как более широкое понятие, включающее в себя, наряду с защитой, также потенциал развития - возможности, успех. а б Рис. 2. Распределение общих ассоциаций по стимулам лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность в массиве всех (а) и первых (б) реакций Т а б л и ц а 4 Угловое преобразование Фишера для ассоциаций по стимулам лингвистическая безопасность и психолингвистическая безопасность в массиве всех и первых реакций Сравниваемые ассоциации Ф* по всем реакциям Ф* по первым реакциям Взаимодействие 1,782* 2,892** Общение 0 1,598 Речь 0 0,721 Защита 0 2,15* Процессы языка 1,039 2,772** Безопасность 1,435 1,047 - различия на уровне значимостиp < 0,05; ** - на уровне значимостиp < 0,01. Наряду с совпадающими стимулы имеют не совпадающие ассоциации: для стимула лингвистическая безопасность - это язык, культура, языковые нормы, выражение мысли, информация, компетентность, слово, языковое разнообразие, языковая война, грамотность, цензура, лексика, языковая политика, клевета; для стимула психолингвистическая безопасность - психика, звук, вербальный, символ, психология, когнитивный, человек, скрытый, обработка, логопедия, психиатрия, психология языкового восприятия, знание, безопасность, анализ. Анализ представленных распределений позволяет утвердиться в уже обозначенном толковании: первый стимул в большей степени ассоциируется с процессами языкового взаимодействия, порождающими разнообразные феномены (выражение мысли, функционирование информации, языковое разнообразие, языковую войны, проблему грамотности, клеветы), требующими определенных средств регуляции (языковые нормы, цензура, языковая политика); второй стимул - с процессами функционирования языка, имеющими некоторое выражение (звук, вербальный, символ) и отражение в психике (когнитивный, скрытый) в качестве предмета изучения (обработка, анализ) и коррекции (психология, логопедия, психиатрия). Проведенное исследование эмпирически подтвердило нетожде-ственность концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность». Сохраняя минимальную связь с концептом «безопасность», они характеризуют языковую личность, а точнее качество функционирования языка, с некоторой предметно заданной позиции: концепт «лингвистическая безопасность» характеризует язык, скорее, как средство социального взаимодействия, концепт «психолингвистическая безопасность» - как порождение психики. При этом первый концепт в большей мере ассоциируется с безопасностью как источником защиты и развития, второй - с защитой как источником спокойствия, стабильности, уверенности. Заключение Представленное исследование реализовано в рамках решения задачи уточнения терминологии проблематики безопасности лингвистического сознания, которая рассматривается предпосылкой становления языковой личности. Работы в данной области особенно актуальны в условиях повышения насыщенности и агрессии информационного пространства, продуцирующего тревожность, неуверенность в себе и окружающем мире, депрессивность, а с ними - рост асоциальных и экстремистских проявлений в обществе. Появление в научном обороте терминов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» явилось результатом, с одной стороны, развития проблемного поля психологии безопасности, с другой - принятия исследователями запроса практики на детализацию и углубление понимания круга явлений, ранее маловизуализируемых, но имеющих важное значение для построения социального взаимодействия и образовательной сферы. Преодоление неопределенности в трактовке данных терминов нами решалось средствами эмпирического исследования. Проведенный ассоциативный эксперимент был построен как сравнительное изучение вербальной репрезентации концептов «безопасность», «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» в сознании профессиональных носителей языкового сознания. На его материале была подтверждена семантическая связь трех концептов и выявлены отличительные особенности семантических пространств концептов «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность», вызванные спецификацией их предмета. По итогам анализа и обобщения эмпирических данных сделаны следующие выводы: 1. Термины «безопасность», «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» характеризуются разным объемом ассоциативных полей. Усложнение формулировки термина сопровождается сужением содержания его ассоциативного поля. 2. Концепты «лингвистическая безопасность» и «психолингвистическая безопасность» обладают смысловым сходством с концептом «безопасность», подтверждаемым присутствием в их ассоциативных полях элемента защита, и отличиями как следствия особенностей их предметной специализации. 3. Концепт «лингвистическая безопасность» в большей мере применяется к характеристике защищенности носителя языкового сознания как субъекта социального взаимодействия, а концепт «психолингвистическая безопасность» - как субъекта различных языковых процессов, имеющих внешнее выражение и внутреннее отражение. Основываясь на сделанных выводах, могут быть конкретизированы понятия, заявленные для нашего исследования в качестве ключевых понятий. Под лингвистической безопасностью нами понимается безопасность субъекта социального взаимодействия, воспроизводимость которой обеспечивается регуляцией его языковых систем традициями, культурой и нормами языка. Под психолингвистической безопасностью понимается безопасность языковой личности, защищенность языковых систем которой от нежелательных внешних и внутренних воздействий поддерживается психическими средствами. В работе представлены результаты поискового исследования, которое может быть продолжено на других эмпирических выборках. Сделанные нами выводы могут стать основой последующих исследований по проблемам языковой личности. Результаты исследования применимы на практике, так как ориентировка в нюансах лингвистической и психолингвистической безопасности может выступать не только одним из критериев профессионализма будущих специалистов-лингвистов, но и весомой предпосылкой их способности к обеспечению психического здоровья и собственного благополучия, а также субъектов их профессиональной и бытовой коммуникации.
Кудака М.А., Маралов В.Г., Нуртаев Е.Р. Отношение к опасностям казахских и российских студентов // Вестник Московского государственного областного университета. 2018. № 3. С. 156-173.
Павлов В.Н., Какадий И.И. Угрозы безопасности образовательного учреждения // Бюллетень науки и практики. 2020. Т. 6, № 6. С. 305-311.
Сударик А.Н., Здорова С.В. Значение процесса формирования коммуникативной компетентности студентов-психологов в обеспечении психологической безопасности образовательной среды вуза // Психология обучения. 2018. № 1. С. 100-109.
Krasnyanskaya T.M., Tylets V.G. Resources of individual psychological security with respect to the employment status of a pensioner // Advances in Gerontology. 2018. Vol. 8, № 3. P. 256-261. doi: 10.1134/S2079057018030116
Карабулатова И.С. Современная евразийская языковая личность как новая проблема лингвобезопасности в эпоху глобализации и миграций // Национальные приоритеты России. 2014. № 2. С. 80-84.
Кисляков П.А., Сорокоумова С.Н., Егорова П.А. Психолингвистическая безопасность личности студента и ее обеспечение в процессе обучения в вузе // Язык и культура. 2020. № 49. С. 199-218.
Краснянская Т.М., Тылец В.Г. Психологический анализ социокультурных вызовов лингвистической безопасности личности // Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация : материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ростов н/Д, 2018. № 6. С. 444-450.
Тылец В.Г., Краснянская Т.М. Теоретические аспекты разработки психологической концепции лингвистической безопасности личности // Прикладная психология и психоанализ. 2015. № 3. С. 4.
Костоусов А.Г., Иванов М.С. Психологические факторы сформированности представлений о безопасности у курсантов военного вуза // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 2. С. 141-150.
Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения : в 2 т. М. : Педагогика, 1983. Т. II. 320 с.
Рогозина И.В. Медиа-картина мира: когнитивно-семантический аспект : дис.. д-ра филол. наук. Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2003. 286 с.
Коноваленко И. В. Структура концепта «толерантность» (по данным ассоциативного эксперимента) // Психолшгастика. 2011. № 7. С. 110-114.
Стернин И. А., Рудакова А. В. Психолингвистическое значение и его описание. Теоретические проблемы. LAP Lambert Academic Publishing» Saarbrucken, 2011. 192 c.
Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психолингвистическое исследование концептов «опасность» и «безопасность» в языковом сознании студентов // Вопросы психолингвистики. 2020. № 1 (43). С. 84-97. doi: 10.30982/2077-5911-2020-43-1-84-97
Краснянская Т. М., Тылец В. Г. Психологическая безопасность в системе факторов санаторно-курортного оздоровления // Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры. 2017. № 4. С. 26-30. doi: 10.17116/kurort201794426-30
Тылец В. Г., Краснянская Т. М. Психологическое содержание модели лингвистической безопасности личности преподавателя вуза // Прикладная психология и психоанализ. 2016. № 4. С. 12.
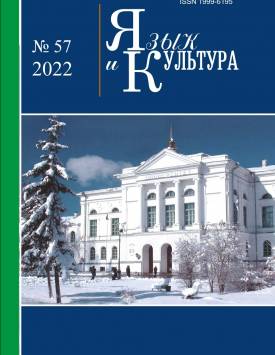

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью