Паралингвистические средства описания поведения лгущего персонажа (на материале немецкоязычной литературы)
Рассматривается невербальный поведенческий код лгущего персонажа, выявляются и характеризуются различные его типы в текстах немецкоязычной художественной литературы XX-XXI вв. Излагаются причины интереса лингвистов к исследованию невербального поведения персонажей художественного произведения в ситуации лжи, актуализируется роль паралингвистических средств, демонстрирующих внутренний мир персонажа и обусловливающих читательское восприятие. Определяются методологические подходы, позволяющие проанализировать взаимодействие лгущего персонажа в аспекте невербальной семиотики. Описывается специфика языковой репрезентации невербального портрета лгущего персонажа. Обосновывается понятие «лгущий персонаж», изучается эволюция лгущего персонажа в немецкоязычной художественной литературе, устанавливаются основные компоненты модели его невербального поведения. Показана корреляция невербального кода с типом лгущего персонажа (эмотивный/адаптивный/регулятивный) в произведении. Верификация лексических номинаций и последующее соотнесение невербальных маркеров с характеристикой типа лгущего персонажа осуществляются на примере 100 диалогических фрагментов. Представлен детальный анализ паралингвистических средств с экспликацией кинесических, просодических и окулесических маркеров. Продемонстрировано, что в художественном дискурсе образ лгущего персонажа является одним из самых распространенных. Декодирование невербального поведенческого кода и портретной характеристики лжеца возможно лишь с учетом факторов исторического и социокультурного континуума. Отмечается, что лгущий персонаж является субъектом эмоционального переживания, невербальное поведение которого в ситуации произнесения лжи манифестируется посредством определенных языковых и сюжетно-композиционных средств авторского повествования. Выбор невербального кода (кинесического, просодического, окулесического) при описании поведения лгущего персонажа обусловлен личным авторским опытом, его мировоззрением и знанием интерпретационной деятельности читателя. Созданная модель невербального поведения лгущего персонажа может найти применение в курсах по литературоведению, дискурсивной прагматике, языковой психологии, лингвистической экспер-тологии и иных междисциплинарных направлений.
Paralinguistic means of describing the behavior of a lying character (based on the material of German-language literatur.pdf Введение Пристальное внимание исследователей в различных областях лингвистики к тексту отмечается со второй половины ХХ в. В современной лингвистике наблюдается достаточно большое количество текстовых классификаций [1-3], где особое место занимает именно художественный текст. При этом одно из главных отличий художественного текста от других текстов заключается в его антропоцентризме, т.е. в познании человека через описание совершаемых им в произведении поступков и действий, испытываемых им чувств и желаний. Отсюда следует, что художественное произведение является богатым источником изучения человека, мотивов его поступков, фундаментом для понимания его психологического состояния в ситуациях эмоционального напряжения. К таким ситуациям психоэмоционального напряжения относится коммуникативная ситуация лжи. Ложь как коммуникативный феномен является неотъемлемой частью действительности человека и присутствует практически в каждом литературном произведении. На тесную связь лжи и литературы указывал еще Платон, по утверждению которого «все поэты лгут». В художественной литературе ложь приобретает особый вес в том случае, когда она является основным занятием главного персонажа. В каждой национальной литературе на определенном этапе ее развития существует свой образ лгущего, для которого характерны типичные черты лжеца. Так, например, образ лгущего героя описывается преимущественно в таких драматических жанрах литератур романской группы, как комедии испанского литературного барокко, французская классика и итальянское Просвещение [4. С. 201]. Тема лжи и лгущего героя в художественном произведении остается долгое время одной из актуальных и в немецкоязычной литературе [5]. Фокусирование исследовательского внимания на теме лжи и особенностях ее реализации в коммуникации происходит сразу на материале разных языков и в нескольких направлениях лингвистики лжи: теории дискурса [6], прагмалингвистике [7], лексикологии и фразеологии [8, 9], юридической психолингвистике [10] и мн. др. В последнее десятилетие наблюдается интерес лингвистов к изучению невербального поведения образов персонажей [11, 12]. Лингвистами отмечается, что использование автором произведения невербальной характеристики поведения героя влияет на адекватное восприятие читателем коммуникативного поведения описываемого персонажа [13. С. 204]. Действительно, наблюдение за невербальной организацией поведения лгущего персонажа в художественном произведении представляет не только ценный практический материал для исследования, но и позволяет описать невербальное поведение лгущего персонажа в виде некоей модели. В связи с вышеизложенным цель настоящей статьи - описание специфики языковой репрезентации невербального поведения лгущего персонажа в немецкоязычном художественном дискурсе. Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 1) обосновать понятие «лгущий персонаж»; 2) изучить эволюцию «лгущего персонажа» в немецкоязычной художественной литературе; 3) установить основные паралингвистические средства и компоненты модели невербального поведения лгущего персонажа; 4) проанализировать языковую репрезентацию лгущего персонажа в немецкоязычной литературе. Методология исследования Исследование невербального поведения коммуниканта через призму художественного мира в современных лингвистических изысканиях является универсальным и позволяет убедительно представить модель поведения лгущего персонажа. Теории, согласно которым язык - это сложная и постоянно развивающаяся система, составили теоретико-методологический фундамент настоящего исследования. Так, в качестве общенаучных предпосылок послужили научные концепции, представленные в работах отечественных и зарубежных ученых по невербальной семиотике [14-16], а также ключевые положения современной теории дискурса [17, 18]. Частнолингвистическую методологическую базу исследования составляют исследования в области лингвистики лжи [19]; работы, посвященные проблемам описания литературного героя, персонажа [20-22]; изыскания по языковой личности [23, 24]. Используемые подходы к исследованию основываются на том, что они позволяют системно представить невербальное поведение лгущего персонажа в художественном тексте. Художественный текст представляет собой некую структурную модель в виде ядра, где внешнюю оболочку образует словесный материал, а во внутренней заключена духовная информация и система образов [25. С. 21]. Подтекст определяется в виде скрытого смысла высказывания, вытекающего из синтеза словесного материала и контекста. Подтексту принадлежит важная роль в создании образа персонажа, его характеристики через описание его поведения в различных ситуациях художественного контекста. Рассмотрение произведений художественной литературы для анализа невербального поведения лгущего персонажа считаем правомерным, так как художественное произведение представляет собой некую форму культурного артефакта, где единство знаков и образов развернуто во времени, являясь своего рода текстом культуры, где проявление смыслов и воссоздание художественного образа происходят за счет аккумуляции опыта автора и культурной ситуации. Рассмотрение текста в субъективистском аспекте позволяет оценивать произведение с позиции соответствует/не соответствует действительности, на раскрытие которой, посредством создания образов персонажа и изображения эмоций, и нацелена познавательнокоммуникативная стратегия автора текста. В этой связи особый интерес вызывает анализ подтекста ложных высказываний в художественном тексте и изучение явления лжи с «субъективистской позиции» [26. С. 80-81], в русле которого исследуется взаимодействие участников коммуникации - «человека лгущего» [27. С. 12] и получателя ложного сообщения. Создание образа лгущего персонажа требует от автора произведения тщательного подбора соответствующих синтаксических конструкций, выражений и слов с такой стилистической окраской, которые бы характеризовали литературный персонаж с необходимой писателю точки зрения. Материалом настоящего исследования являются произведения немецкоязычных писателей, в которых автором посредством паралингвистических средств описывается невербальное поведение лгущего персонажа. Значимость коммуникативного феномена лжи подтверждается тем, что героям произведений приходится часто прибегать ко лжи, которая позволяет решить их существующие проблемы и достигнуть необходимых целей. Отсюда ситуация осуществления ложного сообщения в художественном произведении является не такой редкой. Объективное заключение о невербальном поведении лгущего персонажа в художественном произведении требует систематического и количественного заключения, которое возможно при применении контент-анализа. Зафиксированные в ходе контент-анализа лексические единицы позволяют определить тип лгущего персонажа. Для анализа нами были верифицированы лексические единицы, которые являются маркерами невербального поведения лгущего персонажа. В ходе исследования методом сплошной выборки было отобрано 100 примеров невербального поведения лгущего персонажа из произведений современной немецкоязычной литературы. В качестве основных методов исследования послужили гипоте-тико-дедуктивный, лингвистическое наблюдение, описательный и сопоставительный методы, метод статистического анализа. Для достоверности полученных данных и их интерпретации использовался метод количественного подсчета. Выбор такого комплексного использования методов исследования был обусловлен указанными во введении настоящей статьи целью и задачами. Исследование и результаты Определение понятия «лгущий персонаж» Сложно представить литературное произведение без выражения эмоций, в которых автор помимо действительности отображает и духовную сущность своего героя. Автор произведения является психологом, интерпретирующим образы и поступки персонажей согласно своим духовным ориентирам. Посредством языкового оформления художественного текста складывается авторская триада, которая, согласно мнению Г.В. Степанова, модифицируется в формулу «действительность - образ - текст» [28. С. 20-37]. Само понятие «художественный образ персонажа» не является однозначным. Некоторыми исследователями художественный образ определяется как речевое явление или языковое свойство художественного текста, где выделяются литературный образ персонажа и речевой образ (художественно-выразительные свойства речи) [29. С. 93]. Другие же убеждены, что образ литературного персонажа представляет собой более сложное явление, являясь системой чувственных деталей, воплощающих содержание художественного произведения, благодаря которому создается нечто новое с колоссальным содержанием [30. С. 72]. «Литературный персонаж», «персонаж художественного произведения» или «художественный образ» являются основной единицей художественного текста, выступая мерой конструкции литературного текста, его центром. При этом пристальному вниманию со стороны лингвистов подвергаются вопросы, связанные с изучением художественного текста как единой многоуровневой системы мировоззренческого континуума и культурной компетенции. Основой сюжетодвиже-ния и целостной композиционной структурой художественного произведения выступает образ персонажа, а «эволюция художественного образа персонажа» характеризует сюжетную динамику текста [31. С. 57]. У каждого писателя своя манера создания определенного образа персонажа в произведении, обусловливающая аксиологическую или оценочную функцию текста. Для разработки проблемы образа героя в ложном дискурсе и его прагматического, художественного анализа, введем в научный оборот понятие «лгущий персонаж». Все типологическое многообразие лгущего персонажа сводится авторами к лексикосемантической классификации в зависимости от признаков коммуникативного типажа и системы ценностей, формирующей нравственное поведение персонажа. При этом сам термин «лгущий персонаж» является более емким и включает в себя синтез эмоциональных, умственных, физических и поведенческих характеристик персонажа, выраженных через его речь, поступки, портрет и поведение. В этой связи, при анализе текстовой структуры произведения, необходима корреляция «образа персонажа» с понятием «образ автора». Рассматривая персонаж в роли языковой личности, Ю.Н. Караулов отмечает, что истинной языковой личностью в произведении является автор, а не персонаж. Действительно, именно творец произведения в роли носителя определенного языка, осмысливая собственную жизнь и собственный мир, отражает их в своей речи, характеризуя тем самым речевую манеру персонажа. Языковую личность персонажа литературного произведения следует изучать на основе его дискурса, включающего внешнюю и внутреннюю речь, где основными формами выступают «поток сознания» и внутренний диалог [32. С. 230-238]. Внутритекстовая языковая личность «художественно» изображается автором в органическом соединении с духовным ядром произведения. Внешняя речь по степени качества, восприятия и ее понимания другими обусловлена ситуативностью, необработанностью или своей продуманностью. Внутренняя же речь беззвучна, скрыта, приспособлена к осуществлению мыслительных операций, проявляясь посредством невербальных средств. Органическое соединение внешней и внутренней формы позволяет литературному тексту стать носителем авторской, художественной информации, покоящейся в подтексте произведения. Учитывая вышеизложенное, под «лгущим персонажем» нами понимается субъект эмоционального переживания, обладающий самостоятельной жизнью и содержанием, чей невербальный портрет в ситуации манифестации ложного высказывания воплощается посредством определенных языковых и сюжетно-композиционных средств авторского повествования. В мировой художественной литературе существует немало типов лгущего персонажа (например, шельма Тиль Уленшпигель в немецкой литературе; Остап Бендер в облике плута в русской литературе; архетип лжеца, авантюриста в русской литературе проявляется в образе графа Калиостро; типаж лицемера в английской литературе выявляется в образе Генриха IV; образ el picaro в испанской литературе). Тот или иной образ лгущего персонажа складывается на основе совокупности сюжетно-композиционных средств, речевых и поведенческих характеристик персонажа. Другим важным фактором, влияющим на тип и облик лгущего персонажа, является исторический и социокультурный период. Так, в художественных произведениях выделяются следующие типажи персонажей: 1) притворщик, симулянт - человек, ложно принимающий какой-либо вид для неискреннего поведения, с целью ввести в заблуждение (например, Тартюф в пьесе Мольера); 2) льстец, лицемер - человек, демонстрирующий угодническое поведение для завоевания благосклонности (например, Чичиков в поэме Гоголя «Мёртвые души»; Молчалин в комедии Грибоедова «Горе от ума»); 3) хвастун - человек, который отзывается о себе или о чем-либо с излишней похвальбой (например, Пер Гюнт в одноименной пьесе норвежского драматурга Генриха Ибсена); 4) плут - человек, искусно скрывающий свои намерения, ловкий обманщик, хитрец (например, Хлестаков в комедии Гоголя «Ревизор»); 5) враль, обманщик - тот, кто постоянно врет, выдумывает вздор, нелепости, пустослов, болтун (например, барон Мюнхгаузен в немецких рассказах Г.А. Бюргера). В свою очередь, целостный, убедительный образ литературного героя создается совокупностью национально-культурных черт, детерминированных лингвокультурным сообществом. Обратимся к существующим образам лгущего персонажа в немецкоязычной художественной литературе. Эволюция лгущего персонажа в немецкоязычной литературе Еще великий французский писатель и философ М. де Монтень заметил, что у лжи сотни тысяч обличий (1580). Данное утверждение находит свое подтверждение, прежде всего, в художественных произведениях каждой национальной литературы. Образ лгущего персонажа во многом обусловлен ментальной картинкой времени, в которой разворачивается сюжет, а также национальной культурой со стереотипным представлением о лжеце. Для обстоятельной трактовки понятия лгущего персонажа в художественной литературе считаем необходимым обратиться к существующим образам лгущего персонажа в немецкоязычной художественной литературе. Таких образов лгущего персонажа довольно много, тем более что и современные немецкие лингвисты часто обращаются к изучению коммуникативного феномена лжи в художественном тексте для понимания ее причин и структуры лжи, условий ее функционирования в речевом общении [33]. Истоки лгущего персонажа в немецкоязычной художественной литературе следует искать еще в эпохе немецкого гуманизма, который характеризуется возникновением баллад, песен, поучительных историй. Одним из ярких примеров подобного эпоса является стихотворный рыцарский роман Г. Страсбургского Tristan und Isolde (1205-1210). В данном эпосе о любви противопоставляются фатальные чувства влюбленных и великая история обмана, заслужившая общественное порицание. Причины и поведение лгущего героя на этом этапе романтизируются в произведениях. Исследование истоков представления лжи в немецкоязычной литературе отсылает также к произведениям немецкого гуманизма, где появляются жанры сатирических произведений - пародий, поучительных проз, комедий, небылиц. В XIV-XV вв. немецкими поэтами и писателями было создано большое количество легенд и баллад, среди которых особое место занимают немецкие песни и истории о лжи [34. S. 36]. Лгущий персонаж становится центральной фигурой в небылицах, традиции написания которых в немецкоязычной литературе достаточно богаты (см., например, H. Sachs. Spruch oder Schwank vom Lugenberg (1533) и мн. др.). Труды немецких гуманистов (см. об этом S. Brandt, H. Sachs и др.) оказали огромное влияние не только на развитие исторических событий в Германии в XVI в., но и на формирование национальных традиций в написании небылиц. Вымысел, передающийся в виде рассказа, устным путем, широко представлен в немецкоязычных небылицах (см., например, J.W. Wagner. Neue zeitung auss der ganzen welt (1605); J. Bidermann. Jagdluge (1622); H. Julius. Vom Wirth und den drei Wandersgesellen (1708); B. Waldis. Vom lugenhafften Jungling (1788)) [35. S. 16]. На границе Средневековья и эпохи Ренессанса в противовес рыцарскому эпосу возникли произведения, где сложилось изображение лгущего персонажа в роли «плута», «обманщика» и «хитреца». Лгущий тип литературного героя представлен в пикарескных или плутовских романах (нем. Schelmenroman), где изображаются похождения героя-плута (см., например, Till Eulenspiegel (1510-1511); H.J.Ch. von Grim-melshausen. Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch (1668-1669); Ch. Reuter. Schelmuffsky (1696)). Своеобразный жанр смеховой культуры представлен в немецкой литературе в виде шванка, шутливого рассказа, шутовской народной комедии с поучительны смыслом. С присущим национальным колоритом в шванках обыгрывается гиперболизированный образ плута, который ввиду иных внутренних норм, воспринимает мир по-своему и поступает, соответственно, неискренне. Характерной чертой представленного жанра является одновременное выполнение развлекательной и дидактической задач. Другим ярким примером лгущего персонажа является герой произведения Р. Э. Распе - немецкий барон Мюнхгаузен (R.E. Raspe. Munchhausen (1533)). В данном произведении ложь носит развлекательный характер, а барон изображен в роли очаровательного лжеца и бездельника. Ироничное, плутовское поведение получило нарицательную семантику - «врать как барон Мюнхгаузен», а именем фантазера стали именовать зазнаек, крайне преувеличивающих свои достоинства. Так, появилось широко употребляемое сравнение «врать как барон Мюнхгаузен» для тех, кто непрестанно лжет и приписывает себе подвиги и качества, которых на самом деле не было и нет. В связи со значительной переработкой данного произведения немецким поэтом Г. Бюргером появилось, по сути, не только новое произведение в немецкой литературе, но и новая форма небылиц - «мюнхгаузиада» (Munchhausiade), в которой повествуется о военных событиях, приключениях на охоте и во время путешествий. Жанрообразующим признаком плутовского поведения является установка на безвредность лжи. В немецких сказках и небылицах (Lugendichtungen) лгущий персонаж представлен в роли «плута» в абсурдной действительности, где опасность, подстерегающая героя, комически преувеличена. Лживость героя как характеризующая его психологическая особенность проявляется не только в том, чтобы сформировать у получателя неверное впечатление о событиях, но и количестве примеров патологических лжецов, которых в художественной литературе достаточно много. Например, Г. Сакс приводит следующие типы лжецов: Ehrenlugner, Schmeichel-Lugner, Trug-Lugner, Hader-Lugner, Doppelt-Lugner, Mahr-Lugner, Alt-Lugner, Ruhm-Lugner. Все эти виды лжи основаны на пороках человека [36. S. 27]. Популярным литературным жанром в немецкой литературе, где представлен безобидный лгущий персонаж, становится небылица. В немецком литературоведении различают несколько подвидов небылиц: Lugengeschichte (неправдоподобные истории), Lugenroman (небылица-роман) (например, Abenteuer Sindbads der Seefahrers), Wunschlu-generzahlung (небылица-рассказ) (например, Schlaraffenland), Lugen-marchen (небылица-сказка) (например, Schneekind) и др. [37. S. 285]. При этом небылица трактуется как рассказ о фантастических, совершенно невозможных, иногда невероятно преувеличенных событиях или событиях, не соответствующих действительности [38. S. 487]. При этом компоненты невербального поведения лгущего персонажа преимущественно остаются за рамками внимания автора. В XIX в. ложь становится одной из частых тем в период Мартовской революции 1848 г. В этой связи приведем также уже практически забытые произведения Р. Бенедикса Die Lugnerin (1848); Das Lugen (1852). Не теряет свою актуальность и комедия Ф. Грильпарцера Weh den, der lugt! (1828-1851), которая причисляется к лучшим произведениям литературы о лжи в Германии [34. S. 37]. К концу XIX в. становится очевидным, что плутовской роман постепенно трансформируется в воспитательный, приобретая жанровые черты. Более глубокое проникновение во внутренний мир и причины поведения лгущего персонажа представлены в произведениях немецких писателей конца XIX - середины XX в. (см., например, H. Heine. Aus den Memorien des Herrn v. Schnabelewopski (1834); G. Keller. Kleider machen Leute (1874); T. Mann. Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull (1954); G. Grass. Die Blechtrommel (1959); I. Morgner. Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz (1974) и мн. др.). В этой связи следует также упомянуть утверждение немецкого лингвиста Б. Кюммерлинг-Майбауер, согласно которому послевоенные годы XX в. ознаменовались появлением особого литературного жанра, «поддельных автобиографий и мемуаров» [39. S. 552-564], где лжецы рождали массу вымышленных и потому особо циничных воспоминаний. Ярким примером подобного произведения выступает автобиография Б. Вилькомир-ского и его лживые детские воспоминания о Холокосте «Осколки: Воспоминания о военном детстве». В современной немецкоязычной литературе немало примеров плутовского романа, где описываются похождения плута (например, Ch. Simon. Planet Obrist (2005); I. Schulze. Peter Holtz. Sein gluckliches Leben von ihm selbst erzahlt (2017)). Очевидно, что тема лжи и образ лгущего персонажа имеют не только национальные традиции в немецкой литературе, но и определенные этапы развития. Анализ немецкоязычной художественной литературы показал, что степень конкретности описания поведения и внутреннего мира лгущего персонажа в каждом отдельном произведении разная и зависит от многих причин. Очевидно, что и поведение лгущего персонажа будет во многом зависеть от жанра произведения. Ложь стала настолько неотъемлемой частью повседневной жизни людей, что ее присутствие обозначено авторами в произведениях различными функциями: регулирующей, манипулятивной, эмоциональной, поэтической и др. Художественная литература, являясь некой имитацией реального речевого общения, может представлять объективный эмпирический материал для исследования поведения лгущего персонажа. Модель невербального поведения лгущего персонажа Другим значимым фактором для верификации невербального компонента лгущего персонажа в литературном произведении является описание самого факта лжи. Именно в художественном произведении лгущий персонаж предстает во всевозможных ситуациях, включая его внутренний диалог, а также продуманные действия и импульсивные поступки. Образ лгущего персонажа в художественном произведении -женщины или мужчины - зависит от социальных, психологических и политических особенностей описываемого общества, в котором живет и творит писатель и которое он описывает в произведении. В настоящем исследовании образ лгущего персонажа рассматривается комплексно. При этом особое внимание уделяется невербальному поведенческому коду лжеца (кинесика, просодика, окулесика). Несомненно, посредством невербальной составляющей текста автор совокупно заостряет внимание читателя на внешней сфере лгущего персонажа, которая отражает и его внутренние потребности, мотивы и миропонимание, придавая образу персонажа целостность, законченность и создавая эффект реалистичности бытия. В связи с этим модель невербального поведения верифицированных типов лгущего персонажа может быть построена по следующей структуре: 1) агент поступка (лгущий персонаж); 2) объект поступка (на кого направлена ложь); 3) невербальный код поступка (кинесика, просодика, окулесика); 4) мотив поступка (причины осуществления ложного высказывания); 5) авторская оценка поступка. Представленная модель позволила проанализировать невербальные поведенческие паттерны лгущего персонажа в немецкоязычных художественных произведениях и разработать следующую классификацию лгущего персонажа в зависимости от модели невербального поведения лгущего персонажа: 1) эмотивный тип; 2) адаптивный тип; 3) регулятивный тип. Рассмотрим их более подробно. В проанализированном пласте художественных текстов эмотив-ный тип лгущего персонажа эксплицируется в основном в действиях героя-хвастуна. Мотивом для исследуемого персонажа выступает чрезмерное побуждение к преувеличению собственных заслуг, достижений или качеств для сознательного введения адресата в заблуждение. Стоит заметить, что хвастун и в случае искреннего дискурса, и в момент высказывания ложной информации руководствуется симметричной интенциональной доминантой - желанием привлечь внимание и вызвать зависть. Внутренняя установка на собственные уникальные способности или достижения кроется в психологической неполноценности персонажа и стремлении ощутить реакцию восторга адресата. Нередко такая форма поведения используется автором для выражения аффективного воздействия, когда лгущий персонаж через намеренное хвастовство провоцирует у слушателя негативные эмоции в форме зависти и раздражения. Интенция хвастуна продиктована стремлением через искажение информации вызвать моральный дискомфорт у получателя, провоцируя в последующем резкую критику у последнего. Языковыми средствами для расшифровки эксплицитного невербального поведения хвастуна выступают следующие лексические номинации невербального кода, демонстрирующие степень экспрессивных, интонационных модификаций и мимические проявления: Klang der Stimme - gehoben, Lachen, Lacheln, Augen: selbstsicherer Laut; mit grofitonender Rede; mit hoher Stimme sprechen; ein sattes Lachen; arrogan-tes Lacheln; Revolverschnauze; grofie Augen machen; mit Augen aufblitzen; gemachtes Lacheln; mit pfiffigem Lacheln; ein schalkhaftes Lacheln gleitet uber die Lippen. Коммуникативное поведение хвастуна автор произведения репрезентирует через следующие языковые соответствия: renommieren, sich dicktun, grofitun, grofie Tone reden, den grofien Herrn spielen. При характеристике эмотивного типа лгущего персонажа, как правило, хвастуна, автором используются прилагательные-квалификаторы, манифестирующие эгоцентризм типажа: schamlos, happig, frech, unehrlich, unverfro-ren. В отношении самого лжеца-хвастуна автор использует лексические единицы, репрезентирующие степень возвеличивания лгущего персонажа: Mochtegern, Maulheld, Prahlhans. Рассмотрим на примере диалога между коллегами: «“Mein Chef braucht mich! Ich bin doch Besserwisser!”, log er prahlerisch, gab ihr zum Abschied einen fluchtigen Kuss auf die Wange und setzte fort mit einem arroganten Lacheln “Danke noch mal fur alles. Wenn ich was fur dich tun kann, ich bin immer fur dich da”» [40. S. 112]. В представленном примере презентация эмотивного типа лгущего персонажа осуществляется за счет мимического маркера mit einem arroganten Lacheln и демонстративного жеста gab ihr zum Abschied einen fluchtigen Kuss auf die Wange. Улыбка является одним из самых выразительных средств изобличения лжи и маркером, синтезирующим в себе информацию об эмоциональном состоянии коммуниканта и его намерениях. Экспликация эмотивного типа лгущего персонажа подтверждается автором также посредством вербальной реплики Ich bin doch Bes-serwisser! При характеристике лгущего персонажа в качестве субъекта коммуникации и агента обманного поступка необходимо отметить его близость к адаптивному типу. Для данного типа лгущего персонажа характерно приспособленческое поведение. Комплексный анализ коммуникативных и невербальных поведенческих характеристик позволяет отнести адаптивный тип лгущего персонажа к герою-притворщику и герою-льстецу. Мотивационный признак, определяющий соотнесение героя-притворщика к лгущему персонажу, эксплицирован в осознанном авторском выборе обманного поведения, характеризующегося двойственностью. Скрывая информацию, притворщик своим состоянием либо действием влияет в итоге на истинность транслируемой адресату информации. Интенция к обманному поведению ситуативна и направлена «на случай», осознанное извлечение выгоды или удовлетворения потребностей. Презентация героем-притворщиком двойственного поведения внешне демонстрирует его стремление к следованию принципам кооперативной коммуникации. Дешифровка адресатом истинных намерений притворщика приводит к нарушению максимы доверительных отношений. Исследование ролевой характеристики данного типажа приводит к обнаружению тесной корреляции притворного поведения лгущего персонажа с такими понятиями, как «роль», «игра», «маска», формирующих внешний портрет типажа и отсылающих к сфере театральности. Ложное поведение анализируемого типа лгущего персонажа в немецкоязычных художественных произведениях нашло отражение в следующих соответствиях, выраженных глагольными номинациями: heucheln, simulieren, erkunsteln, sich stellen, sich aufspielen, frommeln. При формировании альтернативного представления притворщик довольно искусно скрывает свое состояние, имитируя необходимое для конкретной ситуации поведение. Он управляет выражением лица и способен успешно контролировать свое невербальное поведение при фальсификации своего поведения. Стремление автора указать на неискренность притворщика и зафиксировать внимание читателя на разоблачительную характеристику поведения лгущего персонажа подкрепляется использованием следующих лексических номинаций невербального кода: Klang der Stimmem - tief, eben, Mimik: mit dem gekunstelten Laut; tonlos aussprechen; ruhig sagen; unnaturliche Mimik; unechte Trauer; aufgesteifte Heiterkeit. Следует отметить, что авторы в большинстве своем транслируют негативное отношение к коммуникативному типажу «притворщик», используя следующие дескриптивные номинации: Fuff-ziger, Hypokrit, Intrigant, Feind. Рассмотрим адаптивный тип лгущего персонажа на примере героя-льстеца. С. Деннингхаус отождествляет притворщика с льстецом, указывая на определенное их сходство по признакам неискренности [41. С. 214]. Льстец демонстрирует лукавую речь и угодническое поведения для завоевания благосклонности. Мотивирующей основой, служащей для соотнесения льстеца к лгущему персонажу, выступает осознанное побуждение к неискренней деятельности, лицемерное восхваление и преувеличение достоинств собеседника. Льстецом всегда движет корысть, стремление втереться в доверие или добиться чьего-либо расположения для получения выгодного статуса. Литературный герой-льстец в процессе взаимодействия использует метафорическую коммуникативную структуру «верх-низ», где с позицией «верх» соотносится возвеличиваемый, некто значимый, а с позицией «низ» - сам льстец, раболепствующий и выслуживающийся в расчете на приобретение определенной выгоды. Автор аксиологически маркирует поведение льстеца, используя глагольные номинации: English lispeln, Honig um den Mund schmieren, kriechen, duckmausern. Эффективная коммуникация обусловливается легковерностью адресата, его способностью дифференцировать искренность/неискренность. Несмотря на имплицитную природу лести, успешному декодированию ложных высказываний способствует авторское описание невербального поведения лгущего персонажа. Наиболее представительными являются лексические номинации невербального кода Blick, Klang der Stimme - tief, eben: mit leiser, schmeichlerischer Stimme; entschuldigend klingen (Stimme); einen katzen-freundlichen Blick werfen; verschlagener Blick; Schalksaugen; mit den bubi-schen Augen; listigen Blick werfen. Выявление лжи возможно по контексту невербального поведения и паралингвистическим маркерам. Поведение льстеца характеризуется автором произведения двояко. С одной стороны, льстец выражает доброжелательное отношение, призванное вызвать у собеседника ответные положительные чувства. Это объясняется самой природой лести, в которой транслируется положительная оценка и по отношению к адресату используется стратегия «эмоционального поглаживания» [27. С. 172]. Все это в некоторой степени нивелирует негативную характеристику лгущего персонажа. С другой стороны, автор порицает корыстные цели льстеца, указывает на его манипулирующую роль, усиливая негативную характеристику своего персонажа посредством квалификаторов типа niedrig, heimtuckisch, las-terlich, kriecherischer, schmeichlerisch. Творец произведения находит лишь единственное оправдание для своего лгущего персонажа, руководствуясь принципом «льстец - свита, которая делает короля». Это подтверждается следующим примером: «Ihre Stimme klang entschuldigend und ein bisschen atemlos. “...Ach, ich kann Ihnen nicht sagen, weshalb, aber es ist so”, fuhr sie fort. und ich hatte eine jahe Intuition, dass sie in diesem Punkt log. Ihre Stimme klang schmeichlerisch» [42. S. 42]. Данный пример демонстрирует разговор между художником и героиней, выражающей свое неискреннее восхищение работами мастера. В приведенной диалогической ситуации голосовой невербальный рисунок, репрезентирующий ложное, льстивое поведение, подкрепляется автором просодическим маркером: Stimme klang entschuldigend und ein bisschen atemlos. Льстивое поведение героини поддерживается авторской ремаркой: Ihre Stimme klang schmeichlerisch. Героиня уклоняется от правды, демонстрируя свою интенцию голосовыми модуляциями. В когнитивно-прагматическом плане возможно рассмотрение и регулятивного типа лгущего персонажа в роли героя-плута, обманщика, искусно контролирующего свое поведение и эмоциональное состояние. Мотивационной доминантой для героя-плута выступает стремление совершить нечестный поступок, скрыв свои истинные намерения. В основе деяний лжеца лежит намерение замаскировать свои «безобидные» поступки для получения выгоды за счет другого человека. Для достижения своих целей анализируемый тип лгущего персонажа, как правило, проектирует весь сценарий и продумывает роли участников. Коммуникация героя-плута носит манипулятивный характер, что поддерживается его внешним, благожелательным обликом и ролью изобретательного, порядочного человека. Внешние характеристики соотносятся авторами в немецких текстах со следующими положительными качествами: klug, findig, talentiert, furchtlos, begabt, glatt. Регулятивный тип героя-плута выявляется через оценку образноперцептивных признаков и особенности невербального поведения. Верификация лгущего персонажа возможна с большей частотностью по соответствующим кинесическим маркерам: Geste, Korperbewegungen: mit heftigen Achselzucken unterstreichen; sich das Kinn reiben; den Kopf zurucklehnen; mit dem Kopf nicken; Arme verschrankt halten; die Schultern heben. Приведем пример: «“Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich ge-hen. Ich bin mit meinem Mann verabredet”, log sie mit einem Blick auf ihre Uhr, um die Luge glaubhaft zu machen» [43. S. 104]. Данный пример демонстрирует разговор между двумя женщинами. В этом диалогическом фрагменте экспликация регулятивного типа лгущего персонажа осуществляется посредством кинесического маркера log sie mit einem Blick auf ihre Uhr, um die Luge glaubhaft zu machen. Весьма очевидно, что героиня репрезентирует ситуацию ложного общения, уклоняясь от разговора. Для создания атмосферы «видимой» реальности героиня прибегает к жесту, свидетельствующему об осознанном контролировании своих действий и внутренних переживаний. Представленные параметры способствуют комплексному изображению словесно-речевого и невербального облика лгущего персонажа в текстовом пространстве. Каждый акцентированный параметр вступает в игру поочередно, в определенном порядке, создавая некое неразрывное единство запланированной автором сюжетной линии и ответного эффекта эмоционального воздействия на читателя. Анализ невербального поведения лгущего персонажа в немецкоязычной литературе Рассмотрим предложенную выше модель лгущего персонажа и репрезентацию невербального кода типа лгущего персонажа в немецкоязычной художественной литературе ХХ в. Проведенное исследование носит пилотный характер для подтверждения или опровержения предлагаемой теории. Для этого нами было отобрано 100 диалогических фрагментов реализации невербального кода при описании лгущего персонажа из немецкоязычной художественной литературы ХХ-XXI вв. (Becker J. Jakob der Lugner (1969), Degenhardt F. Fur ewig und drei Tage (1999), Hart M. Sommermond (2011), Horster H. Ein Herz spielt falsch (1991), Jentzsch K. Seit die Gotter ratlos sind (1994), Moser M. Die Putzfraueninsel (1995), Kattner K. Die Besucherin (2011), Weber L. Die neue Welt (2008), Schmitz I. Mordsdeal (2009), Schulze J. Liebe kennt kein Alter (2013), Zweig S. Ungeduld des Herzens (1958)). Примеры отбирались методом сплошной выборки. Отбор примеров, репрезентирующих ложное высказывание персонажей, осуществлялся нами путем подбора конкретных словоформ глагола lugen, например sie hat gelogen, er hat gelogen, log, lugen и др., а также посредством выявления паралингвистических средств с дальнейшим декодированием невербального кода и последующего верифицирования типа лгущего персонажа с учетом заложенной автором контекстуальной канвы. Полученные данные, представленные в таблице, позволили не только зафиксировать маркеры невербального кода поведения лгущего персонажа в произведении, но и также соотнести их с описываемыми типами лгущего персонажа (эмотивным/адаптивным/регулятивным) в произведении. Соотнесение невербального кода с типом лгущего персонажа позволяет также заключить о его характерных психологических и культурных особенностях. Реализация невербального кода лгущего персонажа в немецкоязычной художественной литературе, % Маркеры Эмотивный тип (хвастун) Адаптивный тип (притворщик, льстец) Регулятивный тип (плут, обманщик) Кинесические 13 25 62 Просодические 54 45 24 Окулесические 33 30 14 Результаты таблицы позволяют заключить, что в невербальном поведении эмотивного типа лгущего персонажа типично использование просодичес
Ключевые слова
лгущий персонаж,
эволюция лгущего персонажа,
невербальное поведение персонажа,
паралингвистические средства,
кинесические маркеры,
просодические маркеры,
окулесические маркерыАвторы
| Ленец Анна Викторовна | Южный федеральный университет | доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой немецкой филологии, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации | annalenets@mail.ru |
| Хатламаджиян Маргарита Аршалуйсовна | Ростовский государственный экономический университет | старший преподаватель, кафедра иностранных языков для экономических специальностей | margarita22@yandex.ru |
Всего: 2
Ссылки
Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М. : МГУ, 1988. 121 с.
Валгина Н. С. Теория текста. М. : Логос, 2003. 278 с.
Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. 2-е изд. М. : Едиториал УРСС, 2004. 144 с.
Nitsch W. Bodenlose Eloquenz Lugnerfiguren in der Komodie // Komodie / V. Klotz, A. Mahler, R. Muller, W. Nitsch, H. Plocher. 2013. S. 298-311. URL: https://opus.bibli-othek.uni-wuerzburg.de/opus4-wuerzburg/frontdoor/deliver/index/docId/15214/file/Nitsch_Luegnerfigur_Komoedie.pdf
Herzmann H. Vom Theater als moralischer Anstalt zum Dichter als Gewissen der Nation oder: Von Friedrich Schiller zu Elfriede Jelineks historischem Drama Burgtheater // Pan-daemonium germanicum. 2005. № 9. S. 115-154. URL: https://doi.org/10.11606/1982-8837.pg.2005.73702.
Плотникова Н. С. Неискренний дискурс (в когнитивном и структурнофункциональном аспектах). Иркутск : Изд-во Иркут. гос. лингв. ун-та, 2000. 244 с.
Ленец А. В. Основы теории лжи в прагмалингвистике // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008. № 4. С. 52-55.
Панченко Н. Н. Средства объективации концепта «обман» (на материале русского и английского языков) : автореф. дис.. канд. филол. наук. Волгоград, 1999. 24 с.
Гриценко А. В. Фразеология лжи // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 2008. № 3-2. С. 102-108.
Киреева Д. М. Юридическая психолингвистика: ложь в речи // Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Вологда : Маркер, 2016. С. 141-143.
Молчанова Г. Г. Когнитивная невербалика как поликодовое средство межкультурной коммуникации: кинесика // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 2. С. 13-30.
Музычук Т. Л. Невербальная составляющая дискурса персонажа в модели и языковой репрезентации : дис. д-ра филол. наук. М., 2013. 382 с.
Булаева Н. Е., Бурова Е. А. О невербальных способах характеристики образов персонажей (на материале готической научной фантастики) // Российский гуманитарный журнал. 2017. Т. 6, № 2. С. 203-210. DOI: 10.15643/libartrus-2017.2.10
Крейдлин Г. Е. Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. М. : Новое литературное обозрение, 2004. 581 с.
Лабунская В. А. Не язык тела, а язык души! Психология невербального выражения личности. Ростов н/Д : Феникс, 2009. 344 с.
Экман П. Психология лжи. СПб. : Питер, 1999. 272 с.
Вашунина И. В. Взаимодействие визуальных и вербальных составляющих при восприятии креолизованного текста. Н. Новгород : Изд-во НГПУ, 2007. 421 с.
Голованова И. А. Репрезентация невербального поведения в русских и немецких художественных текстах: сопоставительный аспект : дис. канд. филол. наук. Новосибирск, 2009. 206 с.
Weinrich H. Linguistik der Luge / Harald Weinrich. Heidelberg : Verlag Lambert Schneider, 1966. 74 S.
Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М. : Художественная литература, 1979. 445 с.
Гинзбург Л. Я. О психологической прозе. Л. : Художественная литература, 1976. 448 с.
Лотман Ю.М. Избранные статьи // Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. 1. C. 203216.
Кузневич З. А. Языковая личность в литературно-художественном дискурсе Эрнеста Хемингуэя : дис. канд. филол. наук. Иркутск, 1999. 154 с.
Клокова А. Г. Дискурсивный портрет персонажа как совокупность взаимосвязанных характеристик его личности // Вестник Гродненского государственного университета им. Я. Купалы. Серия 3. Филология. Педагогика. Психология. 2020. Т. 1, № 10. С. 86-91.
Борисова Е. Б. О содержании понятий ‘художественный образ' и ‘образность' в литературоведении и лингвистике // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 35 (173). С. 20-26.
Ким Л. Г. Дискурс лжи в аспекте интерпретационной деятельности адресата // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2012. Вып. 63. С. 80-84.
Шаховский В. И. Человек лгущий в реальной и художественной коммуникации // Человек в коммуникации: аспекты исследования. Волгоград : Перемена, 2005. С. 173-204.
Степанов Г. В. К проблеме единства выражения и убеждения (автор и адресат) // Контекст 1983. Литературно-теоретическое исследование. 1984. С. 20-37.
Волков И. Ф. Теория литературы. М. : Просвещение: Владос, 2001. 256 с.
Выготский Л. С. Психология развития ребенка. М. : Смысл: Эксмо, 2004. 512 с.
Гончарова Е. А., Шишкина И.П. Интерпретация текста. Немецкий язык. М. : Высш. шк., 2005. 202 с.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. 7-е изд. М. : ЛКИ, 2010. 264 с.
Kern S. Die Kunst der Tauschung. Hochstapler, Lugner, Betruger im deutschsprachigen Roman seit 1945 am Beispiel der Romane.,Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“,.,Mein Name sei Gantenbein“,.,Jacob der Lugner“. Doktorarbeit. Hannover, 2004. URL: https://d-nb.info/972563768/34
Petzi E. Eduard Morikes Kunst der schonen Tauschung. Frankfurt/Main ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien : Peter Lang, 2004. 315 S.
Muller-Fraureuth C. Die deutschen Lugendichtungen bis auf Munchhausen / Carl Muller-Fraureuth. Reprographischer Nachdruck der Ausgabe 1881. Tubingen : Olms Hildesheim, 1965. 142 S.
Ленец А. В. Коммуникативный феномен лжи: лингвистический и семиотический аспекты (на материале немецкого языка) : дис.. д-ра филол. наук. Ростов н/Д, 2010. 392 с.
Metzler Literatur Lexikon : Begriffe u. Definitionen / hrsg. Von Gunther u. Irmgard Schweikle. 2. Aufl. Stuttgart : Metzler, 1990. 525 S.
Wilpert G. Sachworterbuch der Literatur / Gero von Wilpert. Aufl. Stuttgart : Kroner, 2001. 1054 S.
Kummerling-Meibauer B. Lying and the Arts // The Oxford Handbook of Lying / ed. by Jorg Meibauer. Oxford University Press, 2019. 688 p.
Schmitz I. Mordsdeal. Munchen : Gmeiner-Verlag, 2009. S. 146.
Деннингхаус С. Под флагом искренности: лицемерие и лесть как специфические явления речевого жанра «притворство» // Жанры речи. Саратов, 1999. Вып. 2. С. 203-216.
Weber L. Die neue Welt. Berlin : Heyne-Verlag, 2008. S. 167.
Kattner K. Die Besucherin. Koln : Verlag der Goethe-Werkstatt, 2011. S. 144.
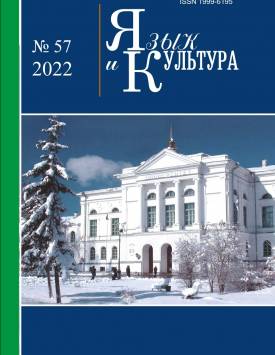

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью