Рассмотрены понятие «носителя языка», сложность его определения, а также его идеологические основания. Целью работы является реконструкция основных положений лингвистического нативизма и критический пересмотр важнейших идеологических предпосылок понятия «носитель языка» на основе антифундаменталистского подхода к языку как эмерджентному свойству социального взаимодействия, а не как статичной системе, привязанной к этничности. Опираясь на теорию семиотических механизмов формирования языковой идеологии Ирвайн, Гал, Шейфелин, Сильверштейна, Вулард, выделяются три основополагающих языковых идеологии понятия «носитель языка». Первая идеологическая характеристика касается неразрывной связи этого понятия с идеей национального государства. При этом членство в национальном государстве и лингвистическом сообществе конструируется идеологическим процессом иконизации. Анализируется роль языка в национальных государствах, а также влияние теории национального государства на генеалогию понятия «носитель языка». Показано, как новые формы государства, складывающиеся в начале XXI в., оказывают воздействие на рассматриваемое понятие. Вторая идеологическая характеристика касается представления об однородности речевого сообщества, которое за счет процесса стандартизации проводит четкое различие между носителем и неносителем языка. Данная идеология возникает за счет механизма стирания различий, превращая в невидимок целые группы людей, не соответствующих идеологическим схемам. Критически рассматривается иерархическое оформление таких дихотомий, как «родной/неродной», «стандартный/нестандартный», «правильный/неправильный» язык в связи с процессом стандартизации, отдающим предпочтение одной форме языка перед другими, ограничивая доступ к ней большому количеству людей. Третья идеология автоматически наделяет «носителя языка» наиболее высоким и полным уровнем компетенции во всех сферах его родного языка. Эта идеологическая предпосылка реализуется за счет механизма фрактальной рекурсивности, которая проецирует оппозицию, значимую на одном уровне отношений, на другой. Критикуется понятие «носитель языка» в рамках трансформационной генеративной грамматики на основании постулированию ею превосходства психологического знания о языке над социальной практикой. Обсуждается взаимосвязь понятия «носитель языка» с такими понятиями, как «первый язык», «материнский язык», «родной язык», «стандартный язык». В результате проведенного анализа можно смело утверждать, что понятие «носитель родного языка» в значительной степени остается неопределенным. Систематический анализ понятия «носитель языка» с точки зрения его идеологических оснований показывает, что определение «носителей» может быть дано исключительно с помощью экстралингвистических средств, поэтому на полном основании можно считать данную категорию социальным конструктом. Утверждается, что существует насущная потребность в альтернативных критериях категоризации людей относительно их языковой деятельности. Эта потребность основана на современном понимании гетерогенности и ситуативности языковых практик, которые уже не поддаются традиционной каталогизации. Классификация людей в терминах «носителей/неносителей» языков приводит к значительному искажению реалий современного мира.
A critique of the ideology of linguistic nativism.pdf Введение Речь в этой статье пойдет об одном из самых сложных и противоречивых понятий современной лингвистики - «носитель родного языка». С одной стороны, такой субъект - отправная точка и цель лингвистического анализа. «Прежде всего, наиболее полное описание языка должно преследовать следующую цель: дать точную экспликацию способности носителя языка создавать на нем высказывания» [1. Р. 64], -отмечает один из крупнейших фонологов ХХ в. Моррис Халле. «Цель теории конкретного языка должна состоять в выявлении способностей и навыков, вовлеченных в языковое высказывание бегло говорящего носителя языка» [2. Р. 218], - полагают разработчики семантики американские философы и лингвисты Х.-Д. Кац и Дж. А. Фодор. А согласно Н. Хомскому, «грамматика является дескриптивно адекватной лишь в том случае, если правильно описывает внутреннюю компетенцию идеализированного носителя языка» [3. Р. 24]. Таким образом, интересующий нас субъект - это человек (реальный или идеальный), в совершенстве владеющий языком и способный выступать арбитром в вопросах фонетики, грамматики и т. д. Все эти высказывания говорят о необыкновенной важности данного понятия для лингвистической методологии в деле прояснения вопроса о природе языка как такового. Кроме того, в сфере политики образования носитель языка выступает моделью, нормой и целью в преподавании «второго», «иностранного» или «родного» языков. С другой стороны, в последние годы наметился резкий поворот в сторону критики этого понятия, ставшего предметом многочисленных дискуссий. Одним из первых был Чарльз Фергюссон: «Лингвисты... уже давно отводят особое место носителю языка как единственному истинному и надежному источнику языковых данных» [4. Р. 7]. И далее: «Большая часть вербального общения в мире осуществляется при помощи языков, которые не являются родными языками пользователей, а их вторыми, третьими или пятыми языками, приобретенными различным образом и употребляемыми по мере необходимости. Эта разновидность применения языка заслуживает внимания лингвистов не меньше, чем их более традиционные объекты исследований» [4. Р. 7]. Уже в приведенном высказывании Хомского мы обнаруживаем одну из центральных двусмысленностей идеи носителя языка как реального человека из плоти и крови, так и идеализированной абстракции. Фигура такого воображаемого субъекта с врожденной языковой компетенцией связана с «верой в одноязычие» (А. Пенникук). К. Ра-джагопалан резко критикует идеал генеративизма: «Этих людей отличает атрибут, вряд ли свойственный обычным смертным: они никогда не ошибаются» [5. Р. 227]. Мир, населенный ими, смело можно назвать утопическим. Б. Рэмптон предполагает, что понятия «носитель языка» и «родной язык» сопровождают идеологию превосходства носителей по рождению, смешивая язык как инструмент общения с языком как символом социальной идентификации и подчеркивая биологическое в ущерб социальному. Идеологическая конструкция понятия подразумевает генетическое наследование языка, наличие неукоснительного соответствия гражданина страны с носителем единственного родного языка, высокий уровень владения языком во всех сферах его использования, а также четкое отличие носителя от неносителя. Все эти предпосылки, в свою очередь, опираются на идею однородного и закрепленного в речевом сообществе языка, неразрывно связанного с национальным государством. Стоит заметить, что современные рассуждения о языке, культуре и нации до сих пор полагаются на идеи Гердера и Гумбольдта, заложивших основу лингвистики как научной дисциплины. В настоящее время лингвисты все чаще характеризуют понятие «материнский язык» как теоретический и социополитический конструкт (T. Скутнабб-Кангас, Р. Филлипсон), что бросает вызов устойчивому мифу о чистоте и подлинности как непоколебимых фактах реального мира. Ведь, небезызвестно, что латинское «nativus» (от глагола «рождаться») тесно связано с понятием «естественного» (natura и naturalis) и с принадлежностью к племени и нации (natio). В 1985 г. известный индийский лингвист Томас Пайкдэй из Торонто выпустил книгу с весьма апокалиптическим названием: «Носитель родного языка мертв!» (The native speaker is dead!) [6], где называет это понятие «юридической фикцией» и приводит любопытный пример. По обе стороны немецко-голландской границы местная речь практически идентична, но на немецкой стороне дети ходят в школу и учатся, чтобы стать «носителями» немецкого языка, а на другой стороне школьное образование превращает детей в «носителей» голландского. Причем очень похожая ситуация наблюдается и на франко-итальянской границе. Впоследствии понятие «native speaker» было объявлено крупнейшим лингвистическим мифом последних веков, фантасмагорией, существующей в воспаленном воображении лингвистов. Как указывает Фергюссон, «на самом деле, вся мистика носителя языка и материнского языка должна быть преимущественно тихо исключена из набора профессиональных мифов лингвиста, касающихся языка» [4. Р. 7]. Ра-джагопалан заявляет: «Понятие “нативности” является одним из основополагающих мифов современной лингвистики. Как и все другие мифы, нативность - не изолированное или одиночное верование, а множество связанных и поддерживающих друг друга верований, как правило, не подвергаемых сомнению в дисциплинарных границах» [5. Р. 226]. Многие лингвисты начинают говорить о немаловажной идеологической подоплеке подобной мифологии. Разговоры о нативном носителе могут быть вписаны в такой опасный троп, как «чистая раса». Включение языка в расовый дискурс становится возможным благодаря прививке фольклорных понятий родства и наследственности. В конечном счете, споры о носителях напрямую затрагивают политические проблемы «чистой» идентичности. В 1981 г. был опубликован сборник «A Festschrift for Native Speaker». Интересно, что в немецкой академической традиции «Fest-schrift» - антология, изданная в честь выхода ученого на пенсию. Значит ли это, что указанный труд призван ознаменовать выход рассматриваемого понятия из активного научного оборота? Методология исследования Представленное исследование выполнено в традиции социального конструктивизма, который в значительной степени занимается оспариванием реалистических аргументов, предполагающих объективный статус социальных феноменов (понятий, идей, идеологий, знания). В этом смысле он весьма полезен, поскольку развеивает фундаменталистские мифы о происхождении, показывая, как именно человеческая деятельность порождает не только данные сущности, но и связанные с ними убеждения и верования. Основная предпосылка исследования состоит в том, что понятие «носитель родного языка» и его изучение отнюдь не являются нейтральными. «Нативность» конструируется посредством сложных, исторически обусловленных практик и идеологий, встроенных в изменяющиеся социальные, лингвистические и культурные контексты. Исходя из этого, наиболее адекватным методом анализа служат лингвистическая антропология и этнография, ставящие идеологию в центр понимания языка как культурной практики. При этом языковые идеологии возникают в ходе семиотических процессов, посредством которых люди структурируют свои представления о языковых различиях и подобиях в рамках культур и их пересечений. Языковые идеологии связывают языковые формы и их использование с социальными группами, поскольку объединяют пользователей языка с их политико-экономическими позициями и интересами. Они позволяют понять механизмы языковой дискриминации и предлагают инструменты анализа способов социальной самоидентификации человека в обществе. В контексте этого подхода нашим методологическим инструментарием выступит концепция языковой идеологии Ирвайн и Гал, Шей-фелин, Вулард, Сильверштейна, а понятие «родного языка» и его носителя будет рассматриваться как результат идеологического конструирования, создавшего мощный нормативный метадискурс. Именно идеологические основания концепции «носителя языка» стали предметом исследования Кука (Cook), Канагараджы (Canagarajah), Рэмптона (Rampton), Пенникука (Pennycook), Качру (Kachru), Филлипсона (Pennycook) и других ученых. В рамках этого подхода можно сформулировать основные проблемы исследования: с помощью каких средств и механизмов формируется идеологическое представление о носителе родного языка в современной лингвистической науке и обществе в целом? Каким путем осуществляется натурализация таких представлений в качестве универсальных, вневременных и объективных? Насколько пригодна традиционная категоризация людей в отношении их языкового использования при анализе и описании стремительно изменяющегося современного мира? Все эти вопросы определяют как общий план исследования, так и его результаты. Исследование и результаты Язык и национальное государство Первая идеология лингвистического нативизма - это вера в существование строгого соответствия между гражданином национального государства и носителем его языка. Согласно моделям Ирвайн и Гал, эта связь между членством в национальном государстве и языковом сообществе создается за счет процесса иконизации, предполагающего индексацию определенных групп в обществе (носителей стандартного или официального языка государства) в качестве иконических репрезентантов населения всего сообщества («воображаемой нации» (Андерсон)). В конце XVIII в. в Германии Иоганн Готфрид фон Гердер утверждал, что каждый народ отличается «естественными» характеристиками своего языка и духовным качеством специфического Volksgeist. Обладание собственным особенным языком - важнейший признак народа, и именно язык создает границы, разделяющие нации (И. Фихте). Можно сказать, что «носитель родного языка» рождается в пространстве мощной национальной мифологии. Грэм Смит в работе «Национальное строительство в постсоветском пограничье» (1998) описывает национальную мифологию в виде совокупности языковых мифов: 1. Первичность: национальный язык - это язык Ursprache, или адамический язык. 2. Избранный язык: национальный язык предпочтителен, ибо имеет особое предназначение. 3. Соответствие природе: национальный язык имеет глубокую внутреннюю связь с природой. 4. Соответствие национальному характеру: национальный язык отражает характер его носителей. 5. Миф иностранного одобрения: иностранцы хотят изучать данный национальный язык больше, чем любой другой [7. Р. 176-188]. К вышеназванным примыкает серия мифов, внутренне свойственных языку: 1. Национальный язык наиболее гармоничен по сравнению с другими. 2. Ему свойственна уникальная выразительность и непереводимость, т.е. его лексику невозможно адекватно перевести на иностранные языки. 3. Национальный язык обладает самым большим словарным запасом среди всех других языков. 4. Национальный язык на протяжении истории сохраняет свою оригинальную лексику и грамматику [7. С. 188-192]. В эту таксономию можно добавить: святость национального языка, т.е. способность передавать святую истину, выступая посредником между человеком и Богом, а также его врожденность, наследование от родителей (почти всегда от матери). В результате государственные языки становятся основой национального самосознания. Удивительным примером лингвистической формы национализма является Страна Басков. Euskal Herria - традиционное название Страны Басков - означает «страна, в которой говорят на баскском языке». Марк Курлянский в книге «Всемирная история басков» считает «баскскость» лингвистическим понятием. «В языке басков, который называется эус-кера, отсутствует слово “баск”. Единственное слово для обозначения члена их группы - говорящий на Euskaldun-Euskera. Их земля называется Euskal Herria - земля носителей языка эускера. Именно язык определяет басков» [8. Р. 19]. Однако язык определяет также и название самой страны. Жаклин Урла недавно опубликовала статью о баскской радикальной националистической панк/хип-хоп музыкальной группе Negu Gorriak, что означает «грубые победители». Статья имеет интересное название - «Мы все - Малкольм X!», и в ней говорится: «Музыка Negu Gorriak приглашает неэтнических басков, детей испанских иммигрантов, родившихся и проживающих в доиндустриальных городах баскского севера, в баскскую нацию, утверждая, что членство в ней основано на приверженности культурной, языковой и рабочей борьбе, а не этнической принадлежности или крови» [9. Р. 187]. Сепаратистские движения ETA (Euskadi Ta Askatasuna) и Batasuna (его политическая ветвь) вполне ясно выражают свою позицию: человек является баском, если говорит на языке и участвует в националистической политике. Следует подчеркнуть, что определение «родного языка» является невероятно сложным из-за многоязычной социальной реальности. Согласно Тове Скутнабб-Кангасу и Роберту Филлипсону, для определения «материнского языка» необходимо выбрать четыре критерия: происхождение, компетенцию, функцию и идентификацию [10. Р. 452]. В результате дефиниция материнского языка будет следующей: материнский язык - это язык, который выучивается первым (происхождение); язык, который знают лучше (компетенция); наиболее используемый язык (функция); язык, с которым идентифицирует себя сам человек (внутренняя идентификация); язык, с которым идентифицируют человека как носителя другие люди (внешняя идентификация). К примеру, материнский язык X с точки зрения происхождения может быть A, поскольку оба родителя-билингва говорили с ним не нем в младенчестве. Однако X также является билингвом по критерию происхождения, ибо использует языки A и B с самого рождения. В соответствии с критерием компетентности материнским языком будет язык B, потому что он чувствует, что знает его лучше. Сообразно критерию функции его материнским языком может быть язык С, поскольку, уехав в другую страну, он по большей части в иноязычном окружении говорит именно на нем. Исходя из критерия идентификации, Х имеет два материнских языка - A и B. В связи с переездом, миграцией материнские языки очень часто меняются. По мнению Скутнабб-Кангас и Филлипсона, «существует четыре тезиса относительно материнского языка и четвертый тезис по поводу его определения: 1) у людей может быть несколько родных языков; 2) один и тот же человек может иметь различные материнские языки в зависимости от используемого определения; 3) материнский язык человека может меняться даже несколько раз в течение жизни в соответствии со всеми другими определениями материнского языка, кроме определения, связанного с происхождением; 4) определения материнского языка могут быть организованы иерархично в соответствии со степенью языковых прав, осознаваемых обществом» [10. Р. 453]. Как отмечает Бен Рэмптон, «способность к языку может быть заложена генетически, но конкретные языки приобретаются в социальной среде. С социолингвистической точки зрения неточно считать, что люди раз и навсегда принадлежат только одной социальной группе. Они участвуют в многочисленных группах (семья, группа сверстников, группы, определяемые классом, регионом, возрастом, этнической принадлежностью, полом и т.д.): членство в них со временем меняется, как и язык» [11. Р. 98]. В конце ХХ в. положение «одна нация, один язык» теряет свою актуальность в связи с развитием новых форм национальных государств. В начале нынешнего века национальные экономики стали гораздо более интегрированными в глобальную экономику. Темпы технологических изменений ускорились до невероятной степени, а взрывной рост коммуникационных и информационных сетей находится на грани «уничтожения пространства». Все чаще каждое языковое сообщество должно осознавать свое положение в динамичной мировой системе языков, характеризующейся огромными и расширяющимися различиями в статусе и использовании. В настоящее время мы стали свидетелями возникновения новых экономических торговых блоков, социально-экономических и общественно-политических организаций, повлиявших на языковые процессы. В Восточной Европе произошла перекройка политических государств по этническим и языковым признакам. Языковое разнообразие Африки, Азии и даже Латинской Америки стало общепризнанным. Трудовые мигранты, беженцы, репатрианты, иностранные студенты, туристы - все они вносят существенный вклад в движение населения, делая многоязычие ключевым феноменом XXI в., поскольку людям необходимо общаться или получать доступ к информации за пределами их основной языковой группы. Бесплатная голосовая телефонная связь, возможность передачи коротких сообщений (SMS) обеспечивают коммуникацию вне зависимости от государственных границ. Сегодня мы можем одновременно и совместно использовать множество различных языковых практик, как это происходит при обмене мгновенными сообщениями и в электронных чатах. Возможность загружать мультимедийные файлы позволяет многим «делиться» своими языками, а другим - изучать их самостоятельно без помощи школ или иных посредников. В связи с этим носители языка могут выбирать более широкий спектр языковых практик. Развитие экономики изменило как наше ощущение пространства, так и чувство связи с другими людьми. К этому стоит добавить глобальный характер английского языка, также оказывающий большое влияние на отношение «родной/чужой» носитель языка. В мире происходит процесс активизации английского языка. Одновременно возникает вертикальная сегрегация англоязычной «космополитической» элиты и ксенофобски настроенных представителей низшего класса, ведущих борьбу с иммигрантами за одни и те же рабочие места. Язык как однородная система Второе идеологическое утверждение - это идея однородности и устойчивости языка как системы в гомогенном речевом сообществе, что позволяет «провести жесткое и четкое различие между тем, кто является и не является носителем языка» [12. Р. 176]. Это представление возникает в процессе того, что Ирвайн и Гал назвали стиранием. Посредством этого механизма языковая идеология скрывает целые социальные группы или их деятельность, не соответствующие доминирующей схеме. В данном случае «стираются» разнообразие и динамическая природа языка, а также различные языковые практики участников речевого сообщества. Подобное понимание языка отражает структурная лингвистика Фердинанда де Соссюра, рассматривающего язык как неизменный код, разделяемый однородным языковым коллективом. Однако языки представляют собой текучие коды, обрамленные рамками социальной практики. Как утверждает Хоппер, «в языке нет естественной фиксированной структуры. Скорее, говорящие в значительной степени заимствуют свой предыдущий опыт общения в аналогичных обстоятельствах, на аналогичные темы и с аналогичными собеседниками. Сообразно этому, систематичность иллюзорна, порождена частичным оседанием постоянно используемых форм во временные системы» [13. Р. 157-158]. Согласно этой позиции, существуют не языки, а дискурсы, т.е. способы говорения или письма в определенных контекстах. Более поздние исследования в области лингвистики показали, что язык не является однородной системой, а состоит из континуальных вариантов с равными лингвистическими статусами. Невозможно провести абсолютные границы между языковыми вариантами, и не существует такого понятия, как единый язык, используемый всеми говорящими в каждый момент времени. Несмотря на это, лингвисты до сих пор относятся к языку как к единому и монолитному образованию, опираясь на критерий «взаимнопонятности», невзирая на неоднократно отмеченную его проблематичность. По мнению французского лингвиста Луи-Жана Кальве, восприятие себя одноязычным человеком - следствие языковых идеологий, перерастающих в «войну языков» [14]. Кальве утверждает, что история языка - это история людей, пытающихся управлять языковыми вариантами. Подчиняя себе различия и считая язык других неполноценным, человечество с самого начала заложило предпосылки для войны языков. Иначе говоря, языковые идеологии были важной частью борьбы за управление многоязычием. Одной из таких языковых идеологий является стандартизация языка. В центре внимания оказывается не сам стандартный язык, а идеология стандартизации и вызываемые ею процессы. Согласно Джеймс и Лесли Милрой, «стандартизация мотивируется в первую очередь различными социальными, политическими и коммерческими потребностями и продвигается различными способами, включая использование письменности, которая относительно легко стандартизируется; но абсолютная стандартизация разговорного языка никогда не достигается (единственный полностью стандартизированный язык -это мертвый язык). Поэтому представляется целесообразным говорить о стандартизации как об идеологии, а о стандартном языке - как об идее в сознании, но не в реальности» [15. Р. 22-23]. Нужно отметить, что стандартизация в языке означает предотвращение вариативности в написании и произношении путем выбора фиксированных конвенций, однозначно считающихся «правильными». Стандартизация осуществляется путем закрепления и регулирования таких особенностей, как орфография и грамматика языка в словарях и справочниках, используемых для языкового обучения и СМИ. Как отмечает С. Ромейн, «важно признать, что стандартизация - это не врожденная характеристика языка, а приобретенная или намеренно и искусственно навязанная» [16. Р. 84]. Политическая власть поддерживает статус языковой разновидности как стандарта. Пьер Бурдье утверждает, что иерархия между языковыми вариантами возникает, когда государство навязывает своим гражданам официальный язык как единственно легитимный. При этом формируется «лингвистическое сообщество», где легитимность стандарта признается всеми, но доступ к нему остается неравномерным. Стандартный язык приобретает символический капитал благодаря единой системе образования и единому рынку труда. Выдвижение произношения RP в Великобритании в XIX в. было основано не на общепринятом произношении, а на произношении хорошо образованных людей, которых лингвисты считали достойными подражания [17. Р. 135-136]. Другими словами, ценность стандартной разговорной формы определялась социальным статусом ее носителей. Стандартный язык - не что иное, как абстрактный и идеализированный язык, который навязывается сообществу в его письменной форме, но заимствованный из устной речи верхнего уровня среднего класса. Для того чтобы обозначить и сохранить свою идентичность, статус и власть, группа произвольно выбирает и канонизирует определенные языковые особенности как стандартные или престижные. В этом и состоит главная цель языковой нативизации: убедить людей в существовании «действительно» родного языка, дабы закрепить свой высокий статус. Нет ничего в конкретной языковой форме самой по себе, что определяет ее ценность; ценность обусловлена ее связью с субъектами власти. Лесли Милрой в работе «Стандартный английский и языковая идеология в Великобритании и США» отмечает, что успех стандартных или канонических форм таких языков, как латынь, греческий, санскрит, английский, испанский, французский и другие, «возник не из-за превосходства их грамматических и фонологических структур над другими менее успешными языками или написанной на них великой поэзии, а из-за успеха их носителей в завоевании и покорении носителей других языков на протяжении большей части известной человеческой истории» [18. Р. 16]. К этому следует добавить, что возникает прочная связь между стандартным языком и такими социальными качествами, как моральная чистота, цивилизованность, образованность и т.д. В этом смысле речь представителей высшего класса бессознательно воспринимается как хранилище лингвистического капитала, который вожделеют и которому поклоняются. Доказательством этого является исследование Такера и Ламберта (1972). Авторы обнаружили, что респонденты со стандартным произношением получали более высокие оценки по списку свойств характера, который воспринимается как перечень основных христианских добродетелей: воспитанные, умные, дружелюбные, образованные, заслуживающие доверия, честные, решительные, талантливые, амбициозные и т.д. [19. Р. 179-181]. Следует подчеркнуть, что, распространяясь через систему образования, стандартный язык превращается в «родной» язык граждан государства, а остальные формы объявляются не естественными, не родными, чужими и т. д. Мнение о том, что человек достоин внимания, только если говорит на стандартном языке и использует его как оружие, подвергая цензуре и заставляя замолчать владельцев нестандартных разновидностей, объявляется формой культурного империализма [20]. Милрой предлагает очень полезное наблюдение по поводу негативного определения значения «стандартного языка»: «Людям легче указать на то, что не является стандартом, чем на то, что является им; в некотором смысле, стандарт в народном восприятии - это то, что остается в остатке, когда все нестандартные разновидности, на которых говорят униженные люди, такие как девушки из долины, деревенщина, южане, жители Нью-Йорка, афроамериканцы, азиаты, американцы мексиканского происхождения, кубинцы и пуэрториканцы, остаются позади» [18. Р. 174]. В этом отношении совершенно точным выглядит высказывание Вивьен Кук: «Классический аргумент Лабова утверждает, что ни одна группа не должна оцениваться по нормам другой, будь то белые против черных или рабочий класс против среднего класса. Однако преподаватели, исследователи и люди вообще часто считают само собой разумеющимся, что изучающие L2 представляют собой особый случай, который может быть правильно оценен по стандартам другой группы... Как когда-то утверждалось, что женщины должны говорить, как мужчины, чтобы преуспеть в бизнесе, черные дети должны учиться говорить, как белые, а дети рабочего класса должны изучать развитый язык среднего класса, так и пользователи L2 обычно рассматриваются как неудавшиеся носители языка. Пользователи L2 не являются одноязычными носителями языка и никогда ими не станут... На пользователей L2 нужно смотреть как на настоящих пользователей L2, а не как на имитацию носителей языка» [21. Р. 194-195]. Педагоги и учащиеся обычно полагают, что стандартные языковые практики должны иметь привилегированный статус по отношению к другим в силу их предполагаемой «правильности» и «уместности». Действительно, за счет гегемонии стандарта преподаватели языка, студенты и широкая общественность уверены в том, что именно является наиболее важным в преподавании и обучении, а что несущественным для образовательной деятельности. Хотя нужно признать, что стандарт, изучаемый в школе, часто нигде не используется. Например, марокканец, носитель тамазита (берберского языка), может также свободно владеть разговорным марокканским арабским языком. Однако в школе его учат читать и писать только на современном стандартном арабском языке (MSA). Более того, для чтения Корана, а также для молитвы он использует классический арабский. В данном контексте представляет особый интерес модель идеологии стандартного языка, предложенная Розиной Липпи-Грин в работе «Английский с акцентом: язык, идеология и дискриминация в США» и названная моделью языковой субординации. Одним из важнейших ее компонентов является «мистификация языка»: «Вы никогда не сможете постичь все трудности и сложности своего родного языка без квалифицированного руководства». В действительности люди ежедневно общаются друг с другом на родном языке, не имея специальных языковых знаний. Утверждение о том, что разговорный язык настолько сложен, что обычные носители никогда не способны в нем разобраться самостоятельно, имеет определенные основания, но мистификация настолько сильна, что многие действительно считают себя плохо говорящими на родном языке. Идеология требует от нас принять парадоксальный тезис: носитель языка им не владеет. Его интуиция не слишком надежна, а поэтому настоящее изучение языка происходит в школе. Именно там ребенка учат канонической форме те, кто действительно знают правила грамматики, произношения и т. д. Второй компонент - «утверждение авторитета»: «Мы - эксперты. Говорите как я/мы. Мы знаем, что делаем, поскольку изучали язык и способны на нем грамотно писать». Любопытно, что люди, выносящие суждение о правильности, сами полагают, что совершают ошибки и требуют от компетентных институтов указать им верный вариант. Третий компонент - «создание дезинформации»: «Употребление, к которому вы так привязаны, является неточным. Предпочитаемый мной вариант лучше по историческим, эстетическим или логическим соображениям». Четвертый - «тривиальность нестандартного языка»: «Посмотрите, ваш язык такой милый и смешной». Пятый - «конформисты в качестве положительного примера»: «Посмотрите, как много можете достичь, если будете использовать стандартную форму». Шестой - «Нонконформистов очерняют или маргинализируют»: «Видите, насколько глупыми, незнающими, неосведомленными и (или) девиантными выглядят эти говорящие». Ну и, наконец, «обещания и угрозы»: «Работодатели будут воспринимать вас серьезно, двери будут открыты» или «говорите по-своему, но двери для вас будут закрыты» [22. Р. 70]. Культура стандартного языка связана с твердой верой в его корректность. Эта вера основана на существовании двух вариантов какого-то слова или конструкции при непременной правильности одного из них. Просто есть некое общее чувство, что одна форма - правильная, а другая - нет. И здесь, в принципе, даже не требуется какого-либо рационального обоснования. Причина неверности некоторых употреблений отсутствует. Все знают, это - часть культуры, а если кто-то думает иначе - он вне ее. Очень важно понять, насколько существенно здесь обращение к здравому смыслу. Каждый обязан знать, что надо говорить именно так, а кто делает иначе - эксцентрик, фрик, маргинал и т. д. И люди, упрекающие других в «неправильности», просто не понимают идеологическую нагрузку понятия «здравый смысл». Любопытно, однако, что они вполне серьезно расценивают свои суждения как сугубо лингвистические. Оценка стандартного варианта объясняет соглашение членов сообщества с невидимой культурной властью. Эриксон определяет «практики гегемонии» как «рутинные действия и не подвергаемые проверке убеждения, согласующиеся с культурной системой смысла и онтологии, в рамках которых возможно совершенно без злого умысла предпринимать определенные действия, которые, как бы то ни было, систематически ограничивают жизненные шансы членов стигматизированных групп» [23. Р. 31]. Таким образом, наши повседневные дискурсивные практики являются одним из наиболее очевидных примеров гегемонии, в которой мы все, и особенно педагоги, принимаем участие. В этой связи довольно парадоксально выглядят моноязычные школы в современных многоязычных государствах, вбивающие в головы учеников, что у них есть родной язык, а все остальные мировые языки являются иностранными, как будто одноязычный человек - это естественный вид, а билингв - отклонение от нормы. Носитель как компетентный субъект Третьей идеологической предпосылкой концепции «носителя языка» является вера в его «полную и, возможно, врожденную компетентность» [12. Р. 175], что, несомненно, основано на идее однородного фиксированного языка в однородном языковом сообществе национального государства. Механизм, лежащий в основе третьей идеологемы, Ирвайн и Гал назвали «фрактальная рекурсивность», которая представляет собой проекцию оппозиции, значимой на одном уровне отношений, на другой уровень. В случае «носитель»/«неноситель» языка иерархия носителей стандарта и нонстандарта в рамках языкового сообщества проецируется на лингвистические отношения между носителями и неносителями языка. В формальной лингвистике владение «родным» языком считается само собой разумеющимся. Однако такая способность не обязательно является врожденной. Например, когда Блумфилд утверждал, что «первый язык, на котором человек учится говорить, - это его родной язык; он является носителем своего языка» [24. Р. 43], то подразумевал, что язык не является наследственным: «...конкретный язык, который он выучит, полностью зависит от окружающей среды. Младенец, попавший в группу в качестве подкидыша или усыновленного, усваивает язык группы точно так же, как и ребенок из родной семьи; когда он учится говорить, в его языке нет никаких следов того языка, на котором, по всей вероятности, говорили его родители» [24. Р. 43]. Согласно Хомскому, грамматика считается адекватной, если правильно описывает внутреннюю компетенцию идеализированного носителя. Структурные описания предложения, различие между грамматически правильными и не правильными предложениями должны соответствовать его языковой интуиции (независимо от уровня осознания) в значительном количестве проблемных случаев. Хотя Хомский не обсуждает само понятие «носитель языка», его теоретический подход, рассматривающий индивидуальный когнитивный процесс в ущерб социальному, оказал большое влияние на развитие бинарной оппозиции «родной/неродной» в различных областях лингвистики. Как отмечают Фирт и Вагнер, «теория Хомского о языковом инстинкте... врожденной “ментальной структуре” или “устройстве для овладения языком” в мозге, позволяющее его осваивать... утвердилась в рамках теории обучения второму языку как центральная проблема языка в качестве аспекта индивидуального познания... [это] привело к тому, что социальные идентичности... сводятся к бинарному различию между носителями и не носителями/обучающимися» [25. С. 759-760]. Вследствие этого в теории обучения второму языку носитель продолжает преобладать в качестве базового уровня или цели. Он объявляется всезнающим, эталоном сравнения для любого неносителя, обязанного ему подражать. Возникает вопрос определения «носителя языка». С чем он может быть сопоставлен? По сути, в понятии «носитель языка» можно выделить два аспекта. Во-первых, это человек, для которого определенный язык является родным или первым. Тем не менее это популярное определение весьма проблематично. Отождествление «первого языка» с «носителем языка» не является убедительным, поскольку человек может иметь столько первых языков, сколько позволяют обстоятельства, но никогда не использовать их в качестве «носителя» по причине отсутствия способностей к изучению языка, возможности получить образование или отъезда из страны. Нередки случаи, когда человек владел первым языком, последующее образование получил в другой стране и после этого стал весьма образованным носителем второго языка, который он воспринимает как родной, а первый полностью забывает. К примеру, знаменитый лингвист Д. Кристалл в вышеупомянутой книге Пайкдэя [6] вспоминает, что до 9 лет воспитывался в валлийско-английской среде, затем переехал в Англию, где быстро забыл большую часть своего валлийского языка и теперь не может претендовать на звание носителя языка. Дело в том, что в понятии «носитель языка» негласно содержится представление о лишенном пробелов хронологическом континууме от рождения до смерти, в котором используется язык. А у некоего идеального неносителя этот континуум либо не начался с рождения, либо прервался в дальнейшей жизни. Соответственно, во вторую категорию попадает довольно большое количество людей. Существенно и то, что постижение родного языка достигается за счет образования и индивидуальных способностей человека. В таком случае носителем языка становятся, а не рождаются. Дело в том, что все атрибуции авторитета в языке должны ссылаться на понятия «стандартной» или «правильной» речи, а это значит, что стандартизация также должна присутствовать в атрибуции авторитета носителя языка. Ведь только тогда мы можем признать его полную языковую компетентность. Однако понятие «стандартизация» возникло вместе с распространением грамотности и имеет свою основу в письменности. Авторитет любого носителя языка - родного или не родного - должен полагаться на его знание письменного языка. Тот факт, что в обществах всеобщей грамотности носителей первого языка приходится обучать правильно писать вплоть до уровня высшего образования, ставит под сомнение авторитет того или иного говорящего, основанный исключительно на факте его рождения в матрице языка и культуры данного общества. Вместе с тем письменный язык - это грозная конструкция для носителя языка; чуждый язык, выступающий источником лингвистической неуверенности. Следует также напомнить, что полностью стандартизированный язык является химерой; «живые» языки всегда динамичны как в письменной, так и в устной форме. Именно поэтому н
Halle M. Phonology in Generative Grammar // Word. 1962. Vol. 18, Is. 1-2. P. 54-72.
Katz J.J., Fodor J. What's wrong with the philosophy of language? // Inquiry 1962. Vol. 5. P. 197-237.
Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass. : M.I.T. Press, 1965.
Ferguson C. Language planning and language change // Progress in Language Planning / eds. by J. Cobarrubias, J. Fishman. Berlin : Mouton, 1983.
Rajagopalan K. Linguistics and the myth of nativity: Comments on the controversy over ‘new/non-native Englishes // Journal of Pragmatics. 1997. Vol. 27, Is. 2. P. 225-231.
Paikeday T.M. The Native Speaker is Dead! Toronto ; New York : Paikeday, 1985.
Smith G. Nation-building in the Post-Soviet Borderlands. Cambridge : Cambridge University Press, 1998.
Kurlansky M. The Basque History of the World. New York : Penguin, 1998.
Urla J. ‘We are all Malcolm X!': Negu gorriak, hip-hop, and the Basque political imaginary // Global Noise: Rap and Hip-Hop Outside the USA / ed. by Tony Mitchell. Middletown : Wesleyan University Press, 2001. P. 171-193.
Skutnabb-Kangas T., Phillipson R. Mother tongue: the theoretical and sociopolitical construction of a concept // Status and Function of Languages and Language Varieties / ed. by Ulrich Ammon. Berlin ; New York : Mouton de Gruyter, 1989. P. 450-477.
Rampton B. Displacing the 'native speaker': expertise, affiliation, and inheritance // ELT Journal. 1990. Vol. 44, Is. 2. P. 97-101.
Pennycook A. The cultural politics of English as an international language. London : Longman, 1994.
Hopper P. Emergent Grammar // The New Psychology of Language / ed. by M. Tomasello. Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum, 1998. P. 155-175.
Calvet L.-J. Language wars and linguistic politics. Oxford : Oxford University Press, 1998.
Milroy J., Milroy L. Authority in language: Investigating language prescription and standardisation. London : Routledge, 1991.
Romaine S. Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics. Oxford : Oxford University Press, 1994.
Crowley T. Standard English and the politics of language. Urbana : University of Illinois Press, 1989.
Milroy L. Standard English and language ideology in Britain and the United States // Standard English: The Widening Debate / eds. by T. Bex, R.J. Watts. London ; New York : Routledge, 1999. P. 173-206.
Tucker G.R., Lambert W.E. White and Negro listeners' reactions to various American English dialects // Advances in the Sociology of Language / ed. by J.A. Fishman. The Hague : Mouton, 1972. Vol. 2. P. 175-184.
Hooks B. Teaching to transgress: Education as the practice of freedom. New York : Routledge, 1994.
Cook V. Going beyond the native speaker in language teaching // TESOL Quaterly. 1999. Vol. 33 (2). P. 185-209.
Lippi-Green R. English with an accent: Language, Ideology and discrimination in the United States. London ; New York : Routledge, 1997.
Erikson F. Transformation and School Success: The Politics and Culture of Educational Achievement // Minority Education: Anthropological Perspectives / eds. by E. Jacob, C. Jordan. Norwood, NJ : Ablex, 1996. P. 27-52.
Bloomfield L. Language. Chicago : University of Chicago Press, 1984.
Firth A., Wagner J. On discourse, communication, and (some) fundamental concepts in SLA research (Republication from The Modern Language Journal 81, 1997, 285-300) // The Modern Language Journal. 2007. Vol. 91. P. 757-772.
Trudgill P. Standard English: What it isn't // Standard English: The widening debate / eds. by T. Bex, R.J. Watts. London : Routledge, 1999. P. 117-128.
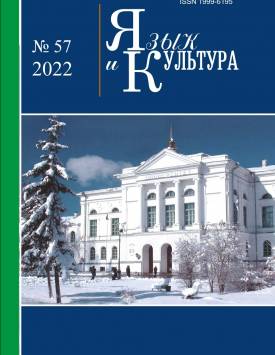

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью