Биоэтические предпосылки гражданско-правового положения реципиента в программе донорства ооцитов
Исследуются биоэтические и юридические условия, определяющие гражданско-правовое положение реципиента в программе донорства ооцитов. Сформулированы концептуальные подходы применения вспомогательных репродуктивных технологий. Определены пути формирования нормативной основы использования донорских гамет, включающие принятие федеральных законов «О биоэтике» и «О донорстве гамет». Исследована природа отношений донорства ооцитов, аргументированы предложения в законодательство. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Bioethical prerequisites for the civil status of the recipient in the oocyte donation program.pdf Биоэтическая повестка активно проникает в научные правовые исследования. Вызовы в сфере воспроизводства человека определяют запросы к профессиональному юридическому сообществу. В условиях становления междисциплинарности юристы решительнее обращаются к специфической предметной области. Чтобы точнее задать параметры правовой регламентации, они погружаются в анализ предмета познания в его биологических, этических и социальных контекстах. Так, в течение последнего десятилетия в юриспруденции постепенно формируется дискурсивное поле репро-дуктологии. Между тем нормативное регулирование в данной сфере по-прежнему находится в позиции отстающего. Представляется, этому есть как минимум два объяснения в состоянии юридической науки, задающей вектор нормативных преобразований. Во-первых, для построения системной позиции не по всем концептуальным вопросам имеются доктринальные наработки. Много публикаций 178 Краснова Т.В. Биоэтические предпосылки гражданско-правового положения сконцентрировано, в основном, вокруг попыток встроить биообъекты в структуру устоявшихся правовых категорий [1-3]. Во-вторых, умозрительный характер правовых исследований ограничивает их «в возможности столкнуться с непредвиденными эмпирическими последствиями выработанных теорий» [4. С. 53]. Тем самым собственный инструментарий правового познания нуждается в переосмыслении и трансформации. В русле междисциплинарного метода в рамках настоящей статьи предпринята попытка изучения гражданско-правового положения реципиента донорских ооцитов. Принципиальная особенность донорства ооцитов по сравнению с донорством спермы - расщепление материнства на генетическое (у донора) и гестационное (у реципиента). Кроме того, ученые отмечают наличие рисков для здоровья донора и акушерских осложнений у реципиента [5. С. 16; 6. С. 35-36]. Если правовой статус донора ооцитов время от времени привлекал внимание ученых (чаще всего, в качестве одного из вопросов искусственной репродукции), то правовое положение реципиента не ставилось на самостоятельное рассмотрение. Зарубежные государства по-разному подошли к законодательному регулированию отношений по применению донорства ооцитов: от полного запрета (например, Германия) до детальной регламентации (например, Франция). Обобщение различий в подходах к регулированию в зарубежных правопорядках приведено в монографии Е.Е. Богдановой и Д.А. Беловой [5. С. 17-23]. Опыт других государств в его культурно-историческом контексте может быть учтен в поиске решений, соответствующих тенденциям развития отечественного законодательства. Распространение информации о высоких темпах развития медицины и искусственной репродукции человека в одних случаях ведет к положительным эффектам, но в других случаях порождает неоправданные ожидания, связанные с некорректным сопоставлением своих «биологических часов» и существующих методов лечения [7]. Сказанное касается, в частности, случаев бесплодия, вызванного снижением овариального резерва у женщин. Нередко столкновение с этим диагнозом связано с поздним планированием беременности женщиной по различным социальным мотивам. Современная медицина утверждает, что запас репродуктивных клеток женщины, данный ей при рождении (примордиальных фолликулов), исчерпаем и не обновляется. Снижение количества и качества фолликулов происходит закономерно с возрастом, а также под воздействием негативных внешних и наследственных факторов, вследствие соматических заболеваний и даже без видимых причин (идиопатическое снижение) [8]. Различные случаи снижения овариального резерва женщин репродуктивного возраста характеризуются медиками общим понятием «синдром недостаточности яичников». Поскольку истощение запаса фолликулов часто не связано с нарушением естественного цикла, многие женщины репродуктивного возраста не догадываются о наличии у них проблемы, и при ее обнаружении уже нуждаются в экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Однако существующие методы гормональной стимуляции яични-179 Проблемы частного права / Problems of the private law ков не всегда могут дать надлежащий ответ. Кроме того, результаты предварительного обследования пациентки могут свидетельствовать о неблагоприятном прогнозе стимуляции яичников. В таких случаях пациенткам рекомендуется ЭКО с использованием донорских ооцитов [8]. Попытки ученых разработать методики восстановления утраченного овогенеза находятся в стадии исследования [9]. Малоизвестен опыт внедрения в медицинскую практику (в России - с 2019 г.) хирургической фолликулярной активации (метод IVA) [10]. Но даже при успешном применении данной прорывной технологии, по мнению ее разработчиков, пока невозможно гарантировать необходимое для ЭКО качество полученного материала и безопасность лечения [10]. Отсутствие собственных ооцитов, позволяющее вступить в донорскую программу в силу п. 63 Приказа Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» [11] (далее - Приказ Минздрава России «О порядке использования ВРТ»), может быть связано не только с синдромом недостаточности яичников, но и со следующими причинами: естественная менопауза, овариэктомия (удаление яичников), радио- или химиотерапия. Показанием для использования донорских ооцитов может явиться получение собственных ооцитов пациентки недостаточного качества. Указанные показания будут рассмотрены в настоящей статье в логике исследования гражданско-правового положения реципиента ооцитов. Донорство ооцитов не лечит отсутствие ооцитов. Согласно пп. 8 п. 1 ст. 2 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [12] (далее - ФЗ «Об основах охраны здоровья...»), «лечение» - это устранение или облегчение проявлений заболевания, восстановление или улучшение его здоровья, трудоспособности и качества жизни. В случае использования донорских ооцитов здоровье не улучшается и не восстанавливается. Это единственный доступный способ, позволяющей обойти проблему, чтобы выносить и родить ребенка. Поэтому полагаем правильным отразить на законодательном уровне, что использование донорских ооцитов - это не метод лечения, а способ решения проблемы бесплодия. Донорство ооцитов возможно только в программе вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). В понимании сущности ВРТ принято выделять два концептуальных подхода. «Медикализированный» подход определяет задачами ВРТ «исключительно решение медицинских вопросов» [13. С. 10]. «Фамилизированный» подход признает первичность права на создание семьи посредством ВРТ за любым человеком независимо от медицинских показаний [14]. Анализ действующей редакции ст. 55 ФЗ «Об основах охраны здоровья.» позволяет утверждать, что в России принят медикализированный подход, допускающий применение ВРТ только по медицинским показаниям. В современных исследованиях указано на наличие исключений: воз-180 Краснова Т.В. Биоэтические предпосылки гражданско-правового положения можность получения донорской спермы одинокой женщиной названа «отголоском фамилизированного подхода», «исключением из общего правила о применении ВРТ только при наличии медицинских оснований» [5. С. 18- 19]. В строгом соответствии с этим утверждением согласиться нельзя. Поскольку искусственная инсеминация здоровой женщины не является ВРТ. В свою очередь, вступлению в любую программу ВРТ предшествует диагностика бесплодия. Данный ключевой критерий отражен в п. 2 ст. 55 ФЗ «Об охране здоровья...» и в п. 2 Приложения 1 Приказа Минздрава России «О порядке использования ВРТ»: ВРТ понимаются как методы лечения бесплодия, реализация которых возможна как с участием донорских материалов, так и без таковых. Для единообразного понимания и наделения юридическим смыслом медицинских терминов важно учитывать их сложившуюся многозначность. «Следует проводить различие между оплодотворением in vivo, даже если средства введения сперматозоидов являются механическими, и оплодотворением in vitro» [15]. Необходимо учитывать двойное употребление медицинских названий как методов и как программ. «Так сложилось, что названия некоторых методов было в свое время перенесено на программы ВРТ» [16]. Можно привести пример. Так, существует метод «оплодотворение яйцеклетки вне организма» (in vitro), т.е. собственно ЭКО. При этом одноименная программа ЭКО состоит из нескольких этапов. Искусственная инсеминация яйцеклетки in vitro путем соединения гамет предусмотрена в программе ЭКО. Искусственная инсеминация in vitro путем введения спермо-тозоида в ооцит предусмотрена в программе ИКСИ (как метод - это тоже ЭКО). ВРТ (Assisted reproductive technology) включают программы ЭКО и ИКСИ. Искусственная инсеминация in vivo к методам ВРТ не относится. Что касается донорства гамет, то, как социальный институт со своими целями и задачами, оно имеет самостоятельную правовую природу. Но собственно донорство является циклом программы ВРТ, если мы имеем в виду этап применения донорских гамет в целях реципиента. Применение донорских ооцитов на сегодняшний день осуществляется практически всегда in vitro - яйцеклетка донора оплодотворяется вне организма будущей матери. Первоначально применявшийся за рубежом метод оплодотворения донора ооцитов in vivo спермой партнера реципиента с последующим «вымыванием» эмбриона не получил развития в связи с рисками беременности для доноров [17]. Метод ГИФТ (внутритрубный перенос гамет) позволяет оплодотворение донорских ооцитов в организме реципиента (in vivo) за счет переноса в маточные трубы гамет лапораскопическим путем. С учетом хирургического характера этот метод не пользуется популярностью. Применение донорской спермы для одинокой женщины может быть включено в программу ВРТ, но может состояться и безотносительно ВРТ, если осуществляется здоровой женщине посредством искусственной инсеминации in vivo. Таким образом, при внутриматочной инсеминации донорской спермой одинокая женщина с позиции ст. 55 ФЗ «Об охране здоровья граждан.» 181 Проблемы частного права / Problems of the private law не является участником программы ВРТ, так как у нее не диагностировано бесплодие и зачатие производится внутри организма женщины. Такая женщина не имеет проблем с зачатием и вынашиванием. Единственной ее проблемой является отсутствие спермы. Эти характеристики имеет смысл подвергнуть самостоятельному правовому анализу в рамках обсуждения вопроса о наличии/отсутствии биоэтических предпосылок для применения донорской спермы репродуктивно здоровой одинокой женщиной. Положительное решение данного вопроса в действующем законодательстве не означает исключения из медикализированного подхода в понимании сущности ВРТ. В целях последовательного развития медикализированного подхода в системе отечественного законодательства мы предлагаем сформулировать в качестве основного принципа применения вспомогательных репродуктивных технологий приоритет естественного зачатия и вторичность применения ВРТ. Указанные технологии не являются альтернативным способом рождения детей - «их применение направлено на коррекцию естественной репродуктивной деятельности человека» [18]. Этический контекст сформулированного принципа связан не только с уважительным отношением к природе человека, но и с известным под именем Гиппократа постулатом «не навреди». Поскольку, как отмечал великий ученый Пьер Лаплас, «то, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно» [19]. Приоритет естественного зачатия, в первую очередь, обусловлен генетической связью предков и потомков. Сохранением идентичности в будущих поколениях, воспроизводстве и отражении себя за пределами одной человеческой жизни. Передачей уникального культурного кода, детерминирующего психологические и физиологические особенности людей. Объединением интенций мужчины и женщины в духовном и социальном ключе во имя общей цели, воплощенной в совместном ребенке - носителе их генетики. Неудивительно, что рождение генетически связанного ребенка играет смыслообразующую роль во многих аспектах человеческой жизни. Существуют психологические исследования, подтверждающие этот вывод [20]. Отсюда наблюдается амбивалентное отношение к донорству ооцитов как способу преодоления бесплодия: с одной стороны, это может быть единственным шансом гестационного материнства, с другой стороны, обращение человека к донорству ооцитов как вынужденной мере требует осознания и принятия. В этом ракурсе понимания напрашивается вывод об отсутствии предпосылок к расширению правовых границ применения донорства ооцитов. Дополнительные аргументы этому утверждению можно найти в дискутируемых вопросах о проблемах реализации прав детей, рожденных с помощью донорских гамет [21]. Изложенные биоэтические детерминанты свидетельствуют в пользу медикализированного подхода и позволяют предлагать закрепление принципа приоритета естественного зачатия на федеральном уровне. Полагаем, что начало этому положено в принятых поправках к Конституции Россий-182 Краснова Т.В. Биоэтические предпосылки гражданско-правового положения ской Федерации, провозгласившей требование охраны традиционных семейных ценностей [22]. Логическим продолжением может стать принятие федерального закона «О биоэтике». Как отметил П.Д. Тищенко, биоэтика становится «ключевым фактором современной биополитики» [23]. Выбор такого направления был сделан, в частности, Францией, как одной из немногих стран, детально регламентирующих вопросы биоэтики, хотя впоследствии это направление не было удержано под влиянием взглядов о правовом положении гомосексуальных пар [24]. Необходимо отметить, что попытки принятия Закона «О биоэтике» уже предпринимались в России в 1997 г. [25], и многие ученые призывают их актуализировать [26]. Мы поддерживаем такую позицию в целях создания правовой основы, в единстве с международно-правовыми принципами систематизирующей подходы к отдельным сферам юридического нормирования биотехнологий [27]. Что касается правового регулирования отношений в сфере репродукции, то их принципиальные основы представляется целесообразным закрепить в разделе «Искусственная репродукция человека» Закона «О биоэтике» совместно с юридически значимой содержательной интерпретацией медицинской терминологии, классификацией методов ВРТ и иных методов преодоления бесплодия. Удерживая в фокусе изложенные умозаключения, можно подойти к вопросу о гражданско-правовой идентификации основного «потребителя» донорства ооцитов - реципиента. Именно его потребностью предопределено существование института донорства. Существует также потребность в исследованиях донорских гамет, но их анализ лежит в научной плоскости, не связанной с целью приобретения родительских прав. Итак, реципиентом является женщина, имеющая волеизъявление на рождение ребенка, но не способная к естественному зачатию по причине полного отсутствия собственных репродуктивных клеток или отсутствия собственных репродуктивных клеток надлежащего качества. Донорство ооцитов при наличии медицинских показаний законодательно допускается для женщины, не имеющей полового партнера. Так, в силу п. 63 Приказа Минздрава России «О порядке использования ВРТ» эмбрионы для имплантации в организм женщины могут быть получены в результате оплодотворения донорских ооцитов донорской спермой. Этическая основа возможности участия в донорских программах одиноких женщин объективна. Гипотетическое ограничение права женщины на медицинскую помощь по причине отсутствия у нее постоянного полового партнера явилось бы дискриминацией по сравнению с женщинами, которые имеют возможность получить ее только потому, что на данном этапе своей жизни имеют постоянного партнера. Добавим к этому, что одинокая женщина, обратившаяся к ВРТ, также могла иметь стабильные отношения до наступившего момента. В некоторых случаях диагноз «бесплодие» является субъективным поводом к сепарации. В случае состояния женщины-реципиента ооцитов в браке, должны быть приняты во внимание интересы ее супруга. Как правило, в программе 183 Проблемы частного права / Problems of the private law используется его сперма при условии его добровольного информированного согласия. Кроме того, в отношении рожденного в результате участия в программе донорства ребенка будет действовать п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ) [28 о записи родителями лиц, состоящих в браке и давших согласие на применение методов искусственной репродукции. Подписание информированного добровольного согласия на применение донорских ооцитов или донорской спермы на основании нотариально удостоверенной доверенности считаем допустимым только при условии, если доверенность содержит на это прямое указание. В отличие от выдачи доверенности «быть представителем по вопросу участия в программах лечения с использованием методов ВРТ, участия в программе ЭКО», что уже привело к нарушению прав одного из супругов в деле, рассмотренном Верховным Судом Российской Федерации [29]. Возникает вопрос о возможности реализации женщиной права на применение донорских гамет, если супруг не дает такого согласия. Думается, этот вопрос заслуживает внимания и дополнительного обсуждения. Полагаем, что право женщины на реализацию своей детородной природной функции обладает приоритетом. В рамках ВРТ оно сопряжено с правом на оказание медицинской помощи для лечения бесплодия. Что дает основания наделить ее законной возможностью положительного решения на применение донорских гамет, если это необходимо по медицинским показаниям, даже при отсутствии согласия супруга. При таком законодательном нововведении резонно вести речь о нарушении прав супруга, если женщина примет решение о применении донорской спермы вопреки намерениям супруга (при несогласии с донорством ооцитов супруг имеет возможность фактически и юридически не допустить участия своего биоматериала в программе). Баланс интересов, по нашему мнению, может быть восстановлен путем изменений редакции п. 4 ст. 51 СК РФ. А именно внесением в указанную норму дополнения, исключающего отцовство супруга, заявившего о несогласии с применением донорской спермы в программе искусственной репродукции. При рождении ребенка такие отношения не будут принципиально отличаться от семей, созданных одинокой матерью, вступившей в брак. Можно провести аналогию и с усыновлением ребенка одним из супругов в ст. 133 СК РФ. В отсутствие предложенных законодательных изменений наблюдается препятствие для продолжения программы ВРТ в виде отказа супруга на применение донорских гамет. Расторжение брака, по-видимому, является единственным способом продолжения участия в программе. Условия фактического выбора между лечением и сохранением брака, прежде всего, не соотносятся с основополагающим принципом сохранения семьи (ст. 1 СК РФ). К тому же развод требует времени: не менее месяца - в соответствии с п. 3 ст. 19 СК РФ, п. 2 ст. 23 СК РФ, при назначении срока для примирения до трех месяцев - п. 2 ст. 22 СК РФ. В пределах реализации своих репродуктивных прав женщина свободна принять решение о рождении ребенка не только от супруга, но и от лица, 184 Краснова Т.В. Биоэтические предпосылки гражданско-правового положения не состоящего нею в браке, что согласуется с п. 3 ФЗ «Об основах охраны здоровья...» и с принципиальным положением ст. 53 СК РФ о равенстве прав детей, рожденных в браке, и детей, рожденных вне брака при условии установления отцовства. Тем самым не вызывает сомнений необходимость изложения п. 4 ст. 51 СК РФ, неоправданно ограничивающей круг субъектов отношений по применению ВРТ требованием о состоянии их в зарегистрированном браке, в новой редакции, учитывающей «лиц, давшие свое согласие в письменной форме на применение вспомогательных репродуктивных технологий», независимо от факта регистрации брака [30. С. 72]. Формулировки, аналогичные действующим в п. 4 ст. 51 СК РФ, зарубежные ученые объясняют исключительно «историческими причинами» [31]. Необходимым условием является и добровольное информированное согласие мужчины, не состоящего в браке с пациенткой, на рождение совместного с пациенткой ребенка посредством искусственной репродукции. De lege ferenda по п. 4 ст. 51 СК РФ этот мужчина приобретет родительские права и обязанности в отношении родившегося ребенка. В настоящее время, по всей видимости, потребуется добровольное установление отцовства по п. 3 ст. 48 СК РФ. Как и в случае добровольного установления отцовства по правилам п. 3 ст. 48 СК РФ, для установления родительских прав и обязанностей мужчины, давшего согласие на применение методов искусственной репродукции женщине, не состоящей с ним в браке, не имеет юридического значения факт нахождения мужчины в зарегистрированном браке с другой женщиной. Возникающий конфликт интересов (ребенка и супруги в зарегистрированном браке) может быть осмыслен в социально-этическом контексте. Скорее всего, чаша весов склонится в пользу существующей практики с учетом международного принципа приоритета прав ребенка. В соответствии с п. 45 Приказа Минздрава России «О порядке использования ВРТ» показаниями для участия в донорской программе являются, наряду с указанными выше причинами, также неудачные повторные попытки переноса эмбрионов при недостаточном ответе яичников на стимуляцию, неоднократном получении эмбрионов низкого качества. Для интерпретации положения о «повторности» неудачных попыток принципиально важно, от кого исходит принятие решения о донорстве ооцитов: от самой пациентки или от медицинской организации, осуществляющей процедуру ВРТ. В первом случае это волеизъявление в рамках реализации своих репродуктивных прав. Если неудачная попытка переноса эмбриона явилась, по данным медицинской организации, следствием низкого качества ооцитов, донорское участие должно стать вопросом выбора уже на следующий раз. Ведь для конкретной женщины каждая следующая отсроченная попытка может быть вопросом времени, средств, избыточного гормонального воздействия, упущенных возможностей. Во втором случае донорство нередко воспринимается психологически как приговор генетическому родительству. На этом этапе женщина может 185 Проблемы частного права / Problems of the private law принять решение об отказе продолжить процедуру искусственной репродукции [32]. Для продолжения участия в программе пациентке необходима уверенность в медицинском заключении об исчерпанности повторных попыток в контексте соотношения оценки рисков для здоровья пациентки и перспектив положительного исхода очередной попытки. По этой причине представляется важным, чтобы для показания к применению донорских материалов неоднократное получение низкого качества эмбрионов было обусловлено именно низким качеством собственных ооцитов женщины, а не другими причинами (например, технического характера). Кроме того, следует определить количество таких повторных попыток. В Клинических рекомендациях 2019 г. [16] указано, что повторные неудачные попытки переноса эмбрионов, как диагноз и обоснование к изменению программы ВРТ, устанавливаются в случае: трех эпизодов у женщин моложе 35 лет, двух - у женщин 35 лет и старше. При этом недостаточным ответом на стимуляцию, по-видимому, является «бедный ответ яичников» - в Клинических рекомендациях «состояние, при котором получено менее четырех фолликулов». Таким образом, решение женщины в стремлении к сохранению «генетической линии воспроизводства» [33] должно иметь преимущество, если только не угрожает ее здоровью. С позиций медикализированной теории возникают сомнения о закрепленной в действующей редакции п. 45 Приказа Минздрава России «О порядке использования ВРТ» возможности применения донорских ооцитов вследствие естественной менопаузы. Анализируя кейсы о женщинах, родивших при помощи донорства ооцитов в 50, 60 и даже 70 лет, многие зарубежные ученые приходят к следующим выводам. По мере старения организма женщины значительно повышает риск осложнения беременности и неблагополучных исходов. Поэтому «для женщины в постменопаузе иметь ребенка - эгоистично, а также противоестественно», «это опасно как для женщины, так и для будущего ребенка» [34]. В целях защиты здоровья женщин и обеспечения наилучших интересов детей законодатель может принять решение о введении максимального возрастного ограничения для женщин, обращающихся за лечением бесплодия [35]. Полагаем, таким максимальным возрастом может стать 50 лет, так как, согласно критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), репродуктивный возраст длится с 15 до 49 лет. Такая мера представляется логичной в рамках медикализированного подхода. Будет ли корректным применение термина «бесплодие» в его медицинском значении к отсутствию возможности зачатия после наступления естественной менопаузы? Полагаем, что нет, поскольку отсутствие фертильности для женщин возраста естественной менопаузы не является заболеванием. Клиническое определение бесплодия: «... заболевание, которое характеризуется наличием препятствия к реализации репродуктивной функции» [16]. Закрепление максимального возраста зачатия с помощью донорских ооцитов будет способствовать реализации требований ответственного родительства, включающего в 186 Краснова Т.В. Биоэтические предпосылки гражданско-правового положения себя заботу о будущем ребенка, обеспечение права воспитываться в семье своих родителей. Не меньшее значение имеет нижняя планка репродуктивного возраста для оценки возможности молодой женщины участвовать в программе донорства ооцитов. В силу ст. 20 Закона «Об охране здоровья...» несовершеннолетний в возрасте от 15 до 18 лет вправе самостоятельно подписывать информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Для заключения договора на участие в ВРТ (договор на оказание медицинских услуг), в том числе с применением донорских ооцитов, в силу ст. 26 ГК РФ необходимо письменное согласие законных представителей. Тем самым собственная психологическая незрелость несовершеннолетнего не приведет к нарушению его интересов посредством вступления в донорскую программу, поскольку эта процедура юридически контролируется его законными представителями. Как уже было сказано, сам вопрос о применении донорских ооцитов может возникнуть только после диагностированного бесплодия и наличия соответствующих показаний. Думается, такие случаи потенциально крайне редки. Соответственно, нижняя планка возраста реципиента теоретически может совпадать с нижней границей репродуктивного возраста по критериям ВОЗ. Законодательно нижняя граница возраста в настоящее время не установлена. В рамках медикализированного подхода к применению ВРТ технологий в качестве реципиента ооцитов не может быть рассмотрен одинокий мужчина. Что в данном случае не является ограничением его репродуктивных прав или дискриминацией по половому признаку [5. С. 4], поскольку в базовых природных характеристиках его способностей к воспроизводству изначально отсутствует выработка ооцитов. Таким образом, реципиентом ооцитов может быть женщина в возрасте 15- 49 лет включительно, не зависимо от ее состояния в браке или наличия полового партнера, по медицинским показаниям (в том числе в отсутствие противопоказаний - Приложении А4 Клинических рекомендаций). Между реципиентом и донором ооцитов существует правовая связь, опосредованная участием медицинской организацией, осуществляющей ВРТ, и обусловленная генетическим происхождением будущего ребенка с принадлежащей ему правосубъектностью. Эта связь задает пределы осуществления прав реципиента и донора. В поле обозначенной взаимосвязи должны быть предприняты самостоятельные исследования, позволяющие сформировать комплексное представление о правовом положении участников донорства ооцитов, что является необходимым для совершенствования института донорства гамет в отечественном законодательстве.
Ключевые слова
биоэтика,
искусственная репродукция,
донорство гаметАвторы
| Краснова Татьяна Владимировна | Тюменский государственный университет | доцент, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданскоправовых дисциплин Института государства и права | krasnova-tv@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
Белова Д. А. Проблемы правового статуса эмбриона // Семейное и жилищное право. 2020. № 3. С. 6-8. doi: 10.18572/1999-477X-2020-3-6-8
Жирикова К. А. Эмбрион человека: правовой режим или правовой статус // Семейное и жилищное право. 2022. № 1. С. 3-6. doi: 10.18572/1999-477X-2022-1-3-6
Каменева З.В. Гражданско-правовой режим биологического материала человека // Вестник Российской правовой академии. 2021. № 2. С. 89-94. doi: 10.33874/2072-9936-2021-0-2-89-94
Тагард П. Междисциплинарность: торговые зоны в когнитивной науке // Логос. 2014. № 1 (97). С. 35-60.
Богданова Е.Е., Белова Д.А. Искусственная репродукция человека: поиск оптимальной модели правового регулирования. М. : Проспект, 2022. 234 с.
Мамедова Т.Р., Сыркашева А.Г., Долгушина Н.В. Акушерские и неонатальные исходы программ вспомогательных репродуктивных технологий с использованием ооцитов донора // Акушерство и гинекология. 2020. № 4. С. 31-36. doi: 10.18565/aig.2020.4.31-36
McIntosh K.L. The doctrine of the biological clock: Age-related decline in fertility and sex education // Women's Law Journal of the University of California. 2015. № 22 (1). Р. 137.
Андреева Е.Н., Абсатарова Ю.С. Терапевтические возможности в коррекции вегетативных нарушений и ановуляции при преждевременной недостаточности яичников // Российский вестник акушера-гинеколога. 2019. Т. 19, № 5. С. 61-67. doi: 10.17116/rosakush20191905161
Киракосян Е.В., Люндуп А.В., Александров Л.С. [и др.] Перспективы применения клеточных технологий в лечении женского бесплодия // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. 2020. Т. 19, № 4. С. 146-158. doi: 10.20953/1726-1678-2020-4-146-158
Yan Zhang, Xiaomei Zhou, Ye Zhu, Hanbin Wang, Juan Xu, Yiping Su. Current mechanisms of primordial follicle activation and new strategies for fertility preservation // Molecular Human Reproduction. 2021. Vol. 27, Is. 2. gaab005.
Приказ Минздрава России от 31.07.2020 № 803н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» (зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 № 60457) // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.06.2022).
Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2011. № 48. Ст. 6724; 2019. № 52. Ст. 7770.
Ильяшова Э.Ю. Опыт правового регулирования вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) во Франции // Семейное и жилищное право. 2022. № 2. С. 7-11. doi: 10.18572/1999-477X-2022-2-7-11
Кириченко К. А. О двух подходах к пониманию правовой сущности вспомогательных репродуктивных технологий // Медицинское право. 2011. № 3. С. 35-41.
Gunning J. Oocyte donation: The legislative framework in Western Europe // Human Reproduction. 1998. Vol. 13, issue suppl_2. Р. 98-102. doi: 10.1093/humrep/13.suppl_2.98
Письмо Минздрава России от 05.03.2019 № 15-4/И/2-1908 «О направлении клинических рекомендаций (протокола лечения) “Вспомогательные репродуктивные технологии и искусственная инсеминация”» (вместе с «Клиническими рекомендациями (протоколом лечения)», утв. Российским обществом акушеров-гинекологов 28.12.2018, Российской ассоциацией репродукции человека 21.12.2018) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения: 15.06.2022).
Robertson J.A. Technology and Motherhood: Legal and Ethical Issues in Human Egg Donation // Case Western Reserve Law Review. 1989. Vol. 39, Is. 1. URL: https://scholarlycommons.law.case.edu/caselrev/vol39/iss1/3
Дикова И. А. К вопросу о субъектах правоотношений в сфере применения вспомогательных репродуктивных технологий // Юрист. 2008. № 11. С. 46-51.
Слово о науке. Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты. Книга первая / сост. Е.С. Лихтенштейн. М. : Знание, 1976. URL: https://ru.citaty.net/avtory/persimon-laplas/
Акинкина Я.М. Принципы «естественного родительства» в современных семьях // Современная зарубежная психология. 2020. Т. 9, № 4. C. 103-109. doi: 10.17759/jmfp.2020090409
Кириченко К. А. Право ребенка знать своих родителей в контексте вспомогательной репродукции человека: национальные и международные тенденции // Международное публичное и частное право. 2012. № 2. С. 5-9.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 01.07.2020. № 31. Ст. 4398.
Трикоз Е.Н. Зашита прав человека в контексте развития биоэтики и геномики (обзор международного круглого стола) // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2019. Т. 23, № 1. С. 141-154. doi: 10.22363/2313-2337-2019-23-1-141-154
LOI n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384
Проект Федерального закона «О правовых основах биоэтики и гарантиях ее обеспечения». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/97802181-2?
Дулич Л.М., Вахмистров В.П. Биоэтика и биоправо: будет Ли в России закон о биоэтике? // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2021. № 3 (52). С. 38-43.
Умнова-Конюхова И.А., Алешкова И.А. Биоправо как отрасль права нового поколения // Вестник Томского государственного университета. Право. 2021. № 41. С. 98118. doi: 10.17223/22253513/41/9
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. № 1.
Определение Верховного суда Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 46-КГ 19-24.
Мурзабаева С.Ш., Павлова Ю.В. Новые законодательные подходы к реализации репродуктивного права человека на применение вспомогательных репродуктивных технологий // Проблемы репродукции. 2013. Т. 19, № 4. С. 71-74.
Treppa J.M. In Vitro fertilization by egg Donation: A Perspective on Legal Issues // Golden Gate University Law Review. 1992. Vol. 22, Is. 3. P. 7.
Усачева Е.А. Репродуктивный выбор при естественной и вспомогательной репродукции // Российский юридический журнал. 2021. № 3 (138). С. 139-149. doi: 10.34076/20713797_2021_139
Kenneth Baum. Golden Eggs: Towards the Rational Regulation of Oocyte Donation // BYU Law Review. 2001. Vol. 2001, Is. 1. URL: https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2001/iss1/1
Laopaiboon M., Lumbiganon P., Intarut N., Mori R., Ganchimeg T., Vogel J.P., Souza J.P., Gulmezoglu A.M. Advanced maternal age and pregnancy outcomes: a multicountry assessment // BJOG. 2014. Vol. 121 (Suppl. 1). Р. 49-56. doi: 10.1111/1471-0528.12659
Reynolds M. How old is too old?: The need for federal regulation setting a maximum age limit for women seeking infertility treatment // Review of the Indiana Health Care Law. 2010. Vol. 7, № 2. Р. 277.
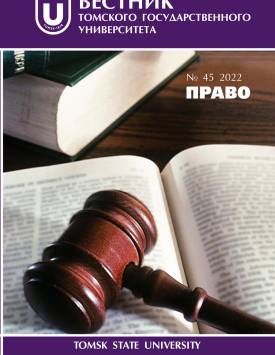

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью