Проблемы допроса потерпевших и свидетелей по делам о ятрогенных преступлениях
Рассматриваются проблемные положения организации и производства допроса по делам о ятрогенных преступлениях. Предлагаются их решения с учетом обшцх тактических положений рассматриваемого следственного действия, криминалистической характеристики данного деяния и отдельных свойств допрашиваемых лиц, а также отдельные направления концептуализации допроса названных участников уголовного судопроизводства, в частности, сопряжения функциональных проявлений личности следователя с предметнотерминологическим дискурсом, определяемым в самом обшем виде криминалистической характеристикой расследуемого преступления. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Problems of questioning victims and witnesses in cases of iatrogenic crimes.pdf Обращение к проблемам получения показаний потерпевших и свидетелей по названной категории деяний диктуется, как подчеркивается в специальной литературе, безотлагательностью решения вопроса совершенствования деятельности в сфере здравоохранения, граничащей с кардинальным ее обновлением. Исследование отдельных аспектов допроса потерпевших и свидетелей по делам о ятрогенных преступлениях лежит, прежде всего, в плоскости учета общих положений, во-первых, криминалистической тактики [1. С. 131-138], во-вторых, общих положений производства любых следственных действий и, в-третьих, общих тактических положений того или иного следственного действия, учитывая его криминалистическую природу [1. С. 131-138]. К числу общих тактических положений допроса, называемых отдельными авторами, относятся положения, касающиеся подготовки к допросу, формирования психологического контакта, оказания помощи допрашиваемому для припоминания забытого, психологического воздействия на допрашиваемого с целью преодоления установки на отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний [2. С. 8]. Круг общих тактических положений допроса, по мысли другой группы авторов, составляют активность допроса, целеустремленность следователя, учет свойств личности допрашиваемого, объективность и полнота производства названного следственного действия [3. С. 601]. Нельзя не сказать, что общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших, формулируемые этими авторами, не имеют каких-либо отличий от общих положениях тактики допроса, в равной мере применяемых к допросам иных категорий участников уголовного судопроизводства [3. С. 606-610]. Однако главное, на что обращают внимание отмеченные авторы, состоит в том, что тактика производства допроса характеризуется использованием наибольшего, по сравнению с содержанием тактики производства иных следственных действий, числа тактических приемов, разработанных с учетом положений логики, психологии и иных наук. На фоне данной мысли спорным выглядит суждение Н.И. Порубова о том, что «в допросе широко используется криминалистическая тактика, судебная психология, логика, педагогика и судебная этика» [4. С. 129]. Нетрудно заметить выхолащивание из криминалистики тактических приемов, содержанием которых являются логические, психологические, этические положения, и это при том, что такое свойство так-39 Проблемы публичного права / Problems of the public law тического приема, как рациональность, построено на положениях логики, а этичность есть еще одно из свойств тактического приема. Очевидно, что общие по своему характеру тактические положения производства допроса необходимо учитывать в целях дальнейшей концептуализации расследования ятрогенных преступлений. Едва ли не статус общих положений тактики производства допроса приобретает такое обстоятельство, как его числовое доминирование в кругу следственных действий, производимых в отечественной практике расследования преступлений. Рассуждения об исключительной распространенности допроса в сравнении с иными следственными действиями, производимыми по разной категории уголовных дел, являются в настоящее время своего рода вступлением к дальнейшей концептуализации положений названного следственного действия. Данное априорное по своему характеру суждение имеет объяснение в силу криминалистической природы (сущности) допроса как вербального следственного действия, учитывающей особенности «отражательных процессов при преобразовании словесной информации в доказательства, сопряженности такого преобразования с философско-прикладными языковыми проблемами...» [5. С. 12]. В равной мере его исключительная тактическая сложность также предопределяется сущностными характеристиками, получающими свое выражение в неоднозначных положениях психологии восприятия, удержания воспринятого в памяти и его презентации. Кроме этого, с позиции проявления механизма следообразования имеющиеся в памяти реальные представления могут заменяться ложной моделью, задействуемой в процессе противодействия расследованию. Представляется, что применительно к допросу по отдельным категориям уголовных дел следует называть еще один фактор тактической сложности, состоящей в предмете допроса как средоточии обстоятельств, требующих для их понимания специальных познаний. Этот фактор исследуется во многих науках уголовно-правового цикла: так, например, И.И. Нагорная предлагает говорить о «предметной характеристике медицинской деятельности и отдельных ее составляющих для целей уголовного правоприменения» [6. С. 11]. Такого рода предложения довольно точно отражают тенденцию развития здравоохранения, состоящую, как отмечается в специальных исследованиях, возрастанием степени внедрения в него, в условиях научно-технического прогресса, новых, более сложных методов диагностики и лечения [7. С. 4]. Системе перечисленных факторов в полной мере отвечает допрос по делам о ятрогенных преступлениях. Так, отмечается, что особенность этих деяний предопределяется такими факторами, как наличие особого субъекта преступления, обладающего специальными знаниями, специфика организации оказания медицинской помощи, своеобразие условий отображения механизма следообразования [8. С. 12]. Данные факторы в большей или меньшей мере, главным образом негативно, проявляются через призму упущений, носящих, как указывают отдельные авторы, прежде всего, нормативно-правовой характер [9. С. 251]. 40 Князьков А.С., Мазур Е.С., Фоминых И.С., Котловский М.Ю. Проблемы допроса В отечественной криминалистике особое значение небезосновательно придается положениям криминалистической ситуалогии [10. С. 11-16; 11. С. 34-39; 12. С. 11-16; 13. С. 51-57]. Нельзя не отметить случаи тщательного учета названных положений применительно к вопросам тактики производства допроса по ятрогенным преступлениям [14. С. 12-13], что позволяет выбрать наиболее оптимальное направление предварительного расследования в целом и данного следственного действия в частности. Ситуалого-криминалистические положения в равной мере необходимо учитывать и при подготовке к допросу по ятрогенным положениям, что, разумеется, позволит сделать этот допрос наиболее продуктивным, Так, А.А. Лавриненко содержанием исходной следственной ситуации при подготовке к допросу потерпевшего видит следующие обстоятельства: состояние потерпевшего в момент оказания ему медицинской помощи; перенесенные потерпевшим физические и (либо) психологические травмы; его состояние на момент организации допроса [8. С. 197]. Соглашаясь с данными положениями, полагаем, с учетом особой необходимости оперирования положениями учения о причинно-следственной связи [15. С. 75-82; 16], сказать, что в содержательном плане элементом следственной ситуации, складывающейся на этапе подготовки к допросу потерпевшего по данной категории уголовных дел, должны быть обстоятельства, указывающие на состояние данного лица до начала оказания ему медицинской помощи. Соответственно, при организации допроса свидетелей по ятрогенным преступлениям с позиции криминалистической ситуалогии в предмет этого следственного действия нужно включать состояние потерпевшего до начала производства соответствующих медицинских манипуляций. Нельзя не сказать о трудностях изучения личности свидетеля, в том числе свидетеля по делам о преступном нарушении правил лечебномедицинской деятельности. Эти трудности носят объективный характер [17. С. 13-18], они порождены сложностью системы под названием «личность» [18. С. 18]. Разумеется, что никто не оспаривает неоднократно высказываемый тезис о том, что свидетель в качестве носителя информации о событии преступления должен рассматриваться как единое целое, подлежащее криминалистическому исследованию в силу того, что оно порождает результат отображения в виде материально фиксированных отображениях и образов в сознании людей [19. С. 67], однако системное выражение любого объекта, в том числе такого сложного, как человек, в его личностных проявлениях предполагает существование многочисленных взаимосвязей как внутри объекта, так и данного объекта с другими объектами, что в определенной мере затрудняет его изучение как в науке, так и на практике. Существует множество различных классификаций (систематизаций, типологий) личности свидетелей, как общепризнанных, так и оригинальных, рамки небольшого исследования делают невозможным показ их достоинств, назовем лишь весьма неординарную классификацию, подразделяющую свидетелей на устойчивых и неустойчивых [20. С. 68]. Данная классификация имеет весьма «неустойчивое» основание, такое как склон-41 Проблемы публичного права / Problems of the public law ность свидетеля к изменению позиции в уголовном судопроизводстве: очевидно, что это всего лишь констатация факта, но не указание на качественную личностную характеристику такого субъекта. Одним из тактических положений производства допроса, как известно, является предоставление допрашиваемому лицу документов, имеющих отношение к расследуемому деянию. Разумеется, объем и виды такой документации, предъявляемой в ходе допроса свидетелей, будут больше объема и видов документации, предъявляемой потерпевшему, учитывая, что свидетелями по данной категории уголовных дел преимущественно являются медицинские работники. Как указывается в специальной литературе, такими документами при допросе последних могут быть «история болезни, карта амбулаторного больного, протокол операции, операционный журнал, карта анестезиологического пособия, анестезиологический журнал, журнал рентгеновских исследований, журнал лабораторных исследований, протокол гистологических исследований, журнал эхокардиологических исследований, перфузионная карта, перфузионный журнал, реанимационная карта, журнал патологоанатомических вскрытий, журнал анализа летальных исходов... и многие другие медицинские документы» [21. С. 47-48], например, карта вызова скорой или неотложной помощи, медицинская карта стоматологического больного, температурный листок в стационаре. В то же время, решая вопрос о предъявлении отмеченной документации свидетелям из числа работников медицинского учреждения, в котором предположительно совершено ятрогенное преступление, нельзя не учитывать возможность разглашения ими интересующих следователя вопросов, исходя из ложно понятых корпоративных интересов либо подчиненности обвиняемому (подозреваемому). Добавим, что в числе вопросов, задаваемых свидетелям из числа медицинских работников лечебного учреждения, должен быть обязательно вопрос о том, как часто лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, оказывало медицинские услуги, приводящие к трагическим последствиям, а также как часто по факту его деятельности поступали жалобы от пациентов и их родственников. В числе документов, предъявляемых потерпевшему, назовем, прежде всего, согласие пациента на оказание медицинских услуг (информированное согласие), которое нередко носит формальный характер: последний подписывает его, не вникая в суть дела. Весьма значимым тактическим положением допроса является вопрос об избрании языкового стиля общения следователя с допрашиваемым лицом. Помимо аспекта установления и поддержания психологического контакта с допрашиваемым, достигаемого понятным для названного лица терминологическим контентом общения, существует поисково-познавательный аспект специальной терминологии (к ней мы в настоящей работе не относим юридическую терминологию), избежать который объективно сложно, поскольку само содержание допроса, получившее отражение в протоколе следственного действия, а кроме того - в дополнительных формах уголовно-процессуальной фиксации его хода и результатов, требует ясного подтверждения того, что 42 Князьков А.С., Мазур Е.С., Фоминых И.С., Котловский М.Ю. Проблемы допроса предмет допроса четко определен следователем как для себя, так и для иных участников уголовного судопроизводства. Данный вопрос требует, по нашему мнению, своего рассмотрения в рамках специального научного исследования. Весьма привлекательной, на первый взгляд, выглядит так называемая идея языковой личности следователя, однако ее границы носят весьма узкий характер. Ее авторы, кладя в основу лингвистическое понимание личности, содержанием языковой личности следователя видят речевое поведение следователя, определенное его процессуальным поведением, т. е. уголовно-процессуальной функцией, которая в коммуникативном плане раскрывается через реплики и вводные слова, которыми оперирует следователь, общаясь с допрашиваемым лицом [22. С. 63-66]. Целью же специального исследования, в прогностическом плане, как представляется, будет поиск путей сопряжения функциональных проявлений личности следователя с предметно-терминологическим дискурсом, определяемым в самом общем виде криминалистической характеристикой расследуемого преступления (группы преступлений), каждый их элементов которой в большей или меньшей мере имеет собственное терминологическое описание, что весьма заметно применительно к ятрогении. Другими словами, проблема специальной терминологии в языковой личности следователя, на наш взгляд, является актуальной и еще ждет своего исследователя. При общем требовании избегать проявляющегося в практике предварительного расследования увлечения следователем специальной терминологией при производстве допроса [23. С. 45], нельзя не заметить, что при допросе по ятрогенным преступлениям не всегда можно найти общеупотребительный термин как эквивалент тому или иному медицинскому термину. На наш взгляд, выходом из ситуации тактической сложности допроса при определении предмета допроса должно быть приготовление, условно говоря, вопросов-двойников. Так, например, «двойником» вопроса «какие симптомы заболевания заставили Вас обратиться в лечебное учреждение?» будет вопрос типа «какие болезненные ощущения заставили Вас обратиться в лечебное учреждение?». Объемность вопроса о тактике производства допроса потерпевших и свидетелей может быть показана посредством его классификаций [24. С. 35-38]. Заметим, что строгость любой классификации, а следовательно ее значимости, предопределяется соответствием выбора основания классификации и проведенным в соответствии с ним разделением объема соответствующего понятия. Исходя из этого, некорректным, на наш взгляд, является выбор отдельными авторами в качестве основания подразделения допросов на допрос потерпевшего (его представителя), допрос специалиста, допрос свидетеля, допрос обвиняемого такого обстоятельства, как цель допроса [25. С. 226]. Завершая вопрос о классификациях названных допросов, можно, как представляется, разделить их в зависимости от степени влияния содержания той или иной классификации на достижение криминалистических целей следственного действия. При этом следует оговориться, что в настоя-43 Проблемы публичного права / Problems of the public law щей работе ставилась цель лишь показать наиболее общие проблемы в смысле одинакового их проявления при допросах потерпевших и свидетелей по ятрогенному преступлению любой направленности: начиная от сферы родовспоможения и заканчивая сферой реанимации. Практика свидетельствует о крайне низком уровне изучения личности потерпевшего, полагая, что преимущественно его показания носят правдивый характер и характеризуются полнотой изложения. Даже если принять этот тезис безоговорочно, необходимо тщательное установление в ходе подготовки и допроса психологических, социальных и иных свойств личности в их неразрывной совокупности [26. С. 10; 27. С. 178; 28; 29. С. 209], позволяющих создать тактическую модель его допроса, с учетом отдельных фактов невыполнения лицом назначений врача, иных нарушений режима пребывания в лечебном заведении, использования одновременно с назначенным лечением средств так называемой народной медицины и т. п. Соответственно, необходимость уточнения таких фактов должна найти отражение в предмете допроса и в подготавливаемых вариантах вопросов. В том случае, когда факты такого рода получили документальное подтверждение, следует спланировать их предъявление потерпевшему в ходе его допроса. С известной долей вероятности потерпевшие, произвольно изменившие назначение врача либо отказавшиеся следовать рекомендациям врача полностью, выберут позицию противодействия расследованию. О том, что ситуация противодействия расследованию со стороны потерпевшего как субъекта, чьи права и свободы призвано защищать уголовное судопроизводство, и, соответственно, объективно заинтересованного в такой защите, встречается довольно часто, свидетельствуют отдельные исследования. Так, отмечается, что в современной практике расследования уголовных дел случаи оказания ему противодействия со стороны потерпевших приобрели форму явления; при этом поведение последних может быть как лояльным, так и провоцирующим по отношению к следователю, а наиболее распространенным способом такого противодействия является дача заведомо ложных показаний [30. С. 3-7]. При этом не стоит забывать, как отмечают отдельные авторы, что причиной противодействия расследованию со стороны потерпевших может быть оказание на них давления со стороны заинтересованных лиц, и не только обвиняемых [31. С. 20-21]. В этом случае, как представляется, должны быть задействованы тактико-криминалистические комплексы, сущностные характеристики которых проявляются в более широких возможностях оптимизации следственной ситуации [32. С. 69-86]. Определение предмета допроса потерпевшего должно учитывать многообразие причин и условий совершения ятрогенного преступлений, в том числе наличие цепочек причинения. Для целей выяснения причин нанесенного вреда здоровью потерпевшего могут быть приняты названные в медицинской литературе критерии, при которых медицинское вмешательство генетически обусловливает наступление отмеченного вреда. Такой причинно-следственной будет связь, если: «1. При отсутствии имевшего место медицинского вмешательства динамика состояния пациента в сторону ухуд-44 Князьков А.С., Мазур Е.С., Фоминых И.С., Котловский М.Ю. Проблемы допроса шения была бы достоверно менее выражена. 2. Соответственно, неблагоприятный исход наступил бы достоверно позднее. 3. Либо характер неблагоприятного исхода при этом имел бы достоверные качественные отличия (возможно, исход был бы менее тяжким для пациента)» [33. С. 144]. Довольно развернуто содержание предмета допроса потерпевшего по рассматриваемому деянию предложено М.В. Кардашевской. Данный предмет должен, на взгляд указанного ученого, включать следующие обстоятельства, подлежащие выяснению: - страдает ли потерпевший хроническим заболеванием, если да, то каким; у какого врача лечился; какие медицинские препараты принимает и в какой дозе; по чьей рекомендации эти препараты принимаются и где в настоящий момент они хранятся; - принимал ли потерпевший какие-либо витамины или БАДы, где приобретал их и по чьей рекомендации, где в настоящий момент они хранятся; - в связи с чем и когда обратился за медицинской помощью; сколько времени прошло с момента появления первых симптомов заболевания до обращения в медицинское учреждение; принимал ли какие-либо меры для борьбы с болезнью до обращения за медицинской помощью и какие именно; - в чем именно заключалась медицинская помощь (действие врачей, другого медицинского персонала); - выясняли ли у него врач или медицинская сестра о наличии хронического заболевания, приеме лекарственных и иных препаратов, способах лечения до обращения за медицинской помощью или он сам им об этом сообщил; - в чем выражается причиненный вред здоровью и почему он считает, что этот вред наступил вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих медицинских обязанностей [34. С. 210]. Представляется, что выяснение многих из названных обстоятельств необходимо для установления причин противодействия со стороны потерпевшего, имея в виду, что в ходе лечения и оказания медицинской помощи он мог отступать от надлежащих медицинских предписаний, и эти обстоятельства по тем или иным причинам ему сообщать невыгодно. Следует заметить, что определение предмета допроса тех или иных участников уголовного судопроизводства по делам о ятрогении должен строиться с учетом видового предмета доказывания. Его содержание приводят отдельные авторы: - специальный субъект преступления (врач, фельдшер, медсестра, акушерка); - профессиональное содержание деятельности того или иного субъекта; - обстоятельства возникшей необходимости оказания медицинской помощи; - круг лиц, участвовавших в оказании медицинской помощи; - распределение между ними полномочий по оказанию соответствующей помощи; - ознакомление этих лиц с методиками, применяемыми на этапе подготовки, непосредственного оказания медицинской помощи и сопровождения полученного результата; 45 Проблемы публичного права / Problems of the public law - распределение полномочий между несколькими субъектами оказания медицинской помощи; - субъекты предшествующего оказания медицинской помощи, содержание их профессиональной деятельности; - личность потерпевшего, форма обращения в медицинское учреждение и обстоятельства его появления в нем; - факт проведения анамнеза и его содержание; - действия потерпевшего, его близких родственников и знакомых до оказания медицинской помощи, в процессе ее оказания и после получения данной помощи; - факт причинения вреда здоровью в результате оказания медицинской помощи; - причинная связь между нарушением правил оказания медицинской помощи и наступлением вреда здоровью [35. С. 71-72]. Многообразие следственных ситуаций производства допроса по делам о ятрогенных преступлениях, криминалистических классификаций потерпевших и свидетелей - участников уголовного судопроизводства по данной категории уголовных дел делают невозможным в рамках настоящей статьи развернутое изложение вопросов, касающихся использования тех или иных конкретных тактико-криминалистических приемов. Представляется возможным сослаться на группы таких приемов, имеющихся в монографических работах. Так, одной из значимых классификаций названного тактико-криминалистического средства является классификация, данная О.В. Полстоваловым, выделившим следующие группы тактических приемов: - приемы коммуникативного воздействия; - организационно-управленческие приемы; - приемы диагностического характера; - приемы обеспечения эффективности реализации иных тактических приемов; - приемы общения второго рода [36. С. 11]. В том случае, когда оказание медицинских услуг сопряжено со смертью пациента, в качестве свидетеля может быть допрошен патологоанатом. В специальной литературе приводится круг вопросов, составляющих предмет его допроса: - квалификация и опыт патологоанатома; - практикуемый порядок вскрытия, его методика, нормативная регламентация патологоанатомических вскрытий; - причина смерти лица; - наличие признаков ятрогении и их роль; - изъятые для гистологического исследования органы, способ изъятия, а также его причины; - методы гистологического исследования, обоснование их выбора и необходимого числа; - количественная оценка результатов гистологического исследования; - учет результатов дополнительных исследований [25. С. 227]. 46 Князьков А.С., Мазур Е.С., Фоминых И.С., Котловский М.Ю. Проблемы допроса Соглашаясь с перечнем выясняемых обстоятельств, следует сказать об одной значимой, на наш взгляд, проблеме, связанной с рекомендацией включать в предмет допроса паталогоанатома вопрос о том, имеются ли признаки ятрогении, т.е. признаки преступления. Дело в том, что этот вопрос является правовым и не подлежит адресации эксперту, проводящему судебную медицинскую экспертизу трупа. Соответственно, представляется необоснованным при допросе эксперта как свидетеля касаться этого вопроса, хотя бы потому, что в ходе производства экспертизы перед ним такой вопрос, при условии соблюдения уголовно-процессуального закона, не ставится. На наш взгляд, правильным будет в этом случае вопрос в следующем изложении: «Какова роль последствий оказания медицинской помощи в механизме смерти (танатогенезе)?». Собственно, о такого рода процессуальных ошибках при назначении судебно-медицинских экспертиз говорят и другие авторы [37. С. 14]. В определенной мере для подготовки и производства допросов потерпевшего и свидетелей имеет значение различение видов врачебных ошибок, к которым безоговорочно относят диагностические, организационные, тактические и технические ошибки [38. С. 104]. Названные виды врачебных ошибок были названы ранее, в том числе в монографических исследованиях. К примеру, М.М. Яковлев предлагает различать следующие виды (группы) преступных нарушений лечебно-медицинской деятельности: «1. Диагностические нарушения, представляющие собой ошибки в распознавании заболеваний и их осложнений, просмотр или ошибочный диагноз заболевания или осложнения» [39. С. 369]. Следует заметить, что по изученной нами судебной практике диагностические нарушения занимали ведущее место в числе нарушений (62% случаев). «2. Лечебно-тактические нарушения» [39. С. 370]. Нам такой вид нарушений встретился в 60% случаев (оценивая данный процент, следует учитывать, что нередко диагностические нарушения сопутствуют лечебнотактическим нарушениям). «3. Технические нарушения - просчеты в проведении диагностических и лечебных манипуляций, процедур, методик, операций» [39. С. 371]. «4. Организационные нарушения - недостатки в организации тех или иных видов медицинской помощи, необходимых условий функционирования той или иной службы» [39. С. 371]. Разумеется, не всегда ятрогения как результат неправильных действий отдельного медицинского работника связана с организационными недостатками медицинского учреждения, в котором он работает, однако это не означает, что при производстве допросов потерпевших и свидетелей вопрос об уровне организации отмеченной помощи должен выпадать из поле зрения следователя. «5. Деонтологические нарушения, в основе которых лежит нарушение принципов должного поведения врача по отношению к больному, то есть несоблюдение врачом профессиональной этики» [39. С. 371]. На наш взгляд, несмотря на важное значение рабочих отношений, выстраиваемых между медицинским работником и пациентом, такие отступления от эти-47 Проблемы публичного права / Problems of the public law ческих норм нельзя считать преступными нарушениями, хотя неэтическое поведение медицинского работника - обвиняемого может указывать на отдельные свойства его личности как элемента криминалистической характеристики ятрогенного преступления. О том, что наше мнение не лишено оснований, указывает и пример деонтологического нарушения, приведенный М.М. Яковлевым, в котором подчеркивается, что отек головного мозга больного, повлекший его смерть, явился результатом неполного обследования пациента [39. С. 372], что должно быть отнесено к диагностическим и лечебно-тактическим нарушениям правил лечебно-медицинской деятельности. Касаясь вопроса о неэтичном поведении потерпевшего, следует сказать, что примеры такого поведения нередки в медицинской практике. Оно, как свидетельствует изученный нами эмпирический материал, чаще всего проявлялось в бестактности в ходе общения с медицинскими работниками, а кроме этого - что самое главное - состояло в причинно-следственной связи с наступлением неблагоприятного исхода лечения в тех случаях, когда больной не сообщал врачу всю информацию, необходимую для постановки диагноза и лечения заболевания. По этой причине при подготовке к допросу такого потерпевшего нужно прогнозировать конфликтную ситуацию следственного действия и, соответственно, выстраивать модель тактического поведения должностного лица. В равной мере лишним будет относить к числу преступных нарушений правил лечебно-медицинской деятельности нарушения, которые допускаются при заполнении медицинской документации, проявляющиеся в малопонятных, неточных записях в медицинских документах [39. С. 372]. Сама по себе неясность текста, к которому обращаются медицинские работники в ходе выполнения лечебно-медицинских процедур, не находится в причинно-следственной связи с ятрогенией, т.е. не может выступать объективной стороной соответствующего деяния. Также, на наш взгляд, обвиняемому в совершении ятрогенного преступления нельзя будет сослаться на такого рода записи как обстоятельства, исключающие его вину, поскольку любая малопонятность в медицинском документе объективно требует действий по выяснению истинного содержания соответствующей записи как предпосылки дальнейшей лечебно-медицинской деятельности. Представляется, что в основе концептуализации допроса по делам о ятрогенных преступлениях должны лежать положения криминалистической характеристики преступления, центральное место в которых должна занимать идея механизма преступления. Механизм преступления как элемент криминалистической характеристики причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинским работником представлен получающим материальное выражение действием указанного лица, связанным с действием других лиц, прежде всего потерпевшего. Результатом являются те или иные видоизменения материальных структур организма, отображающие специфические по содержанию причинно-следственные связи. 48 Князьков А.С., Мазур Е.С., Фоминых И.С., Котловский М.Ю. Проблемы допроса Механизм рассматриваемого преступления может быть представлен в виде следующих элементов: действия врача; действия потерпевшего; дефект оказания медицинской помощи; реакция организма на дефект оказания медицинской помощи (ятрогения). С точки зрения организации оказания медицинской помощи можно говорить о своеобразном квазимеханизме ятрогенного преступления, представленном стадиями диагностирования, лечения и преемственности [40. С. 221]. Представляется, что квазимеханизм рассматриваемого преступления может быть представлен любым числом стадий с их характерными действиями. Продолжая разговор о значимости криминалистической характеристики ятрогенного преступления при организации производства допроса по данной категории уголовных дел, подчеркнем, что система ее элементов лежит в основе определения криминалистических целей этого следственного действия. Отсюда особую значимость приобретает вопрос точного перечня обстоятельств, приобретающих значение соответствующих элементов указанной криминалистической характеристики. По этой причине спорным является отнесение к названным элементам такого обстоятельства, как общественная опасность и противоправность посягательства [41. С. 26], поскольку при подготовке, совершении и сокрытии любого умышленного преступления (а не только ятрогенного) оно не коррелирует ни со способами, ни с обстановкой, ни с личностью преступника и т.д. Нельзя не заметить особенность взаимосвязи способа совершения ятрогенного преступления и личности преступника, которую нужно учитывать при подготовке к допросу и в ходе его производства. Эта особенность заключается, как справедливо отмечают отдельные авторы, в том, что «в следах преступления анализируемого вида, образующихся в организме потерпевшего, редко отображаются признаки, позволяющие идентифицировать медицинского работника как субъекта посягательства» [42. С. 208]. Очевидно, что рассмотренные фактические нарушения имеют, как правило, системный характер. Это проявляется в большинстве случаев в возникновении причинно-следственной связи действиями медицинского работника, входящими в ту или иную группу преступных нарушений лечебно-медицинской деятельности, которые выступают либо в качестве причин, либо условий наступления неблагоприятных последствий. Изучение уголовных дел показывает, что при допросе в качестве свидетелей лиц, обладающих медицинскими познаниями, следователь стремится сразу же выяснить положения, касающиеся характера и содержания профессиональной деятельности допрашиваемых либо иных лиц, например обвиняемых (подозреваемых). Имеющиеся пробелы в собственном познании специальных вопросов, наличествующие даже тогда, когда следователь максимально ответственно отнесся к получению консультаций специалистов и чтению необходимой литературы, он непроизвольно старается компенсировать быстрым переходом от вступительной стадии к вопросноответной, максимально сокращая продолжительность стадии свободного рассказа. Как общая проблема такое положение дел отмечается отдельны-49 Проблемы публичного права / Problems of the public law ми авторами [43. С. 245], и решаться она должна с учетом тактикокриминалистического значения стадии свободного рассказа [44. С. 521- 523]. В качестве тактического средства решения проблемы сложности использования специальных знаний при допросе свидетелей указывается так называемый самодопрос, который, по мысли предложивших его авторов, обеспечит проявление гражданской позиции допрашиваемых, позволит экономить время и силы следователя, и главное - повысить качество уголовного судопроизводства [45. С. 380-388]. Однако мы полагаем, что использование самодопроса (собственноручного изложения показаний лица, подвергшегося допросу) возможно лишь в случае, когда, во-первых, допрашивается субъект, обладающий медицинскими познаниями, во-вторых, когда следователь уверен в занятой соответствующим лицом позиции сотрудничества с ним. Помимо прочего, и здесь упускаются тактические возможности стадии свободного рассказа, а кроме того - многие нюансы личностного характера, проявляющиеся в ходе речевого изложения событий и выражающиеся сопутствующей мимикой, жестами, паузами и т.п. Завершая статью, следует еще раз подчеркнуть многообразие предметных проявлений преступных нарушений правил оказания медицинской помощи, требующих развернутого криминалистического изучения, в которое должны быть вовлечены многие и многие исследователи. В качестве прогностического элемента настоящего исследования в этой связи можно указать на возможность построения алгоритмов расследования ятрогенных преступлений в зависимости от вида преступного нарушения правил лечебно-медицинской деятельности.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 29
Ключевые слова
ятрогенные преступления, тактика допроса, поисковопознавательный аспект специальной терминологии, факторы тактической сложности допросаАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Князьков Алексей Степанович | Томский государственный университет | заведующий кафедрой, доктор юридических наук, доцент кафедры криминалистики Юридического института | ask011050@yandex.ru |
| Мазур Екатерина Сергеевна | Томский государственный университет | доктор медицинских наук, профессор кафедры криминалистики Юридического института | eksm1@mail.ru |
| Фоминых Илья Сергеевич | Томский государственный университет | кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики Юридического института | fomis2001@mail.ru |
| Котловский Михаил Юрьевич | Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения | главный научный сотрудник отдела научных основ организации здравоохранения | m.u.kotlovskiy@mail.ru |
Ссылки
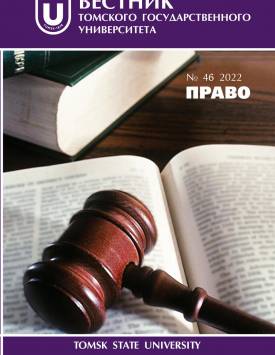
Проблемы допроса потерпевших и свидетелей по делам о ятрогенных преступлениях | Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2022. № 46. DOI: 10.17223/22253513/46/3
Скачать полнотекстовую версию
Полнотекстовая версия
Загружен, раз: 111

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью