Сокращенные сроки апелляционного обжалования промежуточных судебных решений, вынесенных на досудебном этапе уголовного судопроизводства
Определен критерий отнесения промежуточных судебных решений - ограничения права на свободу и личную неприкосновенность, - вынесенных на досудебном этапе уголовного судопроизводства, к числу решений, подлежащих обжалованию в сокращенный срок. Предложено дополнить перечень таких решений постановлением суда о помещении лица в стационар для производства судебной экспертизы. Рассмотрены подходы к исчислению суточных сроков, обоснована необходимость внесения изменений в ст. 128 УПК РФ.
Shortened timeline of appeal against interim court decisions made at a pre-trial stage of criminal proceedings.pdf Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность обжалования в апелляционном порядке до вынесения итогового судебного решения ряда промежуточных судебных решений, вынесенных в ходе досудебного производства (ч. 1 ст. 127 УПК РФ) [1. С. 3]. При этом в ч. 3 ст. 389.2 УПК РФ приводится перечень таких решений, среди которых постановления об избрании меры пресечения, продлении сроков ее действия, о помещении лица в медицинскую организацию для производства судебной экспертизы в стационарных условиях, о наложении ареста на имущество и ряд других, и устанавливается, что самостоятельному обжалованию подлежат судебные решения, затрагивающие права граждан на доступ к правосудию, на рассмотрение дела в разумные сроки, препятствующие дальнейшему движению дела. Пленум Верховного Суда РФ выделил еще один критерий: промежуточное решение может быть обжаловано в апелляционном порядке до вынесения итогового, если оно нарушает конституционные права участников уголовного судопроизводства [2], позднее разъяснив, что указанные правила распространяются на решения, вынесенные на досудебном этапе уголовного судопроизводства в порядке, предусмотренном ст. 165 УПК РФ [3]. При этом Конституционный Суд РФ обоснованно обратил внимание на то, что возможность обжалования таких решений до вынесения итогового 1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-311-90018. Сокращенные сроки апелляционного обжалования 39 обусловлена невозможностью в некоторых случаях восстановления конституционных прав граждан в полном объеме после вынесения последнего [4]. Между тем следует обратить внимание на то, что эти права различны по критерию их «восполнимости», т.е. возможности восстановить их частично или в полном объеме в том случае, когда суд апелляционной инстанции признает незаконным и (или) необоснованным промежуточное решение, которым право нарушено. Так, невосполнимым является право на свободу и личную неприкосновенность. Отнесение права к невосполнимым требует оперативного установления и устранения возможных последствий его ограничения. В этой связи для обжалования промежуточных решений, вынесенных на досудебном этапе уголовного судопроизводства, помимо общего 10-суточного срока апелляционного обжалования (ч. 1 ст. 389.4 УПК РФ) установлен также сокращенный 3-суточный срок (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). Сокращенный срок апелляционного обжалования установлен для такой меры пресечения, как заключение под стражу (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). Между тем, как следует из норм уголовно-процессуального закона, указанная мера пресечения не является единственной. УПК РФ содержит ряд норм отсылочного характера, которые ориентируют правоприменителей на порядок избрания, применения меры пресечения, ее обжалования. При этом законодатель использует разные формулировки. Так, в соответствии с ч. 5 ст. 105.1 УПК РФ постановление судьи (об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий, о возложении дополнительных запретов на подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого применена мера пресечения в виде запрета определенных действий, об отказе в удовлетворении ходатайства об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в виде запрета определенных действий) подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном ч. 11 ст. 108 УПК РФ, т.е. в сокращенный трехсуточный срок. Согласно ч. 3 ст. 107 домашний арест в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого по решению суда в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ. Формулировка, аналогичная последней, используется и в ч. 2 ст. 106 УПК РФ: «...залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого по решению суда, в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ». И если возможность обжалования меры пресечения в виде домашнего ареста в сокращенный срок вопросов не вызывает, так как ею ограничивается право на свободу и личную неприкосновенность, то распространение этого правила на меру пресечения в виде залога требует внимания. Из буквального прочтения норм следует, что предусмотренный ч. 11 ст. 108 УПК РФ порядок обжалования распространяется в том числе на случаи обжалования постановлений суда о применении меры пресечения в виде залога. С другой стороны, такой вывод не находит подтверждения ни в позициях Пленума Верховного Суда РФ, ни в судебной практике. П.О. Герцен 40 Так, в соответствии с п. 52 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий» указанный сокращенный срок в силу ч. 5 ст. 105.1, ч. 3 ст. 107, ч. 11 ст. 108 и ч. 8 ст. 109 УПК РФ распространяется на апелляционное обжалование постановлений суда «об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий, о продлении срока действий данных мер пресечения, об отказе в этом на досудебном этапе производства по делу» [5]. И такая позиция Пленума Верховного Суда РФ заслуживает поддержки. Представляется, что в данном случае при определении срока апелляционного обжалования следует исходить из природы ограничений прав граждан при применении меры пресечения. Сущность ограничений при применении меры пресечения в виде залога существенно отличается от ограничений прав, связанных с применением запрета определенных действий, домашнего ареста, заключения под стражу. Как отмечает Н.В. Ткачева, «при применении залога не нарушается личная свобода обвиняемого, не ограничивается его право свободного передвижения, он не ограничивается в общении с другими членами общества, не прекращает трудовую деятельность» [6. С. 203]. Действительно, мера пресечения в виде залога предполагает ограничение только одного права - права собственности. При этом, согласно позиции Конституционного Суда РФ, «применение данной меры пресечения допускает ограничение права собственности в части владения, пользования или распоряжения заложенным имуществом и не предполагает лишения залогодателя права собственности на него» [7]. Как следствие, в силу последующей восполни-мости права собственности отсутствует необходимость в «ускоренном» порядке подачи и рассмотрения жалобы (представления) на постановление суда о применении меры пресечения в виде залога. Положительно оценивая такое решение, А.С. Червоткин отметил, что меры пресечения «затрагивают конституционные права человека на свободу и личную неприкосновенность, поэтому подлежат ускоренному рассмотрению» [8. С. 251]. Защита же иных конституционных прав граждан, хоть и является не менее важной, все же не требует такой быстрой реакции государства, а значит, и не предполагает сокращенных сроков обжалования. В этой связи необходимо уточнить положения ч. 2 ст. 106 УПК РФ и привести их в соответствие с позицией Пленума Верховного Суда РФ и фактически сложившейся судебной практикой, при этом использовать следующую формулировку: «Залог в качестве меры пресечения применяется в отношении подозреваемого, обвиняемого, в порядке, установленном ст. 108 УПК РФ. Постановление об избрании в качестве меры пресечения залога может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные гл. 45.1 УПК РФ». Таким образом, действие нормы о сокращенном сроке обжалования должно распространяться на решения суда первой инстанции о примене- Сокращенные сроки апелляционного обжалования 41 нии мер пресечения, ограничивающих право на свободу и личную неприкосновенность, «относящихся к числу основных прав человека и воплощающих наиболее значимое социальное благо» [9]: запрет определенных действий, домашний арест, заключение под стражу. В целом такой порядок согласуется и с положениями Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция). Так, п. 4 ст. 5 Конвенции предусмотрено положение о «безотлагательности рассмотрения жалобы о правомерности содержания под стражей» [10]. Как следует из решений Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ), стандарт безотлагательности при этом подразумевает как возможность в кратчайшие сроки после заключения под стражу инициировать производство по проверке его законности [11], так и незамедлительное рассмотрение такой жалобы [12]. ЕСПЧ также указывает на важность безотлагательного рассмотрения жалобы в тех случаях, когда в отношении лица еще не завершено предварительное расследование, «чтобы оно могло в полной мере извлечь выгоду из презумпции невиновности» [13]. В то же время, исходя из анализа решений ЕСПЧ, положения Конвенции о безотлагательности рассмотрения жалобы распространяются не только на случаи обжалования решений о заключении под стражу, о помещении под домашний арест [14], но также и на решения о помещении в стационар для производства экспертизы [15], относя, таким образом, последние к числу решений, которыми ограничивается право на свободу и личную неприкосновенность в понимании ст. 5 Конвенции. При этом ЕСПЧ подчеркивает, что п. 4 ст. 5 Конвенции гарантирует лицам, помещенным в психиатрическое или медицинское учреждение на неопределенный или длительный срок, право на безотлагательное обжалование и пересмотр соответствующих решений национальных органов относительно законности ограничения их свободы [16]. Эта позиция ЕСПЧ не была в центре внимания российского законодателя. УПК РФ не предусмотрена безотлагательная процедура обжалования решений суда о помещении подозреваемого, обвиняемого, не содержащегося под стражей, в стационар для производства психиатрической или медицинской экспертизы. Обжалование такого решения производится в общем порядке, т.е. в 10-суточный срок со дня вынесения решения. При этом помещение лица, не содержащегося под стражей, в стационар для производства экспертизы имеет все признаки лишения или ограничения свободы: «...ограничивает физическую свободу лица, предполагает принудительное выдворение из привычной среды, изоляцию от общества, принудительное содержание в замкнутом пространстве и т.д.». [17. С. 90]. Кроме того, такое ограничение свободы может носить длительный характер. Согласно ст. 30 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» «.лицо может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, для производства судебно-медицинской или судебнопсихиатрической экспертизы на срок до 30 дней». По мотивированному П.О. Герцен 42 ходатайству эксперта или комиссии экспертов срок нахождения лица в медицинском учреждении может быть продлен судом на 30 суток. В исключительных случаях допускается повторное продление указанного срока, при этом максимальный срок пребывания подозреваемого, обвиняемого в стационаре не должен превышать 90 суток, т.е. 3 месяца [18]. В этой связи представляется необходимым включить в перечень промежуточных решений, подлежащих обжалованию в сокращенный 3-суточный срок, постановление суда о помещении в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства судебной экспертизы, а равно постановление суда о продлении срока нахождения лица в таком медицинском учреждении, так как этими решениями ограничивается конституционное право на свободу и личную неприкосновенность, что требует оперативной проверки их законности. Тесно связанной с проблемой отнесения промежуточных решений к числу тех, которые обжалуются в сокращенные сроки, является проблема определения правил исчисления такого сокращенного срока. Срок апелляционного обжалования носит пресекательный характер, и по его истечении становится невозможной подача апелляционной жалобы (представления), а значит, и реализация права на судебную защиту. В связи с этим должны быть установлены правила исчисления суточных сроков, в том числе правила определения момента начала течения срока и момента его окончания. В УПК РФ отсутствует норма, закрепляющая правила исчисления срока в сутках. Статья 128 УПК РФ содержит указание на исчисление сроков месяцами: не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока, - а также определяет момент окончания срока, исчисляемого сутками, - в 24 часа последних суток. Момент же начала течения суточного срока уголовно-процессуальным законом не определен. В связи с наличием такой правовой неопределенности возможно несколько подходов к исчислению сроков в сутках. Широкое распространение, в том числе в судебной практике, получил подход, в соответствии с которым исчисление срока начинается в день, следующий за днем вынесения судебного решения. Так, Приморский краевой суд, рассматривая апелляционную жалобу на отказ в восстановлении пропущенного срока указывает: «Исходя из того, что постановление суда вынесено 14.05.2020, жалоба должна была быть подана до 18.05.2020» [19], т.е. не учитывает сутки, в которые было вынесено судебное решение. В другом случае Красноярский краевой суд указал: «Из представленного материала следует, что постановление Центрального районного суда г. Красноярска от 21.09.2018 получено Равнушкиным А.В. 21.09.2018, о чем в материале имеется расписка (л.м. 62). Соответственно, последний день подачи апелляционной жалобы выпадает на 24.09.2018» [20]. Придерживаясь данного подхода к исчислению суточных сроков, Д.А. Воронов отмечает, что срок, исчисляемый сутками, в уголовном про- Сокращенные сроки апелляционного обжалования 43 цессе может превышать фактически пройденное время, но никогда не может быть менее периода времени, равного количеству полных суток, отведенных законом для производства тех или иных процедур [21. С. 38]. Такой подход к исчислению сроков закреплен в УПК ряда зарубежных стран, например в УПК Белоруссии, Федеративной Республики Германия, Албании, Лихтенштейна и др. По уголовно-процессуальному законодательству Республики Беларусь «срок, исчисляемый сутками и месяцами, начинает течь с нуля часов следующих суток и истекает в 24 часа последних суток или последнего числа соответствующего месяца» [22]. В свою очередь, в соответствии с §6 Criminal Procedure code of the Principality of Lichtenstein «при исчислении срока не берется в расчет тот день, которым начато течение срока» [23]. Ранее аналогичные правила исчисления сроков были использованы законодателем в ст. 103 УПК РСФСР: «...при исчислении сроков не принимаются в расчет тот час и сутки, которыми начинается течение сроков». Критикуя данный подход к исчислению суточных сроков, О.В. Шипу-нова отмечает, что недопустимо расширительно толковать процессуальную норму ч. 1 ст. 128 УПК РФ и распространять правила исчисления месячных сроков на суточные. При этом предлагается другой поход, в соответствии с которым «при исчислении сроков сутками по действующему уголовно-процессуальному закону необходимо учитывать текущий час, а иногда -даже текущие минуты» [24. С. 348]. Таким образом, первые сутки истекут в 24 часа даты, в которую возник юридический факт, начавший течение срока. Как представляется, такой подход существенно сокращает срок на совершение процессуального действия (в частности, на составление и подачу апелляционной жалобы), что может повлечь за собой ограничения права лица на судебную защиту. Существует и третий подход к исчислению сроков, предложенный отечественными учеными-процессуалистами, а также получивший широкое распространение в уголовно-процессуальном законодательстве ряда зарубежных государств. Так, К.Б. Калиновский предлагает применять расширительный подход к исчислению сроков в случае, когда это благоприятствует защите личности в уголовном процессе, но «если же фактическое продление срока до 24 часов последних суток умаляет права личности, то срок должен заканчиваться в соответствующий астрономический час», т.е. должна учитываться та часть суток, которая следует за юридическим фактом, влекущим начало течение срока [25. С. 141]. О необходимости введения такого дифференцированного подхода в исключительных случаях говорит и А.А. Рукавишникова [26. С. 324]. Дифференцированный подход к исчислению срока содержится в УПК ряда стран ближнего зарубежья. В частности, в УПК Республики Казахстан установлено общее правило, в соответствии с которым при исчислении сроков не принимаются в расчет тот час и те сутки, которыми начинается течение срока. Однако общее правило не распространяется на исчисление сроков при «задержании, содержании под стражей, домашнем аресте и на- П.О. Герцен 44 хождении в медицинском учреждении или организации образования с особым режимом содержания» (ч. 2 ст. 48 УПК Казахстана) [27]. Аналогичная норма содержится в УПК Украины, в соответствии с ч. 5 ст. 115 которого «при исчислении сроков днями и месяцами не учитывается тот день, с которого начинается срок, за исключением сроков содержания под стражей, проведения стационарной психиатрической экспертизы, в которых засчитывается нерабочее время и которые исчисляются с момента фактического задержания, заключения под стражу или помещения в соответствующие медицинское учреждение» [28]. Момент окончания срока при этом определен как 24 часа последнего дня срока (ч. 3 ст. 115 УПК Украины). Вместе с тем дифференцированный подход неоднократно подвергался критике. Как отмечают П.В. Козловский и Е.Н. Чемерилова, «сам по себе порядок исчисления сроков нейтрален и не может меняться в зависимости от интересов стороны защиты. Это создает правовую неопределенность и нарушает принцип равенства сторон» [29. С. 30]. Другие авторы указывают на то, что «некорректно ставить способ исчисления сроков в зависимость от интересов и ограничения прав отдельных участников. Подобная практика ведет к нарушению процессуальной формы и единообразия в применении уголовно-процессуального закона» [30. С. 35]. Действительно, установление дифференцированного подхода к исчислению суточного срока, особенно когда речь идет об исчислении сокращенного 3-суточного срока апелляционного обжалования мер пресечения, может повлечь за собой необоснованное ограничение прав участников процесса. Между тем подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и другие лица должны иметь достаточно времени на получение квалифицированной юридической помощи, самостоятельное или с помощью защитника / представителя составление апелляционной жалобы, подготовку дополнительных материалов (характеристик, медицинских справок и т.д.). В тех же случаях, когда при исчислении срока будет учитываться день вынесения решения в качестве первых суток срока, подозреваемому, обвиняемому может просто не хватить времени на подачу апелляционной жалобы. Кроме того, представляется неясным, каким образом определить, в каких случаях защита прав участников процесса требует усеченного подхода к исчислению срока, а в каких расширительного. Таким образом, предпочтительным, на наш взгляд, является первый подход к исчислению суточных сроков. Вследствие вышесказанного предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 128 УПК РФ и изложить ее в следующем виде: «Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются часами, сутками, месяцами. При исчислении сроков не принимаются во внимание тот час и те сутки, которыми начинается течение срока. При исчислении сроков заключения под стражу, домашнего ареста, запрета определенных действий и нахождения в медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, в них включается и нерабочее время».
Ключевые слова
апелляционное обжалование,
обжалование промежуточных решений,
исчисление сроков,
сокращенные срокиАвторы
| Герцен Полина Олеговна | Томский государственный университет | аспирант кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности, младший научный сотрудник лаборатории социально-правовых исследований Юридического института | stenwaysfiringlight@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Артамонов А.Н., Седельников П.В. Исчисление срока при производстве по уголовному делу // Законодательство и практика. 2011. № 1. С. 34-35.
Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 № 4651-VI (с изм. и доп. на 27.04.2021). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31197178 (дата обращения: 10.08.2021).
Козловский П.В., Чемерилова Е.Н. Исчисление процессуального срока сутками // Законодательство и практика. 2016. № 2. С. 30-31.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан 04.07.2014 № 231-V (с изм. и доп. на 11.07.2021). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 10.08.2021).
Рукавишникова А.А. Срок обжалования судебного решения в апелляционном порядке и порядок его исчисления // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / науч. ред. О.И. Андреева, Т.В. Трубникова. Томск : Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2018. С. 318-324.
Калиновский К.Б. Процессуальные сроки в уголовном судопроизводстве и их регламентация по уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации // Ленинградский юридический журнал. 2005. № 2. С. 139-145.
Шипунова О.В. Какие сутки считать первыми? (на примере анализа части 1 статьи 144 УПК РФ) // Новое слово в науке: перспективы развития. 2015. № 3. С. 346-348.
Criminal Procedure code of the Principality of Lichtenstein. 1988. URL: https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/18/Liechtenstein/show (accessed: 10.08.2021).
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16.07.1999 № 295-З. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30414958 (дата обращения: 10.08.2021).
Воронов Д.А. Исчисление уголовно-процессуальных сроков сутками // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2011. № 2. С. 37-39.
Апелляционное постановление Красноярского краевого суда № 22-3744/2020 по делу № 4-183/2018 от 07.07.2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/zyVKgLbO9dUR/(дата обращения: 10.08.2021).
Апелляционное постановление Приморского краевого суда № 22К-3165/2020 по делу № 3/2-12/2020 от 27.08.2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/regular/doc/jLbB9sNS1qUN/(дата обращения: 10.08.2021).
О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ // Г арант : информационно-правовой портал. URL: https://base.garant.ru/12123142/(дата обращения: 10.08.2021).
Case of Musail c. Poland : judgment 25.03.1999 (application № 24557/94) // European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.mt/eng?i=001-58225 (accessed: 10.08.2021).
Лавдаренко Л.И. Принцип свободы и личной неприкосновенности в уголовном судопроизводстве. Иркутск : Иркут. юрид. ин-т (филиал) Акад. Г ен. прокуратуры РФ, 2016. 123 с.
Case of Petukhova v. Russia : judgment 02.05.2013 (application № 28796/07) // European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-119046 (accessed: 10.08.2021).
Case of Pekov v. Bulgaria : judgment 01.03.1999 (application № 50358/99) // European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/rus?i=001-72950 (accessed: 10.08.2021).
Case of Idalov v. Russia : judgment 22.05.2012 (application № 5826/03) // European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110986 (accessed: 10.08.2021).
Дело «Щербаков против Российской Федерации (№ 2)» : постановление Европейского Суда по правам человека от 24 октября 2013 г.(жалоба № 34959/07) // Министерство внутренних дел РФ. URL: https://мвд.рф/upload/site58/pravo/evrosud/Sherbakov.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
Case of Molotchko v. Ukraine : judgment 26.04.2012 (application № 12275/10) // European Court of Human Rights. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-110722 (accessed: 10.08.2021).
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколы к ней // Собрание законодательства РФ. 1998. № 20.
Червоткин А.С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве. М. : Проспект, 2018. 376 с.
По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Костромина : постановление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2018 г. № 12-П // Гарант : информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71803858/(дата обращения: 10.08.2021).
По делу о проверке конституционности положений статей 106, 110 и 389.2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Филиппова : постановление Конституционного Суда РФ от 17 июня 2021 г. № 29-П // Конституционный Суд РФ. URL: http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision541149.pdf (дата обращения: 10.08.2021).
Ткачева Н.В. Залог как мера пресечения, применяемая по судебному решению // Вестник Омского Университета. Сер. Право. 2008. № 1. С. 202-203.
О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 // Гарант : информационно-правовой портал. URL: https://base.garant.ru/70548674/(дата обращения: 10.08.2021).
По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.1998 № 20-П // Гарант : информационноправовой портал. URL: https://base.garant.ru/1351546/(дата обращения: 10.08.2021).
О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 // Гарант : информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71589794/(дата обращения: 10.08.2021).
О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 // Гарант : информационно-правовой портал. URL: https://base.garant.ru/70268882/(дата обращения: 10.08.2021).
Андреева О.И., Рукавишникова А.А. Реформированное производства в суде кассационной инстанции: соотношение частного и публичного начал // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 3. С. 3-7.
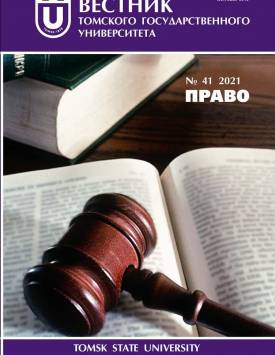

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью