Выявляются современные тенденции трансформации экологического права, обусловленной глобальным, наднациональным характером существующих вызовов и угроз. По результатам проведенного исследования формулируется вывод о том, что специфика произошедших в 2020 г. экологических событий требует кардинального пересмотра парадигмы экологического права, реализации новой современной природоохранной политики, разработки экологических нормативов с учетом наилучших существующих технологий, перехода от концепции «регулирования отрицательного воздействия» хозяйственной деятельности на окружающую среду к новой концепции получения технологических преимуществ от использования экологических технологий.
Transformation of environmental law: theoretical and legal aspects.pdf Проблемам трансформации права в настоящее время уделяется повышенное внимание, главным образом в контексте необходимости преодоления цивилизационного кризиса [1], вместе с тем проблемы трансформации экологического права до настоящего времени не нашли своего отражения в научных трудах ведущих ученых-экологов. Использование термина «трансформация» применительно к праву может означать новое явление, не укладывающееся в определения «изменения», «улучшения», «развитие». Например, изменение содержания права под воздействием цифровых технологий предполагает, что право, вероятно, трансформируется в иной социальный регулятор, возможно, в программноаппаратный комплекс или некий гибридный феномен [2]. Но современная трансформация права, на наш взгляд, это и цифровизация права [3], и имплементация международного и зарубежного права в национальное законодательство [4], и даже глубокое, резкое, принципиальное преобразование, изменение вида, формы права, превращение экологического права фактически в институт выживания. Современные исследования в области философии и методологии права несколько оторваны от реальных проблем трансформации экологического права. Однако стоит отметить несколько позиций, на которые нельзя не 1 Статья выполнена в рамках государственного задания 075-00293-20-02 от 25.05.2020 «Трансформация российского права в условиях больших вызовов: теоретикоприкладные основы. Номер темы - FSMW2020-0030». Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов 150 обратить внимания. Концентрация внимания как политиков, так и юристов на различных прогнозах экономического и экологического развития человечества привела к неоправданно «алармистским» государственно-правовым теориям. На наш взгляд, экологические и технологические катастрофы, вызовы глобализации, идеи «шестой промышленной революции» не могут быть основой для трансформации права, но могут стать одной из возможных ветвей «кризисного регулирования». Не вдаваясь в дискуссию о далеком будущем права, отметим, что трансформация экологического права не входит в предмет рассмотрения теории и философии права, однако трансформация затрагивает целевую функцию и идеологию права, так как трансформация - целенаправленный процесс, ведущий не к отмене права, а к его совершенствованию. Важно иное - позитивистская основа трансформации. Если трансформация в большой мере волевой процесс, то ее цели должны быть конструктивными и формирующими положительный тренд. В случае экологического контента этот тренд на «сопряженное развитие» должен выступать не в качестве красивого лозунга, а в качестве прагматической цели. Здесь мы согласны с позицией, согласно которой «для динамического правопонимания характерны рассмотрение права как социального явления, поиск онтологических истоков права во внешних по отношению к нему феноменах, прежде всего в совместном существовании людей» [5. С. 81]. Основания для такого подхода были заложены еще в правовой феноменологии А. Райнахом (учение о социальных актах), Н.Н. Алексеевым (нормативные факты), Г. Гуссерлем (экстраординарные события) и т.д. В отличие от классических взглядов на право как должное, которое с безопасной дистанции регулирует сущую действительность, с позиций динамического правопонимания право как процесс его воспроизводства оказывается укорененным в той самой реальности, которую призвано упорядочить право [6. С. 60]. «Укорененная реальность» и «динамическое правопонимание» - это категории, которые применимы к трансформации экологического права. Трансформация предполагает критический подход к «укорененной реальности» антропоцентризма и использование «динамического правопонимания» как основы для изменения правовых норм и правовых институтов, их реальной «экологизации». Происходят ли принципиальное преобразование содержания, изменение вида, формы экологического права? Если да, то в каких областях, каким образом, и какое влияние оказывает возможная трансформация экологического права на область эколого-правового регулирования? Это и есть главный вопрос, ответ на который является целью настоящего исследования. Почему возникла такая постановка проблемы, зачем вообще вводить термины не устоявшиеся, не очевидные, не практичные? Какая польза / вред для права в признании или непризнании самого факта «трансформации права»? На взгляд многих экспертов, существуют сотни проблем Трансформация экологического права 151 в экологическом праве, более актуальных и более срочных, поэтому дискуссия о «трансформации» экологического права или ее «диффузии» [7. С. 140] не столь актуальна. Право не существует само по себе, оно - часть политики, экономики, управления, культуры. Право, с одной стороны, - «искаженное отражение действительности» [8], с другой стороны, право меняет (как минимум упорядочивает) эту действительность и участвует в формировании будущего. Для политики, экономики, управления право - это понятный и доступный язык, инструмент, форма и метод реагирования на внешние перемены (обстоятельства). Но если принять за факт наступившее время глубокой трансформации в экономике, политике, экологии, технологиях, международных отношениях, то логично признать, что и экологическое право нуждается в адекватных изменениях, т.е. столь же глубокой трансформации. Задачи эффективной реализации экологического права требуют «обновления концепции его развития, переосмысления накопленного опыта, учета постоянных и временных, традиционных и новых факторов, влияющих на его содержание, структуру, формы правотворчества» [9. С. 9]. С другой стороны, если управление (политика, экономика) не изменяются, не адекватны трендам развития, не формируют будущее, то это означает и неизменность (стагнацию, деградацию) права как части государственного механизма. Другими словами, наряду с необходимостью и наличием очередных (планово предсказуемых) изменений в праве необходимы более глубокие, более качественные, более решительные изменения. Почему важно исследовать феномен трансформации права именно в экологическом праве? Экологическое право во многом интернационально, одновременно и глобально, и локально, правовые экологические нормы очень часто трансформируются из естественных законов (например, фундаментальное право на жизнь в полной мере относится к экологическому праву), возможные катастрофы, чрезвычайные ситуации, кризисы тоже очень часто имеют природный характер и регулируются нормами экологического права. Можно привести много убедительных примеров тесной связи экологического права и основных трендов развития, но важно другое - публикуемые статистические данные о состоянии окружающей среды и ее отдельных компонентов в нашей стране и в мире свидетельствуют о серьезных недостатках в системе реализации экологической политики. Среди наиболее часто встречающихся терминов, отображающих положение экологического права в контексте направлений возможной трансформации (в текущем десятилетии) можно выделить следующие: «экологическая политика», «вызовы», «угрозы», «технологии», «глобальные изменения», «экологические технологии», «экологическое нормирование», «наилучшие доступные технологии». Вне точек зрения и правдивости оценок можно смело констатировать: эксперты, политики, население сходятся в одном - мир на пороге глобальных экологических перемен (трансформаций). Но если радикальные изме- Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов 152 нения будут в политике, экономике, технологиях, во всех сферах жизни, то как они могут не затронуть право, именно в радикальном измерении. Другими словами, трансформация экологического права - это не только внутренняя потребность, но и жесткая необходимость приспособления к новым реалиям жизни в современном мире. В чем же может (или должна) проявиться радикализация экологической составляющей «устойчивого развития», что потребует трансформации экологического права? Или, иначе говоря, какие события и проблемы потребуют достаточно кардинальной смены парадигмы экологического права? Перечень событий (проблем) может быть бесконечным, и их классификация (выделение) носит достаточно условный характер, тем не менее выделим четыре ключевых глобальных и внутренних вызова: - глобализация экологических проблем: климат, биоразнообразие, опустынивание, нехватка водных ресурсов, загрязнение, отходы; - развитие синтетической биологии, биоинженерии, пищевой индустрии, образа жизни, отдыха; - развитие альтернативной энергетики, изменение технологий добычи полезных ископаемых, утилизации (рециркуляции) отходов; - цифровизация, роботизация, появление искусственного интеллекта. Перечень вызовов, так же как и перечень целей экологического развития и экологической безопасности, может быть и кратким, и обширным, и стабильным, и меняющимся, но никто не будет оспаривать их наличие, важность, срочность, влияние на экономику, экологию, политику, право. Если трансформация экологического права как процесс объективирована самой природой внешних и внутренних вызовов и угроз, то как должна выглядеть эта трансформация и в чем она должна проявляться? Ответ частично содержится в документах стратегического планирования, где весьма подробно описаны и угрозы, и вызовы, и цели, и задачи, стоящие прямо и опосредовано перед экологическим правом. Основная идея трансформации экологического права состоит в переходе от концепции «регулирования отрицательного воздействия» хозяйственной деятельности на окружающую среду к концепции технологических преимуществ, экологических технологий и «зеленой» экономики. Право, в том числе экологическое право, не может одномоментно «трансформироваться», отменяя прежние нормы и вводя новые. Трансформация экологического права - длительный и постепенный процесс изменений. Сложность трансформации экологического права проистекает из многих особенностей и характеристик, в частности из того, что экологические нормы содержатся практически во всех отраслях права и составляют, хотя формально и не кодифицированный, но близкий к этому по существу свод законов и правил экологической направленности. Трансформация в экологическом праве не только затрагивает всю правовую систему, но и требует определенных изменений в информационном (мониторинг окружающей среды), техническом нормировании, стандартизации, технологическом нормировании, пространственном развитии, эко- Трансформация экологического права 153 номической, энергетической политике, во всей системе экологических правоотношений. Например, важнейшая, на наш взгляд, область правового регулирования, где должна происходить ускоренная трансформация экологического права, - это синтетическая биология, биоинженерия. В Указе Президента РФ от 11.03.2019 № 97 «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу» обозначена основная биологическая угроза (опасность) - «бесконтрольное осуществление опасной техногенной деятельности, в том числе с использованием генноинженерных технологий и технологий синтетической биологии». Биологические опасности традиционно были «предметом ведения» медицины, но, как показала практика, это область и экологического права, и медицинского права, и экономики, и политики [10. С. 10]. Трансформация эколого-правовых норм должна охватывать новые области регулирования, новые подходы к пониманию безопасности, новые формы ответственности. Правовое регулирование биологической безопасности, особенно при создании синтетических форм жизни, требует современной системы экологического права, включения в него нормативов оценки рисков последствий в области синтетической биологии. Экологическое право должно стать частью системы предупреждения опасности инфекционных эпидемий, потенциальной опасности синтетической биологии, рассматривающей организмы как генетически программируемые вещи, которые создаются и переделываются. Синтетическими биологами создается новая жизнь, новая экосистема, новая техно-биологическая реальность - и это тоже компетенция экологического права, это вызов для правового регулирования вообще и для экологического права в частности. Прогресс в данной области невероятно ускоряется, рост числа вовлеченных в синтетическую биологию ежегодно растет, мощность компьютерной техники позволяет без лабораторных исследований использовать только компьютер для генетических манипуляций. В каких направлениях и каких формах возможна трансформация экологического законодательства под воздействием требований биологической безопасности? Во-первых, путем «гармонизации» с документами стратегического планирования и нормативными актами, затрагивающими вопросы безопасности, включения как в документы стратегического планирования, так и в законы статей и положений, отражающих ценностные аспекты жизни, ориентиры развития, эколого-экономические критерии, базовые положения Конституции РФ и международных документов. Во-вторых, основой трансформации должна быть не столько формула «защищенности», «защиты», «запретов», сколько «развитие» биотехнологий под регуляторным воздействием закона. Экологическое регулирование должно охватывать не только и не столько запреты генетически модифицированных организмов и других известных биоагентов, определяя сте- Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов 154 пень их опасности, а стимулирование безопасной биотехнологической индустрии. В-третьих, эколого-правовые нормы должны исключать избыточное, или неточное, или противоречивое нормотворчество, что затрудняет правоприменение в условиях опасности, угроз, кризисных ситуаций. В-четвертых, трансформация права - это и трансформация правоприменения, изменения механизма принятия решений. Мониторинг и государственная информационная система должны быть встроены в информационные системы безопасности в области экологии, химии, медицины, сельского хозяйства, пищевой индустрии. В-пятых, необходимым условием трансформации экологического права является уточнение принципов, содержания института ответственности и алгоритма принятия решений на уровне страны, региона, муниципального образования, корпоративных субъектов, особенно в случае экологических катастроф или их угрозы. Условием трансформации экологического права в данном случае будет существенное изменение содержания процедур принятия решений с учетом мнения населения. В-шестых, современные достижения в области «диджитализации» экологического права открывают огромные возможности не только в информационно-мониторинговом контексте, но и в контрольно-надзорной, экспертной, плановой, проектной деятельности, моделировании и прогнозировании экологических нагрузок. Для этого и нужна трансформация экологического права. Ступенью к трансформации в области моделирования правоотношений в экологии служила процедура под названием «Оценка воздействия на состояние окружающей среды - ОВОС», которая, к сожалению, в настоящее время стала почти невостребованной. Одним из прикладных, но обладающих мощным трансформационным потенциалом в экологическом праве можно признать полноценное и обновленное возвращение процедуры ОВОС и экологической экспертизы. К сожалению, проблема ОВОС и негативной «трансформации» от самостоятельного и реального механизма экологического права фактически к чисто формальной процедуре показывает, что трансформация экологического права может быть как положительной, так и отрицательной. Ближайшая и срочная задача трансформации экологического права состоит в превращении базовых экологических принципов в нормативные показатели и критерии целеполагания для системы государственного управления. Трансформация правовых норм должна обеспечить выполнение экологических принципов путем изменений в нормативах качества окружающей среды, нормативах допустимого воздействия, нормативах предельно допустимых концентраций, выбросов и сбросов. Нормативы должны быть привязаны не столько к медицинским категориям, сколько к достижению поэтапного, необходимого и одобренного населением качества окружающей среды. Существует еще одна причина необходимости трансформации национального экологического права. Несколько десятилетий основные идеи Трансформация экологического права 155 правового регулирования в области окружающей среды, особенно «экологическое нормирование» были имплементированы из зарубежного законодательства, т.е. фактически произошла экспансия экологического нормирования. В случае полноценного участия РФ в Европейской экономической зоне следование европейским экологическим нормативам было бы оправданным и обязательным, но в ином случае - конкуренции - необходимо разрабатывать и принимать экологические нормативы (правила, законы, стандарты), отражающие наши конкурентные преимущества. Это касается добычи и переработки природных ресурсов, экологических технологий, продовольственной и экологической безопасности. Правовая и нормативная экспансия зарубежного законодательства в области природопользования должна быть переформатирована в экологическое нормирование нового технологического цикла. Наиболее сложно будет происходить трансформация экологического права в части обеспечения эколого-технологических и эколого-экономических нормативов, которые характеризуют экологические требования к уровню экономики и технологий. Внедрение технологических нормативов должно обеспечить решение следующих управленческих задач: - определение четких критериев формирования перечня наилучших доступных технологий (НДТ) (поскольку позволяет сравнить технологии друг с другом в экологическом аспекте); - оценка модернизационного потенциала экономики, технологического задела, энергетики, промышленности (поскольку позволяет сравнить конкретную технологию с НДТ); - оценка возможностей и потребностей других стран в природном потенциале и условиях его использования, экологических технологиях и рисках природно-техногенного характера. Однако технологические нормативы не предназначены для решения задачи обеспечения качества среды и допускают ситуации, когда деятельность неурегулированного числа производственных установок, каждая из которых соответствует параметрам наилучших доступных технологий, приведет к ухудшению качества среды обитания на конкретной территории. Поэтому «новая конструкция “новые технологии” в современных условиях скорее “вызов”, в том числе для правовой системы Российской Федерации. В связи с активным развитием многих сфер государства технологии появляются быстрее, чем государство осознает те экологические риски, которые несет внедрение этих технологий в практику» [11. С. 78]. Трансформация экологического права должна быть направлена и в сторону более последовательного и точного определения категориального аппарата, прежде всего системы понятий, используемых в данной сфере, в том числе посредством: - уточнения понятий экологического вреда, экологического ущерба, прошлого и накопленного вреда и ущерба; - разделения понятий экологического вреда и урегулированного экологического вреда, потенциального и фактического экологического вреда; Н.Г. Жаворонкова, В.Б. Агафонов 156 - разделения понятий «экологический вред» и «экологическое повреждение»; - разделения понятий «причины» и «причинение» экологического вреда; - определения видов отношений в сфере причинения вреда (для дальнейшей дифференциации процедур урегулирования), в том числе исчерпывающего перечня видов вреда. Трансформация должна затронуть методику «типовой процедуры урегулирования» экологического ущерба (установления вреда, оценки вреда, установления потенциальных и реальных последствий, размера вреда, форм и размеров компенсации). Как показала недавняя практика установления размера ущерба от аварии в Норильске, комплексная оценка экологического ущерба будет одним из направлений трансформации экологического права. Не менее важным направлением практической трансформации экологического права можно назвать модернизацию системы экологических критериев оценки планируемой (управленческой и экономической) деятельности и аналитики (оценки эффективности и результативности как по системе управления в целом, так и по отдельным подразделениям, а также внедрение нормативов «допустимых экологических последствий»: в перспективе это должно облегчить доказательство факта и оценки вреда (ущерба) для ряда экологических правоотношений, они характеризуют риски причинения вреда в зависимости от степени изменений окружающей среды). Таким образом, трансформация экологического права - объективный, сложный, противоречивый процесс изменения законодательства как под воздействием международно-правовых норм (имплементация), так и по причине кардинальных изменений в качестве окружающей среды, биоразнообразии, климате, экономике, политике, технологиях и потребительских характеристиках. В отличие от «модернизации» и «улучшения», трансформация экологического права предполагает, хотя и последовательный, но в большей степени радикальный процесс изменений, не только затрагивающий формы и виды правового регулирования, но и определяющий изменения в экономике, политике, технологиях и даже образе жизни. Трансформация экологического права невозможна без изменения парадигмы развития с «потребительского» на «эколого-экономический». Направления, виды, способы и результаты трансформации не всегда очевидны и категоричны, но общий тренд вполне ясен и направлен в сторону глобализации экологических норм и правил, «технологизации» экологического права, создания предпосылок для полноценной экологической экономики устойчивого развития.
Мохов А.А. Концепция трех «био» (биотехнология, биобезопасность, биоэкономика) и ее правовое обеспечение // Юрист. 2020. № 4. С. 9-15.
Болтанова Е.С. Эколого-правовой механизм и «наилучшие доступные технологии», «новые технологии» в российском законодательстве // Правовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та, 2020. С. 77-78.
Гаджиев Г.А. Онтология права : (критическое исследование юридического концепта действительности). М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. 320 с.
Дубовик О.Л. Экологическое право: реальность и попытки ревизионизма // Труды Института государства и права Российской академии наук. 2010. № 2. С. 7-37.
Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г, Диффузия экологических прав: конституционно-правовой аспект // Вестник Университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 9 (61). С. 140-152.
Черняков А.Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля, Хайдеггера. СПб. : Высш. религиозно-философская школа, 2001. 460 с.
Честнов И.Л. Диалогическая антропология права как постклассический тип правопонимания: к формированию концепции // Российский ежегодник теории права. 2008. № 1. С. 67-83.
Мустафин И.Р. Имплементация норм международного права об охране окружающей среды в систему российского права // Правовое государство: теория и практика. 2018. № 3 (53). С. 172-176.
Синюков В.Н. Цифровое право и проблемы этапной трансформации российской правовой системы // Lex Russica (Русский закон). 2019. № 1 (9). С. 9-18. DOI: 10.17803/1729-5920.2019.154.9.009-018
Трансформация парадигмы права в цивилизационном развитии человечества : доклады членов РАН / под общ. ред. А.Н. Савенкова. М. : ИГП РАН, 2019. 408 с.
Хабриева Т.Я. Проекции современных трансформаций права в юридической доктрине и практике // Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. URL: https://izak.ru/img_content/125-kfu.pdf (дата обращения: 23.02.2021).
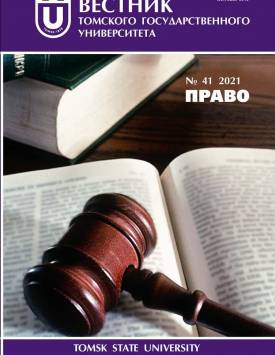

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью