Отказ от свободной оценки доказательств на примере «амнистии капитала»: очередной удар по публичности уголовного процесса России
Доказано, что действующие уголовно-процессуальные нормы, обеспечивающие реализацию «амнистии капитала», превращают свободную оценку доказательств в формальную. Это приводит к утрате публичности уголовного судопроизводства, к снижению возможностей правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Выявлены причины отказа законодателя от свободной оценки доказательств. Предлагаются варианты выхода из сложившейся ситуации. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Rejection of free evaluation of evidence on the example of «capital amnesty»: another blow to the publicity of the Russi.pdf В настоящее время в российском уголовном процессе наметилась тенденция недоверия к решениям, принимаемым судом, а также должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование, причем в большей степени по уголовным делам в сфере экономической деятельности. В пояснительных записках законопроектов в качестве обоснования изменений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ) приводятся следующие причины: для прекращения не всегда оправданной практики следственных органов и судов при избрании меры пресечения в виде заключения под стражу [1]; для создания дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования [2]; для предотвращения злоупотреблений со стороны должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование предпринимателей [3]. Результатом изменений стал комплекс уголовно-процессуальных норм, направленных на ограничение усмотрения (как возможности выбирать один из вариантов решения по своему внутреннему убеждению, руководствуясь законом и совестью) суда и должностных лиц органов предварительного расследования при производстве по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности (ст. 28.1, 164.1, ч. 1.1 ст. 108, ч. 2 ст. 75 и др.). Внутреннее убеждение лица - главный критерий оценки доказательств в теории свободной оценки доказательств [4]. Ограничение возможности принимать решение по внутреннему убеждению неизбежно приведет к ограничению свободы оценки доказательств, которая закреплена в УПК РФ на уровне принципов (ст. 17), появлению в законе элементов теории формальных доказательств. Именно для ограничения произвола судьи, предохранения его от непроизвольного уклонения от истины, как пишет Я.И. Баршев [5. С. 193], и была введена в свое время теория формальных доказательств. Так, Д.В. Зотов и Т.М. Сыщикова описывают ее суть следующим образом: «...все необходимые условия для оценки доказательств дает сам законодатель. Закон наперед устанавливает, какую силу должно иметь каждое дока-60 Григорьев В.Н., Панфилов П.О., ТереховМ.Ю. Отказ от свободной оценки зательство. Суду остается лишь подсчитать количество “законных” источников доказательств, не входя в оценку их содержания» [6. С. 164]. Несмотря на достоинство, обозначенное выше Я.И. Баршевым, такая система имела очевидные перегибы, абсурдные по своей сути утверждения. Например, считалось, что сила личного признания, как доказательства, подкреплялась тем, что само положение на суде обвиняемого подтверждает то, что он хотел дать истинное показание [5. С. 198]. На смену этой теории судебная реформа 1864 г. принесла теорию свободных доказательств, которая, как отмечает Л.В. Головко и соавт., была имплементирована в уголовный процесс России не полностью, в результате в настоящее время особенность российской теории доказательств состоит в том, что «собирание доказательств остается максимально формализованным, т.е. подчиненным теории формальных доказательств; оценка доказательств - максимально свободной, т. е. подчиненной теории свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению» [4]. Подобная формулировка полностью объясняет совмещение в действующем УПК РФ положения о том, что суд, присяжные, прокурор, следователь и дознаватель оценивают доказательства по внутреннему убеждению с положениями, предусмотренными ст. 75 УПК РФ, ч. 2 ст. 77 УПК РФ. Однако возможно ли при несвободном собирании доказательств обеспечить свободную оценку доказательств? А. В. Победкин на этот вопрос отвечает положительно: «...удел законодателя - определить лишь правила формирования совокупности доказательств», а «наличие таких правил не означает, что оценка доказательств перестала быть свободной» [7. С. 176]. В том же ключе рассуждал более 100 лет назад и И.Я. Фойницкий: «...для того чтобы внутреннее убеждение не переходило в личный произвол, закон, не связывая судью легальными правилами, заботиться о выработке его убеждения при условиях и в порядке, которыми обеспечивается, что всякий рассудительный и здравомыслящий человек при тех же данных пришел бы к такому же заключению» [8. С. 189]. Из этих идей прямо следует, что определенные правила свободной оценке доказательств необходимы. Две эти категории (свободная оценка и правила их собирания) взаимообеспечивают друг друга. Результатом является обеспечение публичного интереса, состоящего в правильности установления значимых для уголовного дела обстоятельств, в выявлении и привлечении к уголовной ответственности лиц, в действительности совершивших преступления [9. С. 29]. При этом правила не должны превращать свободную оценку доказательств в формальную [7. С. 177]. Однако когда правила направлены на реализацию интересов отдельных социальных групп [10. С. 68], на решение задач, с уголовным судопроизводством напрямую несвязанных [11. С. 71-77], а также обусловлены недоверием [12. С. 127] и презумпцией правового нигилизма судей, должностных лиц органов предварительного расследования [9. С. 37-60, 112-113; 13. С. 6094], возникает обоснованный вопрос, обеспечивают ли они реализацию принципа свободной оценки доказательств (как отражения в законе теории свободной оценки доказательств)? 61 Проблемы публичного права / Problems of the public law Представляется, что особенно ярко пренебрежение принципом свободной оценки доказательств демонстрируют нормы, направленные на функционирование «амнистии капитала»1 (с момента введения по ноябрь 2019 г. было подано около 19 тыс. специальных деклараций на общую сумму примерно 35 млрд евро [14], т.е. данный порядок активно применяется). Так, ч. 3-5 ст. 4 Федерального закона от 08.06.2015 № 140-ФЗ (далее -Закон № 140-ФЗ) [15] предусмотрено, что специальная декларация, а также документы и сведения, прилагаемые к ней, не могут быть использованы в качестве основания2 для возбуждения уголовного дела, а также в качестве доказательств по уголовному делу, за исключением тех случаев, когда декларант самостоятельно представляет копию декларации документов, прилагаемых к ней, для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств. При этом указанным законом прямо определено, что отказ в приобщении таких доказательств не допускается. Запрет на отказ в признании доказательством презюмирует, что декларация, а также прилагаемые к ней документы и сведения заранее обладают всеми свойствами и требованиями, предъявляемыми к доказательствам. Такой подход порождает неравенство между специальной декларацией с сопутствующими ей документами и иными объектами, относимость которых к доказательствам еще необходимо установить в ходе расследования. Таким образом, ограничивается не только свобода собирания доказательств, но и их оценки. Указанных в Законе № 140-ФЗ требований, как посчитал законодатель, оказалось недостаточно. Катализатором изменений в УПК РФ стало уголовное дело в отношении Израйлита, получившее широкий общественный резонанс, вызванный тем, что специальная декларация, поданная в порядке «амнистии капитала», была использована органами предварительного расследования в нарушение Закона № 140-ФЗ для возбуждения уголовного дела и доказывания обстоятельств другого преступления [16]. Федеральным законом от 27.12.2019 № 498-ФЗ [17] были внесены изменения в ст. 75, 140 и 164 УПК РФ, которые, по сути, закрепили в УПК РФ то, что уже более 4 лет существовало в Законе № 140-ФЗ. Так, если запрет изъятия в ходе следственных действий специальной декларации, документов и сведений, прилагаемых к ней (ч. 4.1 ст. 164 УПК РФ) ограничивает именно свободу собирания доказательств, а не их оценки, то то же самое нельзя сказать об изменениях в ст. 75 и 140 УПК РФ. 1 Процедура освобождения от уголовной (в том числе налоговой и административной) ответственности лиц, добровольно задекларировавших (подавших специальную декларацию) активы и счета (вклады) в банках, расположенных за пределами Российской Федерации, а также обеспечения правовых гарантий сохранности капитала и имущества указанных физических лиц. 2 Обратим внимание, что один и тот же факт в Законе № 140-ФЗ и в ч. 3 ст. 140 УПК РФ назван по-разному. В ч. 3 ст. 4 Закона № 140-ФЗ - основание, а в ч. 3 ст. 140 УПК РФ - повод. Это лишний раз подчеркивает поспешность внесенных изменений и низкое качество их юридической техники. 62 Григорьев В.Н., Панфилов П.О., ТереховМ.Ю. Отказ от свободной оценки В пп. 2.2, 2.3 ч. 2 ст. 75 УПК к недопустимым доказательствам отнесены как сама специальная декларация (сведения, находящиеся в ней, документы, прилагаемые к ней), поданная в соответствии с Законом № 140-ФЗ, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, так и любые сведения о факте предоставления такой декларации, сведения о факте указания подозреваемого, обвиняемого в декларации, представленной иным лицом, а также сведения о подозреваемом, обвиняемом, указанные в этой декларации. При этом все перечисленное выше станет допустимым доказательством, если предоставлено самим декларантом, а не изъято в ходе следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия. Таким образом, критерием признания доказательств допустимыми, или, используя терминологию теории формальных доказательств, «совершенными», является субъект-инициатор1 вовлечения объектов в уголовный процесс (с учетом того, что следователь отказать декларанту в приобщении декларации не может, то вполне обосновано называть таким субъектом и декларанта). Обоснованием такого законодательной «эквилибристики» была необходимость устранения возможностей совершения правоприменителями действий, концептуально противоречащих государственной политике в данном вопросе, а также недопущение отказа в предоставлении гарантий, предусмотренных Законом № 140-ФЗ, со стороны отдельных «правоприменителей и правоохранителей» [18]. Таким образом, законодатель не уверен в том, что отдельные «правоприменители и правоохранители» смогут правильно (в духе государственной политики) оценить полученную в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий информацию, поэтому и ограничил их в этой оценке. То же самое сделано законодателем и относительно сведений, входящих в производство адвоката, однако в п. 2.1 ч. 2 ст. 81 УПК РФ публичный интерес (при всей ущербности формулировки [19. С. 10]), направленный на обеспечение безопасности общества от преступности, установление обстоятельств дела, обеспечен исключением предметов и документов, указных в ч. 1 ст. 81 УПК РФ. В положениях п. 2.2, 2.3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ указанный публичный интерес не реализуется никаким образом. Формальный подход к оценке доказательств, а вместе с ней и к установлению обстоятельств по делу продемонстрирован и в ст. 28.1 УПК РФ. Так, согласно ч. 1 и 2 ст. 76.1 Уголовного кодекса Российской Федераци (УК РФ), ч. 1 и 3 ст. 28.1 УПК РФ все, что требуется от подозреваемого, обвиняемого - это возместить ущерб от совершенного преступление либо перечислить в федеральный бюджет некоторое денежное возмещение, а в ряде случаев лишь дать согласие на возмещение за него вреда [10. С. 68]. Таким образом, никакой мыслительной деятельности по определению соответствия 1 Именно субъект, поскольку способ (изъятие в ходе следственных действий или предоставление добровольно декларантом) здесь вторичен, зависит от субъекта. 63 Проблемы публичного права / Problems of the public law доказательств определенным требованиям [20] проводить не нужно, порядок, предусмотренный ст. 28.1 УПК РФ, воспринимается правоприменителями как форма деятельного раскаяния, а возмещение ущерба приравнивают к признанию вины [21. С. 89-94], которое влечет автоматическое прекращение уголовного преследования. В результате количество правовых институтов, где «признание подсудимым своей вины является совершенным доказательством» [22. С. 46] (в различных формах), увеличивается. Таким образом, необоснованный, концептуально неподготовленный отказ от свободной оценки доказательств, в границах отдельного процессуального порядка, влечет утрату публичности уголовного судопроизвод- і ства в целом. Можно согласиться с рядом исследователей в том, что формальная оценка доказательств не так уж плоха и имеет ряд преимуществ [6. С. 164; 24. С. 5-9] (задача исключить произвол при принятии процессуальных решений, конструкция благоприятствования защите, принцип «вспомоществования» со стороны суда участвующим в уголовном процессе частным лицам [4]). В связи с этим внедрение отдельных ее элементов может быть полезно для теории свободной оценки доказательств (и для обеспечения публичного интереса), но до тех пор, пока при оценке доказательств внутреннее убеждение уполномоченного субъекта сохраняет решающее значение. Что касается сложившейся ситуации, то как нельзя кстати В.В. Дорошков [25. С. 8] приводит слова Дельмара Карлена: «... американцы сбились с главной дороги, утратили интерес к выяснению вопроса, действительно ли обвиняемый совершил преступление, в котором его обвиняют» [26. С. 13]. Представляется, что мы совершаем ошибку американцев. В погоне за улучшением инвестиционного климата, повышением экономических показателей развития страны, защитой конституционных экономических прав и свобод граждан от незаконного уголовного преследования (ценности, безусловно, важные и для общества необходимые), забываем об истинном предназначении уголовного судопроизводства, состоящем в обеспечении публичного интереса всех членов общества, направленного на борьбу с преступностью. Конечно, нельзя сказать, что у законодателя нет причин опасаться неспособности судей и должностных лиц правоохранительных органов оценивать доказательства по внутреннему убеждению, основанному на совокупности доказательств, руководствуясь законом и совестью. Внутреннее убеждение в рамках свободной оценки доказательств предполагает обязательную обоснованность и мотивированность решений (т. е. приведение пути формирования внутреннего убеждения, причин того, почему суд или следователь пришли к тому или иному выводу). На отсутствие должной мотивировки принимаемых решений как в вопросах доказывания, так и при разрешении ходатайств при постановлении приговора обращают внимание и 1 Имеется ввиду публичности как функции уголовного судопроизводства [23. С. 143-150]. 64 Григорьев В.Н., Панфилов П.О., ТереховМ.Ю. Отказ от свободной оценки различные исследователи [27. С. 255; 28. С. 113], и Верховный Суд Российской Федерации [28], и Европейский суд по правам человека [30]. Однако совесть - это та сумма знаний, которая заложена в нас от природы [31]. Невозможно предусмотреть все возможные отклонения, которые могут быть допущены правоприменителем, да и воспитать средствами уголовно-процессуального закона совестливого правоприменителя тоже невозможно. Именно поэтому существуют механизмы, направленные на борьбу с этими отклонениями - уголовная и дисциплинарная ответственность (над их неотвратимостью и нужно работать). Как таковая мера отклонений, которая часто встречается при правоприменения, не должна ломать правовых концепций и моделей [32. С. 96], которые вырабатывались в уголовном процессе десятилетиями и направлены на обеспечение его публичности. Представляются оптимальными следующие варианты выхода из создавшейся ситуации. Первый вариант состоит в полном отказе от «амнистии капитала», с сохранением гарантий тем, кто уже успел ею воспользоваться (исходя из идеи об обратной силе закона и недопустимости ухудшения положения лица). Однако вряд ли такой вариант реализуем и возможен по политическим соображениям. Второй вариант состоит в том, чтобы перестать считать деяния, за совершение которых сейчас освобождают от уголовной ответственности, преступлениями1 (судя по формулировкам2, используемым в ст. 76.1 УК РФ, Законе № 140-ФЗ, законодатель против этого не возражает). Предложения Президента Российской Федерации о введении административной преюдиции по ст. 193 УК РФ, о повышении в несколько раз размеров крупного и особо крупного ущерба [34], Председателя Верховного Суда Российской Федерации о переводе некоторых преступлений, совершенных в сфере экономической деятельности, в разряд уголовного проступка [35] лишь подтверждают наши выводы, а также понимание законодателем, что «амнистия капитала», в действующем нормативном исполнении, противоречит фундаментальным идеям уголовного процесса России.
Ключевые слова
доказывание,
свободная оценка доказательств,
амнистия капитала,
уголовное судопроизводство,
публичностьАвторы
| Григорьев Виктор Николаевич | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя; Научно-исследовательский институт ФСИН России | доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса; профессор, ведущий научный сотрудник | grigorev.viktor@gmail.com |
| Панфилов Павел Олегович | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя; Московский государственный технический университет (национальный исследовательский университет) им. Н.Э. Баумана | старший преподаватель кафедры уголовного процесса; кандидат юридических наук, доцент кафедры безопасности в цифровом мире | pasha_panfilov@mail.ru |
| Терехов Михаил Юрьевич | Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя | кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного процесса | terehovmu@gmail.com |
Всего: 3
Ссылки
Паспорт законопроекта № 336086-5. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/336086-5 (дата обращения: 11.02.2020)
Паспорт законопроекта № 593998-7. URL: http://sozd.duma.gov.ru/bill/593998-7 (дата обращения: 11.02.2020).
Паспорт законопроекта № 1083199-6. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/B553704846E3A47543257FBF00375FB5/$File/1083199-6_26052016_1083199-6.PDF?OpenElement (дата обращения: 11.05.2017).
Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др. ; под ред. Л.В. Головко. М. : Статут, 2016. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголовному судопроизводству. СПб. : Тип. 2 Отд. собств. Е. И. В. канцелярии, 1841. 385 с.
Зотов Д.В., Сыщикова Т.М. Быть по сему?! (к 150-летию реформы концепции уголовно-процессуального доказывания) // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 163-168.
Победкин А.В. Формальная оценка доказательств в современном уголовном процессе России: «капкан захлопнулся?» (размышления над книгой академика А.Я. Вышинского) // Библиотека криминалиста. 2015. № 2 (19). С. 172-182.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. СПб. : Альфа, 1996. 606 с.
Панфилов П.О. Особенности производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической и предпринимательской деятельности : дис.. канд. юрид. наук. М., 2019. 247 с.
Ильютченко Н.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: условия и механизм реализации // Предпринимательское право. 2013. № 3. С. 66-70.
Панфилов П.О. «Экономические» и «стержневые» задачи уголовного судопроизводства: возможен ли баланс? // Библиотека криминалиста. 2017. № 4 (33). С. 71-77.
Цоколова О.И. К вопросу о презумпции доверия полиции // Научный портал МВД России. 2019. № 1. С. 126-129.
Победкин А.В. Уголовный процесс: состояние вне права. М. : Юрлитинформ, 2013. 248 с.
ФНС получила 19 000 деклараций в ходе амнистии капитала // INTERFAX.RU. 2019. 11 ноября. URL: https://www.interfax.ru/business/683714 (дата обращения: 07.02.2020).
Федеральный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. № 124. 10.06.2015.
Верховный суд разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала // Ведомости. 2019. 23 октября. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/10/22/814436-sud-razreshil-fsb (дата обращения: 26.11.2019).
Федеральный закон от 27.12.2019 № 498-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. № 296. 31.12.2019.
Паспорт законопроекта № 835592-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/835592-7 (дата обращения: 02.20.2020).
Победкин А.В. Показание как источник доказательств: обеспечить системность // Российский следователь. 2019. № 7. С. 9-14.
Сухарев А. Я., Крутских В. Е., Сухарева А. Я. Большой юридический словарь. М. : Инфра-М, 2003. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/16884 (дата обращения: 04.02.2020).
Панфилов П.О. Прекращение уголовного преследования по делам o преступлениях в сфере экономической деятельности: проблемы и пути решения // Конституция Российской Федерации и современный правопорядок : материалы конф. : в 5 ч. Ч. 5. М. : РГ-Пресс, 2019. С. 89-94.
Александров А.С. «Похвала» теории формальных доказательств // Правоведение. 2002. № 4 (243). С. 34-47.
Победкин А.В. Публичность, которую мы потеряли (размышления в связи со 150-летием Устава уголовного судопроизводства) // Судебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 143-150.
Зотов Д.В. О теории формальных доказательств: и все же она возвращается // Адвокат. 2015. № 4. С. 5-9.
Дорошков В.В. Современный уголовный процесс и основные направления его совершенствования // Мировой судья. 2019. № 9. С. 3-13.
Карлен Д. Американские суды: система и персонал. М. : Прогресс, 1972. 124 с.
Зяблина М.В. О практике избрания и применения меры пресечения в виде заключения под стражу // Сборник материалов Международной научно-практической конференции, посвященной 50-летнему юбилею доктора юридических наук, профессора А.В. Гриненко. М., 2016. С. 253-257.
Ильютченко Н.В. Авторитет судебной практики в уголовном процессе // Закон. 2018. № 3. С. 106-116.
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.11.2016 № 48 «О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности» // Российская газета. № 266. 24.11.2016.
Постановление ЕСПЧ от 10.04.2018 «Дело «Рубцов и Балаян (Rubtsov and Balayan) против Российской Федерации» (жалобы № 33707/14 и 3762/15) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское издание. 2019. № 8.
Гюго В.М. Отверженные. URL: https://www.litres.ru (дата обращения: 07.02.2020).
Тихомиров Ю.А. Правовое государство: проблемы формирования и развития // Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование. 2011. № 5, т. 4. С. 93-109.
Внесен законопроект по гуманизации уголовного наказания // Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации. 20.12.2018. URL: http://duma.gov.ru/news/29298/ (дата обращения: 08.02.2020).
Паспорт законопроекта № 871811-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/871811-7 (дата обращения: 09.02.2020).
Верховный суд предложил расширить применение «уголовного проступка» // РИА НОВОСТИ. 11.02.2020. URL: https://ria.ru/20200211/1564543582.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews (дата обращения: 11.02.2020).
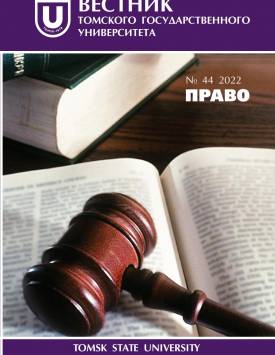

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью