Теория обоснования уголовного закона: современное состояние и проблемы применения
Выявлены обстоятельства, приводящие к принятию необоснованного закона: недостаточно разработана теория социального и правового обоснования уголовного закона, даже первая ее стадия - теория криминализации деяний; имеющиеся наработки по теме не в полной мере используются законодателем, правоприменителем, исследователем, экспертом. Необходима систематизация имеющихся знаний, углубленное изучение социальных и правовых факторов обоснования уголовного закона в разных аспектах, обобщение результатов федеральным центром. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Theory of justification of the criminal law: current status and problems of application.pdf Актуальность исследования определяется тем, что законодатель и правоприменитель допускают отступления от социальных и правовых основ на всех стадиях нормообразования и применения уголовного закона. О том, что многие нормы УК РФ, особенно вновь появившиеся, недостаточно обоснованы, достаточно доказательств. Так, все 5 лет, прошедшие с момента изменения норм, регламентирующих уголовное преследование, административную и уголовную ответственность за побои (УК, КоАП и УПК), идет их доработка Конституционным Судом (КС) РФ. Так, в 2018 г. Конституционному Суду пришлось обосновывать соблюдение принципа Non bis in idem (не дважды за одно и то же) и других конституционных 114 Плохова В.И. Теория обоснования уголовного закона норм введенной административной преюдицией за побои и применения норм КоАП РФ при отсутствии в нем такого правонарушения на момент его совершения; предложен соответствующий Конституции РФ порядок привлечения к ответственности при административной преюдиции [1], которые критически оцениваются в юридической литературе. Еще в 2018 г. КС РФ запретил прекращать дела частного обвинения без согласия обвиняемых, но оспариваемые нормы УПК РФ признал соответствующими Конституции РФ в истолковании, предложенным КС РФ. «Признать взаимосвязанные положения части первой статьи 10 УК Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части первой статьи 239 и пункта 1 статьи 254 УПК Российской Федерации не противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования они предполагают, что суд, в производстве которого находится возбужденное по заявлению потерпевшего или его законного представителя уголовное дело частного обвинения, обязан выяснить позицию обвиняемого относительно прекращения данного дела в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого ему деяния, и только при наличии его согласия вправе прекратить уголовное дело; в случае, если обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния, суд обязан рассмотреть данное дело по существу в рамках процедуры» [2]. Однако дело той же А.И. Тихомоловой, которое отправили на новое рассмотрение после решения КС РФ 2018 г., снова прекратили за отсутствием в деянии состава преступления, но уже из-за неявки частного обвинителя в суд без уважительных причин. Тогда как заявитель настаивал на прекращении дела за отсутствием события преступления. Постановлением КС РФ от 13.04.2021 № 13-П «пункт 2 части первой статьи 24, часть вторую статьи 27, часть третью статьи 249 и пункт 2 статьи 254 УПК Российской Федерации признаны не соответствующими статьям 17 (часть 3), 19 (часть 1), 46 (часть 1), 49 и 123 (часть 3) Конституции Российской Федерации в той мере, в какой на их основании в системе действующего правового регулирования неявка частного обвинителя в суд без уважительных причин влечет применение такого основания для прекращения уголовного дела, как отсутствие в деянии состава преступления» [3]. И только 07.04.2021 Пленум Верховного Суда РФ внес в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 116.1 и частью первой статьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)». А ведь тремя днями раньше и ст. 116.1 УК РФ Конституционным Судом была признана не соответствующей Конституции РФ «ее статьям 2, 17 115 Проблемы публичного права / Problems of the public law (часть 1), 18, 19 (часть 1), 21, 45 (часть 1), 52 и 55 (часть 3), в той мере, в какой она не обеспечивает соразмерную уголовно-правовую защиту права на личную неприкосновенность и права на охрану достоинства личности от насилия в случае, когда побои нанесены или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершены лицом, имеющим судимость за предусмотренное в этой статье или аналогичное по объективным признакам преступление, ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное положение по отношению к лицам, подвергнутым административному наказанию» [4]. Однако об ее изменении в названном проекте речи не идет. Не соответствующая Конституции РФ редакция ст. 116.1 УК будет действовать до внесения федеральным законодателем в правовое регулирование изменений, с чем, как показывает практика, законодатель не спешит. Не лучшим образом обоснован один из последних, можно сказать, глобальных законопроектов (содержит 112 статей), рассмотрение которого в Г осударственной Думе близится к завершению, является законопроект № 1112019-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» [5]. В юридической литературе и на первый вариант этого проекта было много замечаний [6. С. 115-119], второй вариант оказался не лучше первого (правительство высказало свои замечания). Главными недостатками законопроекта, на наш взгляд, являются не основанный на социально-криминологоправовой экспертизе перечень преступлений, которые включены в понятие «уголовный проступок»; отсутствие как межотраслевой, так и внутри УК РФ системности, что привело в том числе к наличию противоречий с базовыми конституционными и уголовно-правовыми положениям, например со ст. 8 УК РФ, нарушению принципа соразмерности в соотношении со ст. 75 и 76 УК РФ и др., т.е. не соблюдены социальные, конституционные и другие правовые основы уголовного закона. Бесспорно, что с изменением состояния общества должны и будут меняться законы, но в основу этих изменений должны быть положены результаты проведения криминологической, социальной, правовой, в том числе конституционной экспертиз проекта. Необоснованная, бессистемная гуманизация уголовного закона приводит к нарушению прав граждан. Социологические исследования за 2015- 2017 гг. свидетельствуют о том, что «позитивные тенденции с соблюдением прав человека отсутствуют - менее половины опрошенных считают, что права человека в России соблюдаются» [7. С. 94]. По данным, приведенным З.А. Незнамовой, неоднократные изменения в статьи УК РФ о хулиганстве, побоях, клевете и оскорблении привело к росту домашнего насилия, появились новые способы оскорбления и унижения человека: буллинг и моббинг, кибербуллинг и другие, которые в значительной степени остаются безнаказанными. Тогда как принятые законы 116 Плохова В.И. Теория обоснования уголовного закона об оскорблении власти [8] и закон о так называемых фейковых новостях [9] позволили автору сделать вывод о том, что «государство в лице законодателя отчетливо проводит политику снижения уровня правовой защищенности здоровья, телесной неприкосновенности, чести и достоинства человека с одновременным усилением правовой защиты интересов государства, властных структур и их отдельных представителей. Данную тенденцию можно оценивать только как негативную, что в ближайшей перспективе способно серьезно повысить градус отношений между государством и человеком и повлечь за собой негативные последствия как правового, так и социального характера» [10. С. 6-8]. Такие аномические явления, по мнению социологов, порождают преступность [11. С. 98]. Кроме того, необоснованные, некорректно сформулированные законы не могут не отразиться на и без того усложненной в настоящее время правоприменительной деятельности. Как свидетельствуют решения КС РФ, а также проанализированная практика судов России по разным составам преступлений, часто вменяются разные составы преступления за совершение одинаковых деяний в разных регионах России, резко различается практика назначения наказания за совершение преступлений, квалифицированных по одной и той же статье (части) даже в одних и тех же регионах; часто квалификация не соответствует всем признакам состава преступления [12. С. 30-69, 69-108; 13. С. 85-91; 14. С. 207-215], что не соответствует конституционным принципам, нормам, в частности законности, равенства перед законом и судом, соразмерности, справедливости и др. Иногда суды, да и законодатель, игнорируют даже решения КС РФ. Так, еще в феврале 2017 г. Конституционный Суд РФ в постановлении от 10.02.2017 № 2-П выявил в редакции ст. 212.1 УК РФ и ее толковании правоприменителем нарушение многих конституционных норм. Статья и ее применение, по мнению КС РФ, не соответствует позициям Конституционного Суда о крайнем месте уголовного права в системе права, о соразмерности деяния и ответственности, наказанию, а в целом принципам необходимости, соразмерности и справедливости и придал ей другой конституционно-правовой смысл. По сути в диспозицию действующей редакции ст. 212.1 УК РФ им добавлены новые условия, при наличии которых возможна уголовная ответственность по этой статье: «...в случае, если нарушение им установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой причинение или реальную угрозу причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям». Кроме того, судам общей юрисдикции рекомендовано назначать лицу наказание в виде лишения свободы за указанные деяния при наличии тех же последствий или угрозы их наступления, если «без назначения данного вида наказания невозможно обеспечить достижение целей уголовной ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей» [15]. 117 Проблемы публичного права / Problems of the public law Но в 2019 г. Конституционный Суд РФ вынужден вновь напоминать свою позицию в отношении ответственности за несанкционированные митинги. Постановлением Конституционного Суда РФ от 1 ноября 2019 г. № 33 был признан неконституционным запрет проведения митинга «без учета того, создает ли конкретное публичное мероприятие исходя из его целей и вида (характера), предполагаемого количества участников, планируемого времени (даты) проведения, а также иных обстоятельств действительную угрозу правам и свободам человека и гражданина, законности, правопорядку, общественной безопасности, в том числе функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, и без разрешения вопроса о соразмерности запрета его проведения степени такой угрозы» [16]. Диспозиция ст. 212.1 УК РФ до сих пор не изменена. Схожее по многим правовым позициям решение Конституционного Суда РФ пришлось воспроизводить и в отношении ст. 324 Уголовного кодекса РФ. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 февраля 2020 г. № 10-П, обосновывая конституционно-правовой смысл этой нормы (п. 4), приводит те же правовые позиции относительно возможности существования и толкования формальных составов преступлений, уголовной ответственности за них и освобождения от нее [17]. Государство и общество тоже обеспокоены сложившимся положением в этой сфере. Об этом свидетельствуют неоднократные изменения, внесенные за последние 5 лет в Федеральный конституционный закон № 1 «О Конституционном Суде Российской Федерации», поправки в Конституцию РФ (2020 г.) об усилении роли Конституционного Суда РФ, в том числе: а) указание в Основном Законе на то, что «акты или их отдельные положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным Судом Российской Федерации, не подлежат применению в ином истолковании» (изменена редакция ч. 6 ст. 125 Конституции РФ); б) внесение положения о проведении Конституционным Судом РФ экспертизы законопроектов, принятых Федеральным Собранием РФ, до их подписания Главой государства на соответствие Конституции РФ (конституционная экспертиза законопроектов - п. 5.1 ст. 125 Конституции РФ) [18]. В связи с этим целью исследования является выявление причин сбоя, несрабатывания существующих на данный исторический период теоретических и нормативных конструкций, призванных не допускать появления таких норм, применения и наметить пути решения проблемы. Повышенный интерес к вопросу обоснования закона появился прежде всего в отношении уголовного запрета и в основном на стадии отбора девиантной деятельности для признания ее преступной и наказуемой (19701980-е гг.) в рамках теории криминализации деяний. К настоящему времени, как и в начале XXI в., наблюдаются два направления исследований этого вопроса: 1) более углубленное, детализированное исследование отдель-118 Плохова В.И. Теория обоснования уголовного закона ных аспектов общей теории криминализации, уточнение понятий, составляющих теорию криминализации; 2) оценка соответствия/несоответствия содержащихся в УК РФ признаков составов преступлений, уголовноправовых норм, отдельных групп преступлений, факторам (основаниям, условиям) криминализации деяний. 1. Более углубленному, детальному анализу подверглись основание и процесс отбора поведения, деятельности в качестве преступной с учетом социально-криминологических (общественная опасность деяния) и правовых (принципов криминализации) факторов криминализации деяний. Так, в 2016 г. Н.Г. Иванов предложил алгоритм, необходимый для признания деяния преступным, подтвердив суждения многих авторов о том, что основным концептом о главном факторе (основании), показывающем потребность общества в криминализации деяний, является их общественная опасность, «складывающаяся из совокупности двух ее признаков - ценности объекта посягательства и вреда, ему причиняемого» [19. С. 78]. В 2017 г. А. С. Нечаевым предложена теоретическая модель проведения мониторинга деяния для решения вопроса об объявлении его преступным -процесса оценки соответствия/несоответствия деяния социальнокриминологичес-ким и правовым факторам криминализации; обобщены и по-своему оценены существующие в юридической литературе пять подходов на понятие криминализации [20. C. 17-24, 124-189]. Кроме того, деяние, а точнее отдельный тип деятельности, становится преступлением после желательно корректного отражения факторов криминализации (критериев криминализации) в криминообразующих признаках уголовно-правовой нормы, состава преступления, что обусловило выделение второго этапа процесса криминализации деяний. Нельзя также не признать, что от качества оценки деятельности, поведения, т. е. проведения первого этапа криминализации зависит и корректное выделение криминообразующих признаков для основного состава преступления. В связи с этим, полагаем, что именно эти два аспекта соответствуют значению термина «криминализация» и легли в основу определения понятия криминализации в прошлом столетии. В современной литературе некоторыми авторами признается классическим определение криминализации, предложенное А.И. Коробеевым. «Криминализация - есть процесс выявления общественно опасных форм индивидуального поведения, признания допустимости, возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в качестве преступных и уголовно наказуемых» [21. C. 100]. Однако, во-первых, для корректного закрепления признаков состава преступления в статье УК РФ, уголовно-правовой нормы в УК РФ необходим учет других социальных и правовых факторов обоснования закона, которые не входят в критерии криминализации на первом этапе или по-другому толкуются. В частности, психофизиологические особенности деятельности, диктующие необходимость выделять элементы состава преступления, непосредственно влияющие на общественную опасность дея-119 Проблемы публичного права / Problems of the public law ния, опосредованно или вообще никак с ней не связанные [22. C. 18-24]. Кроме того, при конструировании и применении закона необходимо учитывать особенности отражения в норме объективного и субъективного, соблюдать формально-логические основания [23. С. 17, 56, 42-63; 24]. Конституционное обоснование тоже отчасти другое [25. C. 239-245] и т.д. Во-вторых, закрепление признаков квалифицированного, привилегированного состава, специальных норм, наказания и другого требуют соблюдения своих правил. Не случайно поэтому и в настоящее время, как и в 1970-е гг. [26. С. 68], одни авторы эти процессы включают в понятие криминализации, другие категорически против такого широкого ее толкования. Еще в 2001 г. И.М. Антонов показал, что «институт пенализации имеет самостоятельное значение как для законотворческой, так и правоприменительной деятельности. Пенализация, по его мнению, представляет собой процесс установления характера наказуемости криминализированных деяний законодателем, а также процесс назначения наказания в судебной практике» [27. C. 7]. Действительно, процесс закрепления признаков института наказания, в том числе его назначения, в УК РФ требует обоснования, во многом отличающегося от процесса криминализации. В настоящее время о некорректности включения в понятие криминализации процесса пенализа-ции/депенализации и декриминализации высказываются Н.А. Лопашенко и другие ученые. Криминализация, по мнению Н.А. Лопашенко, формулирует только уголовно наказуемое преступное деяние, полагая, что криминализация обращена исключительно к законодателю [28. С. 250-251]. Изложенное свидетельствует о том, что, во-первых, кроме обоснования выбора и объявления деяния преступным - криминализации деяний, за ее пределами остается ряд аспектов, требующих своего обоснования; во-вторых, до сих пор не сложилось единого представления о составляющих понятия криминализации, ни их определения, уточняются факторы криминализации деяний. 2. В такой ситуации очевидно, что в прикладных исследованиях обоснованности закрепленных в УК РФ признаков состава преступления - втором направлении исследования криминализации деяний - каждый автор (в зависимости от уровня исследования - статья, кандидатская диссертация, монография, докторская диссертация) использует в большинстве своем неоднократно компактно сформулированные в доступной литературе, уже кем-то апробированные суждения авторов, исследовавших общие вопросы криминализации деяний. Иногда в них выводятся важные для теории обоснования закона положения, которые не всегда учитываются последующими исследователями. Так, А. К. Гейн [29] предложил механизм отражения критериев криминализации деяний в цели преступления в любой ее роли: признак основного, квалифицированного, привилегированного составов преступлений, закрепленных в УК РФ. Но даже в этом солидном исследовании автор не учел имеющиеся наработки по данному вопросу, в частности И. М. Анто- 120 Плохова В.И. Теория обоснования уголовного закона нова, Т.А. Плаксиной и др. Дело в том, что и при выделении квалифицированных, привилегированных составов, пенализации, в том числе при назначении наказания, применении закона, согласно конституционным нормам (принцип фактической, целевой обоснованности), принципам уголовного права критерии криминализации должны учитываться, но по-особенному. Основные факторы криминализации деяний, базовые положения теории криминализации должны учитываться в силу прямого действия Конституции РФ, существования ч. 2 ст. 14 УК РФ и других и при применении нормы. Правоприменитель должен владеть теорией криминализации в узком значении. В связи с этим достаточно обоснованным является вывод Т.А. Плаксиной о том, что «социальные основания квалифицирующих преступление обстоятельств... соединяют в себе общие черты, присущие основаниям уголовно-правового запрета, и особенности, детерминируемые функциональной спецификой квалифицирующих признаков состава преступления») [30. C. 7]. Это важные выводы, с одной стороны, определяющие (сужающие) границы теории криминализации, с другой -выстраивающие теорию обоснования уголовного закона. К сожалению, и во многих других современных исследованиях, посвященных как обоснованию уже существующих норм, так выделению специальных норм, квалифицированных, привилегированных составов преступлений, называются одни и те факторы криминализации деяний; особенности пенализации не нашли отражения при обосновании квалифицирующих признаков [31. C. 12-13; 32]. В исследованиях разного уровня оценивается норма на соответствие в основном социальным факторам криминализации в разном их истолковании. Во многих журнальных статьях или совсем упрощенно и по-своему, не вдаваясь в основы криминализации, не используя имеющиеся специальные разработки по вопросам криминализации, проверяют на соответствие какому-то одному из них или нескольким, взятым из одного источника учебной литературы признакам отдельного состава, института. В монографической литературе, диссертациях чаще всего доказывается социально-криминологическая, реже социально-юридическая обоснован-ность/необоснованность составов преступлений [33-37]. Иногда (чаще в журнальных статьях, редко в диссертациях) за основание криминализации берется второстепенный, но легко описываемый фактор криминализации, без определения его значения, особенностей учета на разных стадиях обоснования закона, предложенного в литературе, посвященной криминализации. Например, соответствием/несоответствием истории существования того или иного запрета [38. С. 96-99] или зарубежному законодательству [39. С. 17-51] доказывается его социальная обусловленность (обоснованность). Данные факторы не могут выступать в качестве основ современного российского законодательства, так как это противоречит конституционному положению о фактической обоснованности закона, его изменения и применения, предполагающему их соответствие состоянию общества, его 121 Проблемы публичного права / Problems of the public law структуре, сферам (экономика, социальная, политическая, духовная сфера). Не случайно ведь в истоках теории криминализации выделялись главные, второстепенные, обязательные, альтернативные факторы криминализации деяний. Так, в 1981 г. В.Д. Филимонов уточнил значение понятия «социальные основания норм уголовного права», подчеркнул необходимость выяснения той роли, которую каждый из факторов играет в решении вопроса о криминализации деяния: от определяющего до чисто технического [40. С. 62-63]. В современной литературе вновь акцентируется на этом внимание. Л.М. Прозументов, например, напомнил, что распространенность деяний - факультативный признак их общественной опасности [41. С. 227-230]. Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 1. До сих пор идет уточнение факторов, определение составляющих теории криминализации деяний; имеющиеся наработки в этой области не используются в полной мере. 2. Криминализация должна пониматься в узком значении; она не включает и не может охватить всех стадий обоснования закона. Но социальные и правовые факторы криминализации деяний должны учитываться, но по-особенному и на других стадиях обоснования закона. Кроме них на других этапах обоснования закона подключаются свои факторы, характерные как для того или иного этапа, так и для обосновываемого отдельного признака состава, диспозиции, санкции, нормы, института. 3. Не совсем корректно рассуждать о криминализации деяний, признаки которых закреплены в УК РФ десятилетния назад. В них речь идет об ее обоснованности, соответствии несоответствии не только факторам криминализации, но и другим социальным, правовым и другим факторам обоснования закона, которые включают оценку эффективности применения нормы. 4. Криминализация деяний на самом деле - это обоснование выбора вида деятельности в качестве преступного с позиций социальных и правовых факторов. 5. Объединить все эти процессы в стройную, цельную, сквозную систему социальных и правовых критериев, их показателей от зарождения уголовного запрета, закона, закрепления его признаков в УК РФ, его толкования, применения, исполнения призвана теория обоснования уголовного закона. Именно теория, а не учение, поскольку она «представляет собой внутренне дифференцированную, но целостную систему знания, которую характеризуют логическая зависимость одних элементов от других, выводимость ее содержания из некоторой совокупности утверждений и понятий - исходного базиса теории» [42]. В процессе как абсолютного, так и относительного обоснования устанавливается связь (в нашем случае соответствие между двумя объектами - основанием (в нашем случае социальные и правовые факторы) и обосновываемым (уголовный закон, отдельный институт норма, статья, толкование, применение, исполнение закона), сообщающая при этом второму какие-либо характеристики первого [43]. 122 Плохова В.И. Теория обоснования уголовного закона Отдельные аспекты теории обоснования уголовного запрета, закона исследуются некоторыми авторами. В одних исследованиях предлагается общее конституционное обоснование уголовного закона [44-45], концепции преступления и наказания [46] на соответствие отдельным конституционным принципам [14]. В других исследованиях уголовный закон, отдельные группы преступлений оцениваются на соответствие/несо-ответствие криминолого-правовыми [47] социально-криминолого правовым факторам (показателям) обоснования закона [48-50]. Исследования достойные, но разрозненные, разноплановые, многие положения теории обоснования требуют дополнительных исследований. В нынешнем недооформленном состоянии она не используется в полном объеме не только исследователями, но и законодателем [51], правоприменителем, экспертом. Проведенное нами в 2020 г. исследование показало, что при осуществлении всех видов официально существующих в России экспертиз закона и правоприменения (кроме предусмотренной в Конституции РФ 2020 г.) не проверяется их соответствие содержательным нормам Конституции РФ, а отсюда и социальным и правовым факторам, не проводятся социально-криминологическая и другие экспертизы проектов законов, обязанность проводить и учитывать их результаты вытекает из конституционных норм [52. C. 321]. Из изложенного следует, что и первый блок теории обоснования - криминализация деяний, и все другие требуют систематизации имеющихся знаний, дальнейшего исследования социальных и правовых факторов обоснования закона в разных аспектах и обобщения их результатов. Актуальнейшая задача в силу последних изменений Конституции РФ и необходимости обновлять законодательство. Одновременно и труднейшая задача, решить которую под силу крупному федеральному научному центру, объединяющему потенциал исследователей разных регионов России и других стран.
Ключевые слова
криминализация,
пенализация,
опасность,
вред,
конституционные основы,
критерии,
уголовный закон,
использованиеАвторы
| Плохова Валентина Ивановна | Алтайский государственный университет | профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии | vplohova@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
По делу о проверке конституционности Ч.1 ст.1.7 и Ч.4 ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, п.4 ст.1 ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и УПК РФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности».... в связи с жалобами граждан А.И. Заляутдинова, Н.Я. Исмагилова и О.В. Чередняк : Постановление Конституционного Суда РФ от 14.06.2018. № 23-П. URL: http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
По делу о проверке конституционности части первой статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации, части второй статьи 24, части второй статьи 27, части первой статьи 239 и пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой : Постановление Кон-123 Проблемы публичного права / Problems of the public law ституционного Суда РФ от 15.10.2018 г. 36-П. URL: http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
По делу о проверке конституционности статьи 22, пункта 2 части первой статьи 24, части второй статьи 27, части третьей статьи 246, части третьей статьи 249, пункта 2 статьи 254, статьи 256 и части четвертой статьи 321 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.И. Тихомоловой : Постановление КС от 13.04.21, № 13. URL: http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
По делу о проверке конституционности статьи 116.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Л.Ф. Саковой: Постановление Конституционного Суда РФ от 08.04.2021. № 11-П. URL: http://ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка: Законопроект № 1112019-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1112019-7
Плаксина Т. А. Ответственность за побои в свете предполагаемого введения в закон понятия уголовного проступка // Алтайский юридический вестник. 2018. № 2 (22). С. 115-119.
Авдошина Ю.В., Васькина Ю.В. Права человека в массовом сознании: региональный опыт // Социологические исследования. 2019. № 2. С. 88-96.
О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 18.03.2019. № 28-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320403/
Федеральный закон от 18.03.2019 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320399/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/
Незнамова З.А. Криминализация и декриминализация как индикатор отношения человека и власти // Российский человек и власть в контексте радикальных изменений в современном мире : материалы XXI Рос. науч.-практ. конф. (с международным участием), 12-13 апреля 2019 года : доклады / редкол.: Л.А. Закс и др. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2019. С. 6-8.
Кузьменков В. А. Криминальная аномия как социальная проблема // Социологические исследования. 2019. № 1. С. 96-105.
Пономарева Е.Е. Уголовно-правовые проблемы с браконьерством на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне. М. : Юрлитинформ, 2010. 144 с.
Плаксина Т.А. Применение насилия в отношении представителя власти: законодательная и практическая пенализация // Алтайский юридический вестник. 2021. № 1 (33). С. 85-91.
Плохова В.И. Вынужденная неопределенность норм уголовного права и (или) некорректное закрепление, толкование их признаков (на примере ст. 138.1 УК РФ) // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 433. С. 207-215.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина» от 10.02.2017 № 2-П. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности пунктов 1 и 6 статьи 5 Закона Республики Коми “О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми” в связи с жалобами граждан М.С. Седовой и В.П. Терешонковой» от 01.11.2019 № 33-П. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx.
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу о проверке конституционности статьи 324 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.М. Деменьшиной» от 27.02.2020 № 10-П. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346640/
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
Иванов Н.Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа криминализации. М. : Проспект, 2016. 80 с.
Нечаев А.П. Концептуальные основы и теоретическое моделирование криминализации и декриминализации : дис.. канд. юрид. наук. Саратов, 2017. 331 с.
Полный курс уголовного права : в 5 т. СПб. : Юридический центр Пресс, 2008. Т. 1. 1133 c.
Плохова В.И. Теория деятельности: психологические и правовые аспекты // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 4. С. 18-24.
Плотников А.И. Объективное и субъективное в преступлении. М. : Проспект, 2011. 240 с.
Щепельков В.Ф. Уголовный закон как формально-логическая система : автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2003. 43 с.
Плохова В.И. Детализация критериев правомерного ограничения прав человека в уголовной сфере // Вестник Томского государственного университета. 2019. № 448. С. 239-245.
Дагель П. С. Условия установления уголовной наказуемости // Правоведение. 1975. № 4. С. 67-74.
Антонов И. М. Пенализация преступлений, причиняющих вред здоровью : автореф. дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2004. 31 с.
Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. Уголовное право. Уголовная ответственность. Уголовная политика. Авторский курс. М. : Юрлитинформ, 2019. 400 с.
Гейн А.К. Цель как криминообразующий признак : дис.. канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. 207 с.
Плаксина Т.А. Социальные основания квалифицирующих убийство обстоятельств и их юридическое выражение в признаках состава преступления / под науч. ред. B. Д. Филимонова. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2006. 432 с.
Кочерга В. А. Халатность: содержательные, компаративистские и правоприменительные аспекты : автореф. дис. канд. юрид. наук. Краснодар, 2017. 204 с.
Шеслер В.А. Уголовно-правовая характеристика хищения наркотических средств или психотропных веществ : дис.. канд. юрид. наук. Владивосток, 2021. 235 с.
Шебанов Д.В. О некоторых проблемах криминологической обоснованности современного российского уголовного законодательства // Теория и практика общественного развития. 2015. № 1. С. 51-53.
Молчанова Е.А. Социально-криминологическая обусловленность уголовной ответственности частнопрактикующих нотариусов за злоупотребление полномочиями // Аспирантский вестник Ленинградского госуниверситета им. А.С. Пушкина. 2010. № 4. C. 196-204.
Суворов А. С. Анализ социально-юридической обусловленности уголовной ответственности за подделку или уничтожение идентификационного знака транспортного средства // Общество и право. 2010. № 2 (29). С. 129-134.
Гамидов Р.Т. Социальная обусловленность уголовной наказуемости // Бизнес в законе. 2014. № 6. С. 46-49.
Лебедев А. С. Социальная обусловленность криминализации подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства // Всероссийский криминологический журнал. 2011. № 3 (17). С. 86-88.
Сухарев С.Н. Социальная обусловленность уголовной ответственности несовершеннолетних // Человек: преступление и наказание. 2016. № 1 (92). С. 96-99.
Гусаренко Д.М. Криминализация посягательств на особо ценные виды диких животных : дис.. канд. юрид. наук. Хабаровск, 2020. 225 с.
Филимонов В.Д. Криминологические основы уголовного права. Томск, 1981. 213 с.
Прозументов Л.М. Распространенность деяний как факультативный признак их общественной опасности // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 429. С. 227-230.
Стёпин B.C., Швырёв В.С., Абушенко В.Л., Васюков В.Л., Мамчур Е.Л., Голдберг Ф.И. Теория / Гуманитарный портал: Концепты // Центр гуманитарных технологий, 2002-2021 (последняя редакция: 22.03.2021). URL: https://gtmarket.ru/concepts/6945
Ивин А. А. Основы теории аргументации. М. : ВЛАДОС, 1997. 97 с.
Елинский А.В. Проблемы уголовного права в конституционном измерении. М. : Юрлитинформ, 2012. 496 с.
Ображиев К.В. Формальные (юридические) источники российского уголовного права. М. : Юрлитинформ, 2010. 216 с.
Гузеева О. С. Преступление и наказание: конституционные основы уголовноправовой концепции. М. : Юрлитинформ, 2020. 272 с.
Филимонов В.Д. Криминологические основания норм уголовного права // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2016. № 2. С. 87-94.
Пудовочкин Ю.Е. Учение об основах уголовного права. М., 2012. 240 с.
Маркунцов С.А. Базовые положения теории уголовно-правовых запретов. М. : Юриспруденция, 2013. 252 с.
Плохова В. И. Обоснование уголовного закона: социальные и правовые основы. Саарбрюкен : Palmarium Academic Publishing, 2012. 200 с.
Коробеев А. И. Уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса. М. : Юрлитинформ, 2019. 352 с.
Плохова В. И. Современное состояние УК РФ и пути его совершенствования // Право и правоприменение в современной России : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / ред. И.А. Кравец, Т.В. Шепель, Н.В. Омелехина, А.М. Баксалова, Е.Р. Воронкова. Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. С. 318-322.
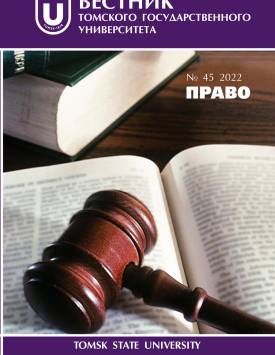

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью