Права осужденных в исправительных учреждениях: ограничения и обеспечение
Освещается ряд дискуссионных вопросов правового статуса осужденных в исправительных учреждениях. Отмечается несоответствие общего подхода законодателя к правовому положению осужденных (ст. 10 УИК РФ) и конкретных положений Кодекса об отбывании лишения свободы. Аргументируется вывод, что при всей важности обеспечения прав осужденных это не относится к основной цели уголовно-исполнительной системы, а выступает необходимым условием легитимности и эффективности ее деятельности. Выдвигается предложение о придании «требованиям» прокурора статуса самостоятельного средства прокурорского реагирования в области исполнения наказаний. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The rights of convicts in correctional institutions: restrictions and provision.pdf В соответствии с Конституцией России (ч. 3 ст. 55), установленные ее Главой 2 права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и только «в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Констатация основополагающего значения данной нормы давно стала общим местом практически во всех отраслях российской юридической науки. Тем не менее применительно к теме настоящей статьи здесь возникает как минимум два вопроса. Первый - почему Глава 2 Конституции не закрепляет право гражданина на личную свободу? Второй - почему правомерное ограничение прав и свобод не предусмотрено в качестве наказания за правонарушение? 97 Проблемы публичного права / Problems of the public law Разумеется, косвенные ответы на эти вопросы очевидны. Право гражданина на личную свободу - необходимое условие и юридическая предпосылка осуществления им всех иных прав и свобод. И всякое наказание в конечном счете направлено на достижение целей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Тем не менее это само по себе не снимает парадоксальности юридической ситуации, при которой наказание в виде лишения свободы (на определенный срок либо пожизненно) в Уголовном кодексе есть, а права личной свободы гражданина в Конституции нет. И не случайно многочисленные попытки различных авторов определить четкое юридическое содержание данного наказания на законодательном уровне постоянно оказываются безуспешным. Статья 43 УК РФ определяет, что содержание всякого наказания «заключается в предусмотренных настоящим Кодексом лишении или ограничении прав и свобод» виновного. Такой подход себя оправдывает применительно к большинству установленных Кодексом наказаний, но не в отношении лишения свободы и принудительных работ1. В теории уголовного и уголовно-исполнительного (исполнительнотрудового) права исторически сложилось два основных подхода к определению лишения свободы. Первый, который, условно говоря, можно именовать «субстантивным», состоит в попытках исчерпывающе установить весь комплекс (юридическую субстанцию) правоограничений личности, комплекс которых и образует юридическое содержание этого наказания. Как отмечалось выше, также попытки не достигали цели, поскольку перечисление многих конкретных ограничений всегда завершалось оговорками типа «и т. д.», «и т. п.», «и др.». Другие ученые, чей подход можно условно именовать «атрибутивным», во главу угла ставили и ставят неотъемлемый институциональный «атрибут» наказания в виде лишения свободы - специальное государственное учреждение, обеспечивающее изоляцию под охраной2. Подход законодателя противоречив. С одной стороны, исходя из общего определения наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ), он демонстрирует «субстантивный». С другой - «атрибутивный», говоря, что лишение свободы «заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму (ст. 56 УК)»3. 1 Последние в данном случае не являются предметом нашего рассмотрения. 2 Неинституциональным лишением свободы с такой позиции следует считать домашний арест. 3 Здесь, на наш взгляд, тоже нужны уточнения. Во-первых, в колониях-поселениях отсутствует охрана и изоляция (ст. 129 УИК РФ). Во-вторых, различные виды учреждений уже не ассоциируются однозначно с каким-либо одним видом режима. Кроме того, на одной территории могут существовать и «классическая» охраняемая колония, и колония-поселение, и тюрьма (ПФРТ), и СИЗО (ПФРСИ), и даже исправительный центр (УФИЦ). 98 Уткин В.А. Права осужденных в исправительных учреждениях В Уголовно-исполнительном кодексе РФ ситуация аналогична. В Общей части (ч. 2 ст. 10) указывается, что «при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовноисполнительным законодательством Российской Федерации», что в целом корреспондирует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 1 ст. 43 УК РФ. Однако по сравнению с последней существенно расширяется круг юридических источников этих ограничений: ст. 43 говорит об ограничениях, устанавливаемых только «Кодексом», а УИК РФ также и «уголовно-исполнительным, и иным законодательством». Во всяком случае, по смыслу ч. 1 ст. 2 УИК РФ, это должно быть источником уровня федерального закона. К тому же ч. 4 ст. 10 УИК РФ предусматривает, что «права и обязанности осужденных определяются настоящим Кодексом, исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания». В то же время закрепленный в ст. 10 УИК РФ «субстантивный» подход неизбежно «дает осечку», когда речь идет о наказании в виде лишения свободы. Ведь наиболее значительная часть законодательных норм, определяющих специфику правового статуса осужденных в местах лишения свободы, существует не в виде ограничений, а в виде их конкретных прав. Это ст. 88-95, 99 УИК РФ и другие, а также их конкретизация в положениях Главы 16 Кодекса об особенностях исполнения лишения свободы в исправительных учреждениях разных видов. И далеко не все из таких прав представляют из себя «остатки» конституционных прав человека и гражданина (подробнее см.: [1. С. 136]). Статья 1 УИК РФ гласит, что «Российская Федерация уважает и охраняет права, свободы и законные интересы осужденных, обеспечивает законность применения средств их исправления, их правовую защиту и личную безопасность при исполнении наказаний». Очевидно, что данное положение особенно актуально при нахождении осужденных в условиях принудительной изоляции и строгой регламентации всего их образа жизни, а именно - в исправительных учреждениях. Обеспечение прав человека как одна из основных целей уголовно-исполнительной системы неизменно провозглашается как одна их важнейших целей УИС. Так, в Концепции развития Российской Федерации до 2030 г.1 среди целей Концепции, которые по сути отождествляются с целями УИС2, на первом месте стоит «обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях УИС, и гуманизация условий отбывания наказания и мер пресечения (Раздел III)». Однако специального раздела по обеспечению прав осужденных в местах лишения свободы в Концепции нет, хотя в Разделе V «Совершенствование и гуманизация уголовно-исполнительной политики» из пяти закрепленных в нем 1 Далее - «Концепция 2030». 2 Что, на наш взгляд, все же не совсем правильно, поскольку цели «Концепции 2030» - это цели документа стратегического планирования, а цели УИС - это цели системы федеральных органов исполнительной власти. 99 Проблемы публичного права / Problems of the public law положений, строго говоря, только одно относится непосредственно к обеспечению прав осужденных, понимаемому как «обеспечение их безопасности пресечение фактов применения к ним сотрудниками уголовноисполнительной системы недозволенных методов воздействия, бесчеловечного, жестокого, унижающего человеческое достоинство обращения, а также неправомерного применения физической силы и специальных средств». Само по себе это, безусловно, значимо, хотя бы потому что в этом документе стратегического планирования тем самым прямо признается наличие такой проблемы. Между тем решение проблемы обеспечения прав само по себе гораздо шире и многообразней недопущения пыток. Впрочем, такая оговорка не случайна. Как свидетельствуют нормотворческая и правоприменительная практики, а также содержание официальных документов высокого уровня и выступления ряда руководителей ФСИН, на деле вопросы обеспечения прав осужденных сплошь и рядом подменяются вопросами расширения их прав, т.е. так называемой гуманизацией, а точнее - либерализацией условий отбывания лишения свободы путем установления в законе всевозможных преференций, причем чаще всего для отдельных немногочисленных категорий лишенных свободы. Об этом говорит и содержание соответствующих разделов «Концепции 2030». Однако всякому юристу ясно, что расширение прав и их обеспечение - не одно и то же. К примеру, в Главе 7 Конституции СССР 1977 г. в названии соответствующих статей о правах граждан определялось конкретное конституционное право (например, право на образование - ст. 45), а содержание начиналось словами «Это право обеспечивается...». Кроме того, налицо противоположные тенденции развития в данном отношении уголовно-исполнительного законодательства (отраженные также в программных документах федерального уровня) и ведомственного нормотворчества. Если законодательство время от времени расширяет круг прав осужденных, то число возлагаемых на них запретов, основных обязанностей, предусмотренных Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, столь же последовательно растет. Наличие таких нормативных актов само по себе предусмотрено ст. 4 и целым рядом других статей УИК РФ, но их все же нельзя отнести к «законодательству», каковым, исходя их ч. 1 ст. 2 Кодекса, являются УИК РФ и «другие федеральные законы». К примеру, в Правилах внутреннего распорядка исправительнотрудовых учреждений, принятых МВД СССР в 1972 г., в качестве основных было закреплено 6 прав, 11 обязанностей и 18 запретов. Правила 1992 г. основных прав не предусматривали вовсе, закрепляя 8 обязанностей и 16 запретов. С тех пор после принятия Уголовно-исполнительного кодекс РФ область ведомственного нормативно-правового регулирования в этом направлении постоянно расширялась. Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений, принятые уже Минюстом России в 2001 г., закрепляли в качестве основных 9 прав, 11 обязанностей и 18 запре- 100 Уткин В.А. Права осужденных в исправительных учреждениях тов. Правила 2005 г., соответственно, 10, 11 и 21. В Правилах 2016 г. содержалось уже 10 основных прав, 14 обязанностей и 24 запрета, а в действующих Правилах внутреннего распорядка, принятых Минюстом в июле 2022 г., в числе таковых наличествует 25 прав, 21 обязанностей и 41 (!) запрет. В рамках данной статьи не ставится цель проанализировать юридическое содержание и обоснованность основных обязанностей и запретов, установленных для осужденных Правилами 2022 г. Интересную попытку здесь предприняли С.М. Савушкин и А. А. Храмов [3]. Хотя не со всеми их критическими суждениями, на наш взгляд, стоит согласиться, само по себе это симптоматично. Тем более, что такой анализ предпринят представителями «ведомственного» крыла науки уголовно-исполнительного права. С учетом упомянутой ранее ч. 2 ст. 55 Конституции РФ и отмеченных тенденций ведомственного нормотворчества не теряет актуальности проблема оптимального соотношения законодательных и подзаконных актов в установлении ограничений прав осужденных. В данном отношении заслуживает внимания Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан 2015 г. В одной из его статей законодатель стремился определить в некой общей норме основные особенности правового статуса осужденных к лишению свободы (ст. 104 УИК РК «Права и обязанности осужденных»). Однако это было сделано простым перемещением в закон большинства положений Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений РК, в силу чего в этом перечне оказались явно «разнокалиберные» юридические предписания. К примеру, на законодательном уровне осужденным запрещается «менять спальные места (п. 17 ч. 1)» и «закрывать смотровой глазок на двери камеры (п. 19 ч. 1)». В русле дальнейшей научной разработки проекта нового Уголовноисполнительного кодекса РФ [4. С. 24-40] целесообразно в новом Кодексе наряду с иными предусмотреть отдельную Общую часть именно для наказания в виде лишения свободы с указанием лишь тех специфических прав, обязанностей и запретов, которыми должны обладать осужденные в условиях изоляции от общества. Тогда не возникает недоуменного вопроса, распространяется ли, скажем, расположенная в Общей части УИК РФ (ст. 11) обязанность «соблюдать... требования санитарии и гигиены» на осужденных условно или к штрафу. В первую очередь в такой Общей части необходимо закрепить законодательную обязанность осужденных постоянно находиться в пределах территории исправительных учреждений и не покидать их, за исключением установленных законом случаев. Ведь установленное ст. 82 УИК РФ требование «охраны и изоляции осужденных» обращено не к ним, а к персоналу уголовно-исполнительной системы. Сегодня такая обязанность возложена законом (п. «в» ч. 2 ст. 604 УИК РФ) только на осужденных к принудработам, находящимся в исправительных центрах. Возложение ее на осужденных в исправительных учреждениях, конечно, само по себе мало что прибавит к их существующему правовому положению, но все же позволит более четко отвечать на поставленный 101 Проблемы публичного права / Problems of the public law выше вопрос, почему степень ограничений целого ряда прав осужденных осуществляется не возложением обязанностей или запретов, а предоставлением прав на общем «фоне» изоляции, дифференцируя ее степень в зависимости от вида учреждения и строгости режима. Некоторые сложности, порой, возникают, когда само наличие и содержание тех или иных юридических прав осужденных приходится выводить посредством систематического и даже лингвистического толкования неких обезличенных формулировок, в большей мере свойственных бюрократическим инструкциям, когда закон использует, как говорят филологи, «страдательный залог глаголов». Если, скажем, ст. 12 УИК РФ в этом смысле изложена достаточно недвусмысленно («осужденные имеют право»), то из предписаний многих норм Особенной части Кодекса судить об их юридической природе довольно непросто. К примеру, ч. 1 ст. 73 УИК РФ определяет, что «осужденные к лишению свободы... отбывают наказание в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены». Значит ли это, что при отсутствии предусмотренных данной статьей исключений осужденный имеет субъективное право отбывания лишения свободы в пределах субъекта Федерации по месту жительства? Часть 1 ст. 89 УИК РФ говорит о том, что «осужденным... предоставляются свидания», согласно ч. 2 ст. 92 «администрация. предоставляет возможность», ч. 1 ст. 95 использует термин «разрешается»; в ч. 2 ст. 99 указано, что осужденным «предоставляются индивидуальные спальные места» и т. д. Вероятно, впредь целесообразно провести масштабную «инвентаризацию» законодательного материала с привлечением лингвистов для расширения в подобных ситуациях более категоричных юридических формулировок, дабы сузить возможные разночтения и почву для конфликтов и жалоб. Но это отнюдь не простая задача. Вспомним идею разработки и принятия на уровне Организации Объединенных Наций некоего «Международного кодекса о правах заключенных» на смену действовавшим тогда Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными 1955 г. Эта идея так и не была реализована, и большинство норм Минимальных правил ООН 2015 г. (Правил Нельсона Манделы) тоже используют отмеченную выше формулировку пресловутого «страдательного залога». Проблема обеспечения прав и законных интересов осужденных в деятельности УИС не теряет свой актуальности, имея целый ряд аспектов (юридических, экономических, организационных, контрольно-надзорных и т.д.). Вполне понятно, почему в регулярных статистических сборниках НИИИТ ФСИН России всегда присутствует специальный раздел «Состояние законности и соблюдение прав человека». Тем не менее позволим себе обосновать, на первый взгляд, спорный тезис: обеспечение прав и законных интересов осужденных само по себе не является основной или даже одной из основных целей уголовно-исполнительной системы. С позиций философской методологии системного подхода система -это целостная совокупность необходимых и достаточных взаимодействующих элементов, созданная для достижения определенной цели при за- 102 Уткин В.А. Права осужденных в исправительных учреждениях данных внешних условиях (требованиях) [5. С. 123-141]. Именно цель выделяет систему из всего многообразного комплекса взаимодействующих элементов. Иначе говоря, система - это тот комплекс, который создается для достижения определенной цели. Самое общее представление о ее содержании применительно к исполнению лишения свободы дает ст. 58 Минимальных стандартных правил ООН 1955 г.: «Целью и оправданием приговора к тюремному заключению и или вообще к лишению свободы является защита общества и предотвращение угрожающих ему преступлений. Этой цели можно добиться только в том случае, если после отбытия срока заключения правонарушитель оказывается не только готовым, но и способным подчиниться законодательству и обеспечивать свое существование» [6. С. 303]. Какие структуры создаются в государстве именно для обеспечения, защиты прав человека? Прежде всего - уполномоченные по правам человека, по правам предпринимателей, по правам ребенка (федерального и региональных уровней), применительно к исполнению лишения свободы - это общественные наблюдательные комиссии и, разумеется, прокуратура. Значит ли это, что обеспечение прав человека не должно иметь места в деятельности уголовно-исполнительной системы? Конечно, нет, как и в деятельности органов внутренних дел, органов дознания и предварительного следствия и т.д. Просто все перечисленные органы создаются, строго говоря, не для обеспечения прав человека, а для достижения иных общественно значимых и государственных целей. И если считать иначе и иметь в виду с учетом процитированного выше положения «Концепции 2030» о пресечении пыток, что к последним (по определению) могут быть причастны сами сотрудники УИС либо иные лица («с их ведома или молчаливого согласия»), то следует неизбежно прийти к выводу, что уголовноисполнительная система создается для защиты осужденных от себя самой. С учетом сказанного обеспечение прав и законных интересов осужденных - это вовсе не цель уголовно-исполнительной системы, а необходимое внешнее условие ее деятельности, категорическое требование или принцип, являющийся, в свою очередь, конкретным выражением принципа законности. Ведь, как указано в Конвенции ООН против пыток (1984 г.), в определение пыток «не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно» [6. С. 110]. Наиболее близкой к данной позиции была точка зрения законодателя применительно к Закону РФ от 21 июля 1993 г. «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». Среди задач деятельности уголовно-исполнительной системы (ст. 2) задача обеспечения прав осужденных не указывалась1, хотя в его ст. 1 «Принципы уголовно-исполнительной системы» говорится, что «деятельность уголов- 1 В связи с принятием Положения о Федеральной службе исполнения наказаний в 2004 г. ст. 2 из названного Закона была исключена. 103 Проблемы публичного права / Problems of the public law но-исполнительной системы осуществляется на основе принципов законности, гуманизма и уважения прав человека». Тем самым, не будучи непосредственно системообразующей целью уголовно-исполнительной системы, требование соблюдения и обеспечения прав осужденных - из ключевых условий ее деятельности, выполнение которого - залог легитимности самой системы, ее эффективности и авторитета в обществе и государстве. На этот счет уместно привести одно из положений принятого ООН в 1973 г. Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: «Правительства не могут ожидать от граждан соблюдения ими правопорядка, если они не могут или не хотят обеспечивать соблюдение законности их собственными должностными лицами и в рамках их собственных учреждений» [6. С. 323]. В этой связи рассматриваемое требование выступает предметом контроля многочисленных ведомственных и вневедомственных структур, которые с той или иной степенью конкретизации полномочий упомянуты в ст. 19-24 УИК РФ. Первое место среди них (по функционалу, полномочиям и активности) традиционно занимает прокуратура. Статья 22 УИК РФ, посвященная прокурорскому надзору, является бланкетной, отсылая к Закону РФ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре Российской Федерации», принятому еще до принятия Кодекса1. В статьях 22-251 рассматриваемого Закона определяются виды актов прокурорского реагирования: протест (ст. 23), представление (ст. 24), постановление (ст. 25), предостережение (ст. 25:). Между тем в ст. 33 и 34 упоминается еще одно полномочие прокурора, на наш взгляд, принципиально важное и потенциально весьма перспективное как средство оперативной реакции на нарушение прав осужденных. Статья 34 озаглавлена «Обязательность исполнения постановлений и требований прокурора (здесь и далее выделено мной. - В.У.)». В ней говорится, что «постановления и требования прокурора относительно исполнения установленных законом порядка и условий содержания задержанных, заключенных под стражу, осужденных... подлежат обязательному исполнению администрацией, а также органами, исполняющими приговоры судов в отношении лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы». В более общем виде аналогичное положение изложено в ст. 6 Закона о прокуратуре: «Требования прокурора, вытекающие из его полномочий. подлежат безусловному выполнению в установленный срок (в редакции Федерального закона № 265 ФЗ от 1.07.2021 г.)». В то же время в числе конкретных самостоятельных полномочий прокурора, изложенных в ст. 23-251, «требования» не фигурируют вовсе. Сам по себе этот термин, помимо сферы исполнения наказаний, используется в 1 Впоследствии в данный Закон вносились многочисленные поправки, а ст. 22 УИК РФ именует его «федеральным законом». Думается, это юридически не вполне корректно, ибо само понятие «федеральный закон» появилось только в Конституции РФ в декабре 1993 г. 104 Уткин В.А. Права осужденных в исправительных учреждениях Законе о прокуратуре, помимо ст. 33 и 34, в двух случаях: при истребовании прокурором необходимых документов и материалов и как требование прокурора об изменении нормативно-правового акта, содержащего коррупционные факторы (ст. 9.1). Причем в ч. 2 и 3 данной статьи определены основания, содержание, а также порядок выполнения и обжалования прокурорских требований. Практика прокурорского надзора также не признает за «требованиями» прокурора в уголовно-исполнительной сфере самостоятельного значения, а прокуроры включают их в акты о проверке, протесты и представления [7. С. 116]. Не отражены «требования» как формы прокурорского реагирования и в статистике ФСИН России. По ее данным, в 2021 г. прокурорами было вынесено всего 23 615 актов (в 2020 г. - 22 755). В их числе - представления (71 и 69% соответственно) и протесты (18,5 и 20% соответственно). В итоге соответствующие положения ст. 33 и 34 Закона о прокуратуре, к сожалению, пока остаются декларацией, существенно ограничивая потенциальные полномочия прокуратуры в ее надзорной деятельности в области обеспечения прав человека в местах лишения свободы и других учреждениях принудительного содержания.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 25
Ключевые слова
правовой статус осужденных, уголовно-исполнительная система, исправительные учрежденияАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Уткин Владимир Александрович | Томский государственный университет | заслуженный юрист РФ, профессор, доктор юридических наук, заведующий кафедрой уголовно-исполнительного права и криминологии Юридического института | utkinva@inbox.ru |
Ссылки
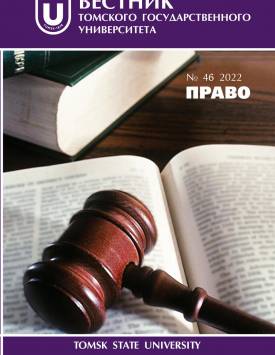
Права осужденных в исправительных учреждениях: ограничения и обеспечение | Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2022. № 46. DOI: 10.17223/22253513/46/7
Скачать полнотекстовую версию
Полнотекстовая версия
Загружен, раз: 122

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью