Административное и судебное усмотрение в российской науке: проблемы соотношения
Сопоставляются научные взгляды отечественных исследователей на проблему соотношения административного и судебного усмотрения. Анализируются академические подходы к таким вопросам, как объемы дискреционных полномочий, принадлежащих органам исполнительной и судебной власти, виды (сферы) юридической деятельности, в рамках которых реализуются административное и судебное усмотрение, а также административный и судебный произвол. По каждому из означенных вопросов высказываются авторские позиции. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Administrative and judicial discretion in Russian Science: problems of correlation.pdf Введение Вопросы соотношения административного и судебного усмотрения штудируются российскими исследователями не один десяток лет. Порой 108 Щепалов С.В., Зайцев Д.И. Административное и судебное усмотрение начинает казаться, что они совершенно себя исчерпали, но чуть ли не с каждой новой работой по заявленной теме такие иллюзии пусть понемногу, но все-таки развеиваются. Вскрываются очередные проблемные пласты, обнаруживается несостоятельность тех или иных подходов, предлагаются новые способы решения старых задач... И хотя все это - обычный процесс научного поиска: долгий, запутанный и трудоемкий, каждый автор надеется, что именно ему удастся поставить если не кульминационную, то по крайней мере опорную точку. Авторы настоящей статьи решили отказаться от столь амбициозной цели и попробовать изучить не столько проблемы, сколько их отображение в академической литературе; судя по всему, такая потребность давно назрела. Конечно, наша работа не станет строго историографической, по ряду позиций будут даны критические замечания и высказаны собственные соображения. Однако общая целевая установка все же выразится в анализе и синтезе научных взглядов. Еще одна особенность данной статьи состоит в том, что мы намерены обсудить именно проблемные стороны, связанные с дискреционными полномочиями органов исполнительной и судебной власти, т.е. такие вопросы, которые пока нельзя считать закрытыми. По этой причине мы не станем обращаться к тем сходствам и различиям административного и судебного усмотрения, которые уже давно определены в отечественной юридической науке и никем не оспариваются. Представляется, что при желании читатели смогут сделать это самостоятельно. Кроме того, мы предпримем попытку рассматривать все явления, категории и институты, с которыми нам придется столкнуться, с общетеоретических позиций, без привязки к текущему моменту времени или конкретному национальному правопорядку. Такой метод при всех своих недостатках позволит не только приблизиться к построению универсальной теории административной и судебной дискреции, но и продемонстрировать российский вклад в эту теорию. Структурно статья выглядит следующим образом. В качестве отправного пункта мы сопоставим объемы дискреционных полномочий, принадлежащих органам исполнительной и судебной власти. Далее перейдем к видам (сферам) юридической деятельности, в рамках которых реализуется административное и судебное усмотрение. Затем, с учетом промежуточных выводов, очертим проблему административного и судебного произвола. И в заключении, наконец, мы подведем итоги, поделившись общим впечатлением от изученных работ. Объемы дискреционных полномочий, принадлежащих органам исполнительной и судебной власти В российской юридической литературе термин «объем дискреционных полномочий» не имеет единственного, общепризнанного значения и употребляется, как нам думается, в узком или широком смысле. В первом слу- 109 Проблемы публичного права / Problems of the public law чае данное словосочетание отождествляется с выражением «пределы (границы) усмотрения», во втором - затрагивает также всю совокупность дискреционных полномочий, осуществляемых субъектами усмотрения (применительно к теме нашего исследования - органами исполнительной и судебной власти), т.е. охватывает собой как качественные (вертикальные), так и количественные (горизонтальные) параметры. Ввиду этого сравнение научных взглядов на проблему «размеров» дискреционных полномочий осложняется тем, что одни авторы в своих трудах руководствуются узким толкованием искомого понятия, а другие - широким. Впрочем, если учитывать это обстоятельство, можно выделить две стержневые точки зрения на вопрос о соотношении административного и судебного усмотрения по объему. Согласно первой из них, органы исполнительной власти и их должностные лица в качественном аспекте обладают «меньшим» усмотрением, нежели судьи. Один из апологетов этой позиции, В. В. Денисенко, аргументирует ее тем, что «сфера действия судейского усмотрения более обширна, т.к. оно проявляет себя как в публичном, так и в частном праве» [1. С. 231]. С данным утверждением, разумеется, нельзя не согласиться, хотя и признать его полностью верным тоже нельзя. В дополнение к словам В.В. Денисенко хочется отметить, что судьи по своему усмотрению обращаются не только к закону и его аналогии, но и к аналогии права, юридической доктрине, правовым памятникам и т.д. Этот перечень в тех или иных государствах может быть уже или шире, однако он всегда будет «длиннее» того списка источников, на который опираются государственные чиновники при осуществлении административного усмотрения. Причины этого главным образом лежат в практической плоскости и заключаются в следующем: 1) суды обязаны контролировать деятельность администрации, для чего судьям необходимо разбираться в соответствующих вопросах как минимум не хуже чиновников; 2) при этом суды сталкиваются и с другими, более сложными и разнородными делами, чем те, которыми занимаются органы исполнительной власти, что требует дополнительных возможностей для судей; 3) агенты исполнительной власти обычно не располагают достаточным количеством времени для размышления над конфликтной ситуацией, порой они вынуждены принимать решения в течение нескольких секунд (например, полицейский при применении оружия), а судьи вправе рассматривать споры на протяжении месяцев или лет; 4) судебные акты содержат в себе более скрупулезную мотивировочную часть, чем административные; 5) администрация традиционно воспринимается как промежуточная инстанция, а суд - как конечная. Вторая позиция состоит в том, что административное усмотрение отличается от судебного большим объемом. Так, по мнению Е.А. Чабана, последнее «ограничено не только законом, но и судебной практикой высших 110 Щепалов С.В., Зайцев Д.И. Административное и судебное усмотрение судебных инстанций» [2]. Данный довод также вызывает несколько возражений. Во-первых, только российские ученые считают, что дискреционные решения не должны противоречить законодательству (хотя и здесь встречаются приверженцы противоположной точки зрения); в большинстве зарубежных стран исследователи оценивают дискрецию как неправовой или внеправовой институт [3]. Во-вторых, справедливо ли допущение о том, что судебная практика совершенно не влияет на функционирование исполнительной власти? Ведь трудно даже представить себе чиновника, решения которого по некоторому кругу дел регулярно отменяются судьями, однако он упорно продолжает выносить идентичные предыдущим вердикты. В-третьих, является ли судебная практика источником права? Если «да», то ей должны следовать и органы исполнительной, и органы судебной власти. Если же «нет», то и те и другие могут ее игнорировать (разумеется, до известных пределов - как, например, в случае с вышеупомянутым чиновником). Таким образом, анализируемое суждение нельзя признать релевантным ни для стран прецедентного права, ни для государств романо-германской правовой семьи. Вторую позицию поддерживает и О.В. Кораблина, но уже по иному соображению. Она презюмирует, что «административное усмотрение по сравнению с судебным имеет более широкие рамки поскольку правоприменителей даже по количественному критерию гораздо больше, чем, например, судей. В сфере исполнительной власти очевиден большой объем деятельности и ее динамизм, и, конечно, инвариантность поведения всех ее участников» [4. С. 46]. Речь здесь, как легко догадаться, идет о количественном аспекте дискреционных полномочий. И сказанное не грешит против истины: из трех ветвей власти исполнительная власть действительно была и остается самой многочисленной, поэтому в «суммарном» контексте судебная дискреция явно «проигрывает» административной. На наш взгляд, данная констатация настолько аксиоматична, что не нуждается в дальнейшем обсуждении. Как видим, если при сопоставлении объемов дискреционных полномочий, принадлежащих органам исполнительной и судебной власти, пользоваться лишь узким толкованием этого понятия, то неизбежно возникнет терминологическая путаница. И напротив, широкое толкование позволяет понять, что в качественном измерении судебное усмотрение многократно превышает административное, а в количественном радикально уступает ему. Этот вывод в целом может быть распространен на любые страны современного мира, в которых в более или менее отчетливой форме выражен принцип разделения властей. Виды (сферы) юридической деятельности, в рамках которых реализуются административное и судебное усмотрение Понятие «вид (сфера) юридической деятельности» есть родовая категория для таких терминов, как правотворчество, правоприменение, кодифи- 111 Проблемы публичного права / Problems of the public law кация, систематизация, конкретизация, интерпретация, контроль, учреждение и пр. (разные российские юристы вкладывают в это понятие различное содержание) [5]. Для нашего исследования интерес прежде всего представляют первые два термина - правотворчество и правоприменение. Вопрос же, собственно, кроется в следующем: реализация административно-го/судебного усмотрения - это правотворческая, правоприменительная, «совместная» (и правотворческая, и правоприменительная вкупе) или какая-то иная юридическая деятельность? Как и в случае с предыдущей проблемой, в российской науке на этот счет наличествует несколько противостоящих друг другу взглядов. К.П. Ермакова однозначно относит дискрецию органов исполнительной и судебной власти к правоприменительной деятельности. «Усмотрение как обобщенное явление, - пишет ученый, - находит свое проявление в процессе как правотворчества (усмотрение законодателя, или нормотворческое усмотрение), так и применения права (административное усмотрение, судебное усмотрение и др.)» [6. С. 48]. Данную позицию можно назвать классической, так как она опосредует наиболее привычный взгляд на правовое государство и триаду государственных властей: парламент принимает законы, администрация исполняет их, а суд на основании этих законов карает преступников и разрешает споры между гражданами. И эта позиция, несомненно, имеет право на существование - как некая идеальносхематическая модель дифференциации всех видов дискреции по признаку разделения властей. Однако подлинное юридическое бытие далеко от любых идеалов: оно негармонично, диспропорционально и самопротиворечиво. Поэтому более «приземленные» подходы к поднятой нами проблеме гораздо сложнее. А.А. Никитин считает, что административное усмотрение есть сугубо правоприменительная деятельность (в одной из своих работ ученый даже ставит между ними знак равенства [7. С. 162]), а судебное усмотрение может объединять в себе правоприменение, правотворчество и интерпретацию (толкование-разъяснение) [8. С. 463]. Данная точка зрения обладает рядом достоинств. С одной стороны, она иллюстрирует доминирующее в отечественной юридической науке представление о дискреции органов исполнительной власти и их должностных лиц [9]. С другой стороны, весьма ценно, что при создании собственной концепции автор не стал ограничивать себя национальным законодательством и национальной доктриной. Так, говоря о комплексном характере судебной дискреции, А.А. Никитин в качестве примера приводит институт общего права - судебный прецедент, который, по его мнению, является «специфической разновидностью судебного усмотрения», интегрирующей в себе правотворческий и правоприменительный элементы [8. С. 15, 351-356]. Кроме того, заслуживает одобрения и выделение третьей составляющей дискреционных полномочий суда - интерпретации. Диаметрально противоположной позиции придерживается Л.А. Шар-нина. Она утверждает, что «судебное усмотрение, в отличие от админи- 112 Щепалов С.В., Зайцев Д.И. Административное и судебное усмотрение стративного, всегда осуществляется в процессе правоприменения» [10. С. 80]. Эту очередную попытку лимитировать дискрецию суда по сравнению с дискрецией органов исполнительной власти вряд ли можно поддержать даже с учетом того, что Л.А. Шарнина, по всей видимости, говорит исключительно о российской практике. Ведь и в нашей стране правоведы давно и прямо рассуждают о «судебном правотворчестве» и «судейском праве» на отечественной почве, прецедентном характере отдельных судебных решений и т.д. [11. С. 346-349; 12-15]. Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ нередко именуют квазиправотворческими органами. В российских судебных решениях все чаще и чаще звучит выражение «аналогичная правовая позиция». Аргументы в подобном духе можно выдвигать и дальше, однако и сказанного хватит для того, чтобы опровергнуть если не сам тезис об отсутствии правотворчества в судебной деятельности, то по крайней мере его безапелляционность. Что же касается иностранной практики, то случаев, когда суд непосредственно выступает в роли законодателя, более чем достаточно. Например, Верховный Суд Британской Колумбии отказал женщинам, состоявшим в «фактическом браке», в исках о взыскании алиментов с бывших мужей [16], самостоятельно сформулировав соответствующую правовую норму [17]. Вместе с тем и концепцию А.А. Никитина можно подвергнуть критике, но не в части судебного, а в части административного усмотрения, ибо последнее, по убеждению отдельных исследователей, также может реализовываться в рамках правотворческой деятельности. Это мнение высказывалось и обосновывалось еще советскими юристами в 1970-х гг. «Представляется правильной, - подытоживал его Ю.П. Соловей в 1982 г., - позиция тех авторов, которые видят наличие усмотрения не только в правоприменительной, но и в правотворческой деятельности органов управления» [18. С. 77] (здесь подразумевается ведомственное нормотворчество, которое иногда конкретизирует, а иногда и опережает положения законодательства). Данная идея продолжает развиваться и в некоторых современных трудах [19, 20]. На наш взгляд, ответ на вопрос о сферах юридической деятельности вытекает из проблемы объемов дискреционных полномочий. Если мы допускаем, что административное и судебное усмотрение в равной степени осуществляются в правоприменительной и (или) правотворческой деятельности, то это значит, что их объемы в качественном срезе тождественны друг другу. Между тем выше было показано, что суд всегда должен иметь большие дискреционные «возможности», нежели администрация. Поэтому любая концепция, в которой не соблюдается данное неравенство, является ошибочной. Что же касается остальных позиций, то они в лучшем случае могут быть точными, а в худшем - неточными. Административный и судебный произвол Дискреционные полномочия органов исполнительной и судебной власти не есть ни абсолютное благо, ни абсолютное зло. «Административное 113 Проблемы публичного права / Problems of the public law и судейское усмотрение, - замечает по этому поводу И.А. Кравец, - могут быть использованы как для продвижения элементов господства права, так и для их нивелировки и существенного искажения» [21. С. 27]. Подобного рода негативная деформация дискреционных полномочий именуется произволом. Произвол в отечественной литературе обыкновенно определяется как выход уполномоченного лица за пределы усмотрения, которые по своей юридической природе являются правовыми ограничениями [22. С. 327]. Данная дефиниция распространяется и на административную, и на судебную дискрецию. Так, А.М. Гаврилов, обобщая позиции российских правоведов, пишет, что административный произвол - это «действия лица, наделенного властными полномочиями, выходящие за пределы легального административного усмотрения» [23. С. 60]; П.А. Гук утверждает, что «судебный произвол начинается там, где отсутствуют средства ограничения судебного усмотрения» [24. С. 135]. Думается, что описанный подход к определению административного и судебного произвола в целом верен, однако не вполне полон. Мы полагаем, что произвол как таковой - это выход либо за пределы усмотрения, либо за рамки того вида юридической деятельности, в котором реализуется это усмотрение. Приведем пример. Допустим, закон устанавливает, что за безупречную службу государственному служащему каждые четыре месяца назначается премия в размере от трех до пяти должностных окладов. Должностное лицо, определяющее размер такой премии в некотором государственном органе, не наделено нормотворческими полномочиями. Если данное лицо назначит служащему премию в размере двух должностных окладов, оно выйдет за пределы своего усмотрения. Если же это лицо издаст приказ, согласно которому за безупречную службу будет назначаться премия в размере двух должностных окладов, оно выйдет из сферы правоприменения в сферу правотворчества. Почему в данной ситуации мы не говорим, что должностное лицо вышло за пределы своих дискреционных полномочий? Потому что в области правотворческой деятельности полномочия у этого лица отсутствуют как таковые. Соответственно, если при дефилировании административного произвола не сделать оговорку о виде юридической деятельности, то получится, что в первом случае произвол имеет место быть, а во втором - нет. К сказанному следует добавить, что изучение объемов дискреционных полномочий, принадлежащих органам исполнительной и судебной власти, благоприятствует выявлению рисков, связанных с административным и судебным произволом. Административное усмотрение характеризуется колоссальным объемом дискреционных полномочий в количественном аспекте, поэтому административный произвол в первую очередь опасен массовыми, но незначительными нарушениями прав и свобод граждан. Судебное усмотрение, напротив, отличается внушительным объемом дискреционных полномочий в качественном аспекте, поэтому судебный произвол прежде всего создает угрозу серьезных, хотя и «точечных», правонарушений. Данные особенности необходимо учитывать при выборе форм и методов противодействия административному и судебному произволу. 114 Щепалов С.В., Зайцев Д.И. Административное и судебное усмотрение Заключение Проведенное исследование способствовало выявлению следующих особенностей российских научных взглядов на проблему соотношения административного и судебного усмотрения. Во-первых, в отечественной теории усмотрения нет единой, устоявшейся терминологии. Для ее изучения нам пришлось выводить и обосновывать собственное понятие - «объем дискреционных полномочий», придавать ему узкий и широкий смысл. Другие же авторы, как правило, не пробуют подвести свою точку зрения под некий единый с позициями прочих исследователей знаменатель, что несколько затрудняет понимание их взглядов. Во-вторых, многие отечественные ученые избегают абстрагирования, стараясь привязать каждый теоретический тезис к положениям российского законодательства. Представляется, что подобный метод не вполне содействует познанию сущности административного и судебного усмотрения, так как практика должна идти вслед за теорией, но не наоборот. В-третьих, закономерным результатом предыдущих проблем становится то, что в отечественных работах, посвященных административному и судебному усмотрению, присутствуют абсолютно полярные мнения по одним и тем же вопросам. Такую ситуацию нельзя признать удовлетворительной, потому что она свидетельствует о том, что исследователям не удалось достигнуть тождества мнений даже по самым краеугольным вопросам.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 29
Ключевые слова
административное усмотрение, судебное усмотрение, дискреционные полномочия, административный произвол, судебный произвол, виды юридической деятельностиАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Щепалов Станислав Владимирович | Верховный Суд Республики Карелия | кандидат юридических наук, доцент, судья | schepalov@mail.ru |
| Зайцев Дмитрий Игоревич | Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина | аспирант кафедры административного права и процесса | zaytsew93@bk.ru |
Ссылки
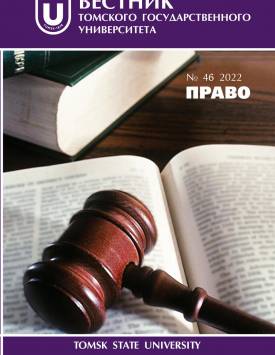
Административное и судебное усмотрение в российской науке: проблемы соотношения | Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2022. № 46. DOI: 10.17223/22253513/46/8
Скачать полнотекстовую версию
Полнотекстовая версия
Загружен, раз: 122

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью