Мировая авторская эптография: предыстория, современное состояние, перспективы
Дается обзор лексикографирования авторских цитат и их производных на материале языков разных языковых семей. На основании содержания словарей и результатов эксперимента показывается принципиальное отличие эптонимов (крылатых выражений в узком смысле) от цитат, интертекстем, крылатых цитат; доказывается необходимость развития авторской эптографии для описания истинного вклада автора в развитие фразеологического корпуса национальных языков и для создания общеязыковых словарей эптонимов.
World Author’s Eptography: Prehistory, Contemporary State, Prospects.pdf В научной литературе прообразы писательских - и шире - авторских словарей (в том числе словарей одного произведения или цикла произведений) усматривают в древнейших аккадских глоссариях, содержащих отдельные шумерские слова, и в комментариях к сочинениям Гомера и других писателей, а затем, еще в античную эпоху, и к библейским текстам. В этих трудах, как и в старинных прикниж-ных глоссариях к средне- и ранненовоанглийским памятникам, открывающих историю европейской авторской лексикографии Нового времени, главной целью было разъяснение непонятных (заимствованных, устаревших, диалектных) слов (см. об этом на примере словарей Чосера: [1. С. 10, 15]). Данная метаязыковая цель - с помощью общелитературной лексики истолковать ограниченные в употреблении слова и выражения, встречающиеся у автора, - затеняется стилистическими задачами или вовсе уступает им место, когда формируется жанр писательского конкорданса. Именно с этого жанра зарождается большинство европейских национальных авторских лексикографий [2-4; 5. С. 8-9]. Л.П. Дядечко 6 В восточных национальных авторских лексикографиях, ведущих свой отсчет с 50-80-х гг. прошлого столетия или появляющихся в наши дни, учитывается опыт составителей словарей, выполненных на материале германских, романских, славянских языков, поэтому даже при создании первых конкордансов обычно выдвигается двуединая цель: например, словари о языке Мусы Джалиля ([6]1 и др.) характеризуются как «источники для изучения индивидуального стиля, языковых особенностей, а также литературного языка соответствующего периода» [7. С. 55] (ср. также справочные издания конкордансного и толкового типов, посвященные языку писателей иных восточных лингвокультур: абхазской [8], армянской [9], грузинской [10, 11], кабардинской [12] и др.). В целом очевидно, что национальные авторские лексикографии на начальном этапе, а имеющие более или менее долгую историю в их многообразном жанровом воплощении [5. С. 210-276; 13] - и в ходе дальнейшего развития, вплоть до нашего времени, ориентированы на описание того, как общеязыковые средства используются мастером слова, как соотносится традиционное и новаторское в его творчестве на уровне лексики и грамматики. В отличие от лексикографических трудов, где представление центральной для авторских словарей проблемы «общелитературный язык ^ язык писателя (автора)» смещалось в сторону частного, индивидуально-авторского, в теоретических историко-лингвистических и стилистических исследованиях широко освещалось и противоположное направление, раскрывающее влияние мастера слова на развитие литературного языка. Так, в русистике всесторонне показана посредническая роль писателей в продвижении народно-диалектных и инновационных лексико-семантических элементов в систему литературного языка и в закреплении в ней (см., напр.: [14]). М.А. Карпенко обращала внимание на то, что «активное использование семантикостилистических потенций языка, идейно-эстетическая трансформация слова (или фразы) при обобщенно-символическом употреблении создает новые качества оценочно-смысловой структуры и ведет к “отложению” (В.В. Виноградов) в литературном языке речевых единиц с высокой степенью “авторизации”» [15. С. 86]. 1 Здесь и далее информацию по публикациям на тюркских языках любезно предоставила И.Л. Покровская, на армянском - А.Г. Саркисян, на грузинском -З.К. Адамия; см. также далее на венгерском - О. Федосов. Мировая авторская эптография 7 В сознании среднего носителя языка наиболее реальной и ощутимой лептой писателя в развитие словарного состава предстают именно эти речевые единицы с высокой степенью «авторизации», которые в некоторых фразеологических школах принято называть крылатыми словами и / или выражениями и которые сосредоточиваются в произведениях отдельного лексикографического жанра, так и именуемых -словари крылатых слов (и выражений). В общих словарях этого жанра вклад каждого писателя в обогащение лексико-фразеологического фонда языка при многовекторности отбора реестровых единиц не столь очевиден: многие из имеющих рейтинг частотности, который не уступает включенным лексикографами, не попадают на страницы справочных изданий. Например, по данным самых крупных в русистике и украинистике собраний крылатых слов и выражений, в русском языке 86 гоголизмов [16. С. 704], в украинском - 17 [17. С. 696], тогда как, согласно авторскому словарю, описывающему крылатые единицы Н.В. Гоголя в русской и украинской речевой практике [18], их в разы больше: 250 и 105 соответственно. Уяснение качественно-количественного состава слов и выражений, вошедших в язык из текстов определенного автора, затрудняется не только отсутствием планомерной лексикографический работы в данном направлении. Далеко не во всех национальных лексикографиях созданы общие словари крылатых слов и выражений: такие труды есть лишь в германском и славянском ареалах, а также в некоторых бывших советских республиках - на грузинском [19], молдавском [20], азербайджанском [21] и других языках, и в республиках России - на татарском [22] и якутском [23] языках, куда калькированный термин «крылатые слова» проник из русского. Кроме того, в большинстве частных лингвистик вовсе нет данного термина, а его толкование там, где он имеется, весьма диффузно (яркое подтверждение тому - материалы алтайского [24] и отчасти шведского [25] словарей). Крылатыми словами называют как любые образные обороты - от эффектных индивидуально-авторских метафор до пословиц, поговорок, фразеологизмов, так и все многообразие инотекстовых вкраплений, начиная от прямых цитат и заканчивая едва уловимыми аллюзиями. В мировой литературе можно встретить и выходящее за рамки лингвистической терминологии употребление гомеровского образа: турецкий перевод сборника афоризмов «циньянь» китайского писателя и философа Хун Цзычена так и называется «Крылатые слова муд- Л.П. Дядечко 8 реца» [26]. В этом случае, если прибегнуть к русскому эквиваленту, точнее было бы название «крылатые мысли» (ср. также обозначения «крылатые аргументы» [27], «крылатые строки» [28]). Речь идет, по сути, о литературном жанре, который воплощен в афористических и подобных сборниках, сохраняющих мудрые, поучительные, оригинальные, парадоксальные и прочие мысли знаменитостей о разных сторонах бытия и предназначенных прежде всего для ознакомления, а также для отыскания подходящих к случаю кратких, но емких высказываний с целью цитирования. Во многих лингвокультурах имеются собрания таких изречений, которые принадлежат одному автору, начиная с газетно-журнальных подборок, приуроченных к юбилею писателя, как публикация «Заветы, советы и крылатые слова» в армянской литературной газете, посвященная 150-летию со дня рождения Ованеса Туманяна [29], и заканчивая отдельными книгами (см. сборник мыслей турецкого поэта и прозаика Ахмеда Хамди Танпинара [30]) и книжными сериями (например, венгерским издательством TINTA подготовлены выпуски с высказываниями Иштвана Сечени [31], Йожефа Этвеша [32] и др.). Обычно составляются, причем нередко многократно, сборники мыслей тех, кто воплощает дух нации: в английской лингвокультуре это Шекспир [33, 34], белорусской - Якуб Колас [35], русской - Пушкин [36, 37] и др. Содержание книг такого типа по принципам отбора и подачи материала весьма сходно с содержанием словарей цитат - известного в авторской лексикографии жанра, отличающегося в целом обязательностью указателей и / или индексов, более точной паспортизацией источника и детализированным отражением внеязыковой действительности в структуре: единицы описания в сборниках афоризмов и сходных речеобразований обычно группируются так, как это принято в паремиологических изданиях, т.е. в соответствии с ключевыми лингвокультурными концептами, а в словарях цитат - в соответствии с ключевым словом одного или нескольких высказываний. Кстати сказать, грань между справочниками обоих типов очень зыбкая. Так, перечисленные шекспировские сборники, которые не содержат в своих названиях слова словарь, были в данном случае привлечены с тем, чтобы продемонстрировать типичные заглавия английских и американских собраний мудрых мыслей, однако по своим сущностным свойствам все эти три издания являются именно словарями цитат. Мировая авторская эптография 9 Например, книга The Mind of Shakespeare, as Exhibited in His Works структурирована так же дробно, как и словарь The Arden Dictionary of Shakespeare Quotations, при этом вокабулы нередко совпадают; ср. следующие друг за другом статьи в обеих книгах: ARTISTS, ASPIRATION, AUTHORITY, AUTUMN [33. С. 12-13] и ART, AUTHORITY, AUTUMN [38. С. 15-16]. Безусловно, издания различаются между собой: в первом из них цитата сопровождается отсылкой только к соответствующей части произведения, а во втором - указанием страниц и даже строк цитируемого источника. Интересно, что как раз в сборнике, не заявленном как словарь, шекспировским текстам предшествует уточнение смысла вокабулы. Например, если взять одни и те же слова короля Лира из одноименной трагедии (акт 4, сц. 6), включенные в оба справочника в статье AUTHORITY: Thou hast seen a farmer’s dog bark at a beggar, and the creature run from the cur? There thou mightst behold the great image of authority: a dog’s obeyed in office, - то в первом случае поясняется концепт-вокабула: its power of commanding obedience, - а во втором конкретизируется ситуация речи: Lear to Gloucester. Жанр авторских словарей цитат давно получил распространение в мировой лексикографии (см., например, итальянский словарь, описывающий цитаты из «Божественной комедии» Данте [39], немецкий и немецко-русский - из Гете [40, 41], турецкий - из выступлений первого турецкого президента Ататюрка [42]), особенно в последнее время в ее электронном формате (см. венгерский словарь цитат из «Трагедии человека» Имре Мадача [43] и многочисленные, прежде всего любительские, обычно небольшие по объему интернетиздания). Однако наиболее развит этот жанр в англо-американской лексикографической практике, о чем неоднократно писали и о чем можно судить по количеству словарей цитат в списке [44. С. 212229], ориентированном на авторские справочники с высказываниями политиков и философов. Объектом описания в словарях цитат выступает широчайший диапазон нередко лингвистически четко не определяемых единиц, как в гетевском словаре Р. Добеля. Составитель очерчивает этот диапазон образно - от так называемых крылатых слов до таинственных, интригующих описаний, уточняя форму и тематику цитат из стихов Гете, его писем и пр.: «...от зарифмованных поговорок до разнообразных высказываний поэта о явлениях природы, искусства, общества и ду- Л.П. Дядечко 10 ховной жизни, о современниках и фигурах прошлого, а также о самом себе» [40. S. VI]. Тоже широко, но в ином ключе, толкуется термин «крылатые слова / выражения» в другом лексикографическом направлении (см.: [45; 46]), где он приравнивается понятию «интертекстема». Это направление открывается книгой К. П. Сидоренко, в которой описаны цитаты из «Евгения Онегина» и которую сам составитель назвал словарем интертекстем, подразумевая под введенным им термином не только соединение слов, заключающее в себе некоторый смысл, как в словарях цитат, но и любой вовлеченный в межтекстовые связи сегмент авторского текста, т. е., кроме лексического, также и грамматический, и ритмико-интонационный, и композиционный [47. С. 6]. Наряду с оборотами, вошедшими во фразеологический фонд русского языка, прямыми цитатами, а также разного рода аллюзиями, основную часть словаря составили скрытые цитаты, выявленные, как правило, в каком-либо одном контексте. Например, словосочетание дерзостные своды иллюстрируется только одноименным названием книги Б. Евгеньева о метро; фраза Каждый взял свой пистолет - отрывком из «Вишневых вод» И. Тургенева; строка как Байрон, гордости поэт «как шутливое цитирование слов Пушкина» - фрагментом из «Портретов» Н. Некрасова: ...Почуяв лавры над главою, Тотчас он тиснул свой портрет, С улыбкой гордою и злою, «Как Байрон, гордости поэт». Но байроническою миной Он никого не удивил... Он поросенка в коже львиной Напомнил всем - и насмешил! [47. С. 65, 96-97]1. В перечисленных изданиях в соответствии с разработанной лексикографической концепцией дается сколь можно полное описание писательского слова как «чужого» в его живом, динамичном употреблении: приводится максимальное количество примеров, каждый из которых сопровождается семантизацией и / или функциональностилистическими комментариями. В этом состоит принципиальное отличие словарей интертекстем от словарей цитат, которые обычно составляются людьми без специальной лингвистической подготовки и не содержат ни примеров использования, ни толкований. Среднее положение между двумя направлениями занимают представленные в восточнославянской лексикографии издания, где, в отли- 1 Ср.: в последней из данной серии книге [48] толкование термина «крылатые выражения», поставленного в ее названии в один ряд с цитатами, литературными образами, конкретизируется, сужается. Мировая авторская эптография 11 чие от словарей интертекстем, фиксируются цитаты в их обычном понимании (как некие последовательности слов, извлеченные из текста), а в отличие от словарей цитат - только те из них, которые, характеризуясь относительно компактной структурой, реально востребованы, что эксплицируется обязательной иллюстративной зоной с одним-двумя и более примерами прямого или скрытого цитирования авторской фразы (см. напр.: [49; 50]). Такое лексикографическое направление, следовательно, описывает единицы, которые можно обозначить как крылатые цитаты. Сами составители указанных справочников, впрочем, своим объектом называют крылатые выражения. Так, в предисловии к словарю, посвященному оборотам из творчества А.В. Кольцова, отмечается, что к крылатым выражениям составители относят «слова или сверхсловные единицы, принадлежащие воронежскому поэту и получившие распространение за рамками кольцовского текста» [50. С. 4]. Фактически имеем более четкое определение термина, толкуемого все же широко: материалы книги показывают, что к крылатым отнесены, помимо единиц, по своим функциональным свойствам похожих на пословицы и поговорки, и отрывки из стихотворений, которые всегда сопровождаются указанием автора (особенно много примеров прямого цитирования, когда кольцовские строки используются в роли эпиграфа). Только первая разновидность является достоянием лексико-фразеологического корпуса. Чтобы привлечь внимание научного сообщества к ней, в лингвистический обиход было введено уже освоенное языковедами десятка стран обозначение «эптоним», возвращающее к истокам лексикографического жанра - к книге Geflugelte Worte немецкого ученого Г. Бюхмана, вынесшего в 1864 г. кальку с гомеровского epea pteroenta в название своего справочника. Под эптонимами понимаются крылатые слова и выражения в строго лингвистическом смысле, выведенном в период прочного закрепления фразеологии как отдельной научной дисциплины: к ним относятся только те речеобразования, которые, во-первых, восходят к конкретному, задокументированному тексту, высказыванию, сохраняя в сознании всех современных носителей языка или их значительной части связь с первоисточником; во-вторых, обладают собственной структурой и семантикой, нередко весьма далекими от первоначальных; в-третьих, не цитируются, а воспроизводятся, подобно другим языковым единицам (отдельным словам, фразеологизмам, пословицам), выполняя номинативную функцию [51. С. 40-89]. Л.П. Дядечко 12 На узком толковании понятия крылатых слов и выражений, т.е. эптонимов, в лексикографии настаивает С.Г. Шулежкова, которая предупреждает: «Отказ составителя придерживаться строгих критериев отбора единиц может превратить его труд в нечто аморфное...» [52. С. 25]. Первые попытки создания авторских словарей эптонимов относятся к 1990-м гг. (этот термин еще не использовался, в название эпто-графических изданий выносился традиционный - «крылатые выражения»). Сначала появились журнальные публикации - дополнения к общим словарям крылатых слов и выражений русского языка, компенсирующие лексикографические лакуны в фиксировании вошедших в массовый обиход оборотов определенного писателя. В 1998 г. В.Г. Костомаров и Н.Д. Бурвикова издали учебное пособие, первая глава которого построена как словарь крылатых слов и выражений из «Горя от ума», а по сути - эптонимов. Ученые поставили задачу научить старшеклассников «использовать слова автора гениальной комедии в речи» [53. С. 75], отобрав наиболее яркие, выразительные, потенциально востребованные учащимися выражения и «говорящие» имена и объяснив ситуации применения описываемых единиц. Эптографическим по своему словнику, включающему в абсолютном большинстве единицы с фиксированной структурой и закрепленным в узусе значением, является и опубликованный в 2005 г. В.В. Прозоровым справочник крылатых слов и выражений из гоголевских сочинений, в котором охарактеризованы ситуации функционирования гоголизмов в речи и таким образом продемонстрированы принципиальные отличия включенных единиц от их прототипов. Тем не менее 15 фраз при тщательной проверке не оправдали статуса эптонимов, среди них такие, как: Бурая свинья унесла...; Да разве найдутся на свете такие огни и муки и сила такая, которая бы пересилила русскую силу!; И хорошее слово, да позабыл; Приятный разговор лучше всякого блюда; Прекрасный человек Иван Иванович! Он очень любит дыни [54. С. 29, 31, 36, 94]. Ни одну из них не удалось обнаружить в свободном (не собственно цитатном) употреблении в интернеттекстах. Ради справедливости скажем, что сам составитель предупреждал читателей: «В нашем кратком лексиконе собраны и те летучие фразы из Гоголя, что издавна употребляются довольно широко, и те, что обрели хождение среди узкого круга отменных знатоков русской Мировая авторская эптография 13 словесности. Здесь зафиксированы и собственно крылатые обороты, и имеющие явную готовность ими стать» [54. С. 8-9]. Первым переводным эптографическим изданием, охватывающим все творчество писателя, если не считать немецко-русский словарь крылатых выражений из Г ете, где доказательства крылатости русских эквивалентов не предполагалось [41], стал уже упоминавшийся русскоукраинский и украинско-русский гоголевский словарь. В нем как сам словник, так и толкование и вариантность реестровых единиц определялись по имеющимся общим словарям крылатых слов и выражений русского и украинского языков и уточнялись обращением к слово- и фразоупотреблениям из картотеки, составленной за два десятилетия, и из текстовых корпусов. Масштабное исследование речевой практики, когда критерием отбора слов, сочетаний слов, фраз была их фиксация не менее чем в 7-10 контекстах без ссылок на цитирование, позволило, как представляется, привести неоспоримые аргументы эптонимичности каждого восходящего к сочинениям Н.В. Гоголя речеобразования, кристаллизации его структуры и развития собственного значения (или значений), что является показателем формирования самостоятельной языковой единицы. Обязательными компонентами статьи был не только фрагмент, к которому восходит эптоним, из гоголевского оригинального и переводного текстов с паспортизацией, но и структурно-грамматические варианты описываемого феномена, его толкование, примеры слово- и фразоупотреблений. Так, после цитаты из поэмы «Мертвые души» в статье ВОЗВЕСТИ В ПЕРЛ СОЗДАНИЯ даны: - грамматические варианты: возвести /возводить в перл создания; - толкование со стилистической квалификацией: «наделить необыкновенно высокими свойствами, качествами кого-, что-л.; сделать предметом настоящего искусства (перен.; высок. или ирон.; книжн.)»; - примеры канонического употребления: ...художник, по новейшим эстетикам, пользуется завидным правом воплощать в себе всякие мерзости, возводя их в перл создания... (И. Тургенев. Накануне); Чтобы понять эти идеалы и возвести их в перл создания, необходима известная высота культурного уровня... (Ф. Достоевский. Дневник писателя); ...животные сходятся только тогда, когда могут производить потомство, а поганый царь природы - всегда, только бы приятно. И мало того, возводит это обезьянье занятие в перл создания, в любовь. (Л. Толстой. Крейцерова соната); Л.П. Дядечко 14 Клеопатра - демонический образ чувственной страсти, возведенной в перл создания. (Б. Никольский. Суд над Пушкиным); - примеры окказионального употребления: Ленин возглавляет ныне другую линию большевистской мысли, линию «умеренную» и «компромиссную». Прообразом этой тактики был Брест-Литовск. Через три года она вновь выдвигается в перл создания. (Н. Устрялов. Под знаком революции) [18. С. 94-96]. Этот же принцип отбора и тщательная проработка легли в основу концепции словарей, отражающих эптонимы Т.Г. Шевченко в украинском [55], русском [56] и белорусском [57] языках. В названиях этох словарей, рассчитанных на широкого читателя, по-прежнему используется традиционное наименование описываемого объекта -«крылатые выражения», но в предисловиях оговаривается, что оно используется в узком смысле, как синоним к термину «эптоним» [18. С. 9-10; 55. С. 3]. Таким образом, восточнославянская авторская эптография уже начинает приобретать жанровые очертания. Выделение эптографического направления как самостоятельного ни в коей мере не уменьшает значимости других жанров: словарей цитат, словарей интертекстем и словарей крылатых цитат. Неоценимый вклад в осмысление того или иного национального менталитета вносят авторские словари цитат, сосредоточивающие в одном месте мнение по многочисленным и разнообразным вопросам бытия знаменитого человека, который является не только ярким представителем лингвокультуры, но обычно и ее творцом. Словари интертекстем и крылатых цитат показывают, насколько созвучны времени мировоззренческие установки авторитетной личности, как советы, оценки, воззвания и т.п., высказанные знаменитостями, отзываются в делах и речах их современников и потомков. Главная цель словарей эптонимов кардинально отличается от задач цитатографических изданий, где цитата самодостаточна и самоценна: эптографы должны показать, как цитата преобразовалась, став общенародным достоянием, какими признаками характеризуется вновь возникшая единица. То, что в целом эптоним - качественно иное явление, нежели цитата, можно наглядно продемонстрировать, используя чисто формальный признак - степень развернутости единицы. Очевидно, что, чтобы сверхсловное образование могло использоваться в живой речи Мировая авторская эптография 15 всеми (многими) носителями лингвокультуры, количество лексем в нем должно соответствовать пропускной способности человеческой памяти, подчиняясь известной формуле Миллера 7 ± 2. И действительно, в уже упоминавшемся словаре «“Словечки в простоте” (крылатые слова из “Горя от ума”)» в книге [53. С. 11-27], где терминосочетание используется в строго лингвистическом - эптонимическом -смысле, ни у одного из 49 зарегистрированных оборотов максимальное число компонентов не превышает 9 (служебные слова здесь и далее не учитывались), т.е. все они подчиняются миллеровскому закону. Совсем иную картину наблюдаем при фиксации цитат, когда выход за верхнюю границу определенного американским психологом интервала типичен. Так, в шекспировском словаре на произвольно выбранных четырех страницах [38. С. 223-227] представлено 47 цитат, 19 из которых, или 40,4%, состоит из 10 и более слов (самая длинная - из 52 слов). В гетевском словаре этот процент еще выше: в соотносительном фрагменте зафиксировано 57 цитат [40. Стлб. 223-226], из них 40 протяженностью от 10 до 50 слов, или, иными словами, 70% сверхмногокомпонентны. При сравнении конкретной цитаты и порожденного ею эптонима становится очевидным, что расхождения в их свойствах носят принципиальный характер. Как показано в исследовании [51. С. 176-246], преобразование цитаты в эптоним сопровождается стабилизацией структурно-семантических параметров, задающей границы его вариантности. Если вернуться к статье из переводного гоголевского словаря, то обращает внимание, что оборот возвести / возводить в перл создания не только развивает грамматическую вариантность, но и закрепляет единственно возможный фонетический вариант последнего слова (у Гоголя оно выступает в виде созданья). Меняется также семантика словосочетания в сторону абстрагирования, причем если в поэме «Мертвые души» речь идет лишь о преобразовании некоторого кванта действительности в предмет истинного искусства, то в эпто-ниме на первый план выдвигается наделение кого- или чего-либо необыкновенно высокими качествами, кроме того, нередко оборот функционирует в речи с иронической и даже саркастической коннотацией, как в лев-толстовской повести, а в гоголевском лирическом отступлении он погружен в контекст с трагическими нотками. Проведенные на материале русского и украинского языков эксперименты подтверждают частотность случаев, когда закрепившийся Л.П. Дядечко 16 в языке структурный вариант эптонима, отличный от исходного, является единственным или более предпочтительным. В этом отношении особенно показательны результаты блиц-опросов, касающихся стихотворных строк, которые, казалось бы, не предполагают вариативности. Опросы по отрывку из «Евгения Онегина» проводились регулярно раз в три-четыре года с 2008 по 2019 г. в аудитории из 1520 человек: участников научных конференций, студентов, учеников старших классов. На просьбу продолжить пушкинскую фразу Но я другому отдана... в абсолютном большинстве случаев испытуемые отвечали: ... и буду век ему верна, - т.е. избирали форму, в которой она и используется в качестве эптонима (ср.: в Национальном корпусе русского языка из 18 вхождений половина выступает именно в этом варианте, а вторая половина носит характер прямой цитации в литературоведческих трудах, причем лишь в четырех случаях ученые точно копируют текст романа [58]). Только двое-трое из интервьюируемых вспоминали оригинал: ...я буду век ему верна. Еще более впечатляющими были результаты, полученные в задании по восстановлению шевченковской фразы .../' буде мати, і будутъ люди на землі, которое выполняли только студенты-филологи в тот же период и в том же количестве. С этим заданием, однако, справлялись не все, по-видимому, потому что стихотворение не заучивалось наизусть в средней школе (в группе было от одного до пяти отказов). Те же, кто выполнил задание, практически все записали начало в виде І буде син (ср. в стихотворении «І Архімед, і Галілей...»: «І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люде на землі»). Попутно можно заметить, что во всех примерах употребления шевченковского выражения, зафиксированных в словаре [55. С. 131-132], архаичная форма множественного числа люде заменена на современную люди и что обновление компонентного состава весьма часто сопутствует превращению цитаты в эптоним. Эти и проведенные другими учеными эксперименты по выявлению знаний носителями языка семантических свойств новой единицы дают в целом положительный результат, который, безусловно, зависит от нескольких факторов: например, изучалось ли в школе литературное произведение, породившее эптоним [59. С. 153]. Наглядно видно освоение лингвокультурой эптонима в единстве его формы и содержания, когда его значение не выводится непосредственно из значений компонентов. Так, если бы стереотипные представления Мировая авторская эптография 17 о ситуации, в которой может быть употреблен оборот Молилась ли ты на ночь, Дездемона?, не хранились в массовом сознании, вряд ли было бы возможным его функционирование в русскоязычной среде в качестве шутливой угрозы. «Почему надо было молиться и при чем здесь Дездемона?» - вот закономерные вопросы непосвященного человека, не соблюдающего церковные обряды и не понимающего странного обращения к нему. Добавим, что сейчас вообще мало кто знаком с текстом шекспировской трагедии «Отелло» в переводе П. Вейнберга (более популярен перевод Б. Пастернака, где соответствующий эпизод представлен иначе), поэтому самостоятельно установить смысл фразы проблематично. Возможно, еще более веским аргументом необходимости создания словарей эптонимов являются нередкие в нашей жизни коммуникативные провалы, обусловленные нераспознаванием речевых структур как готовых средств номинации участниками общения, говорящими на родном и тем более на иностранном языке. Приведем один, но симптоматичный пример: слушатель, приехавший в 2019 г. в Киев на летние языковые курсы из Турции, обратился к преподавателю за разъяснениями, трижды (!) за две недели услышав в городском транспорте выражение комсомолка, спортсменка, просто красавица. Можно, следовательно, с уверенностью утверждать, что усилия лексикографов по выявлению и полному, раскрывающему дифференциальные признаки описанию эптонимов (фиксация их в свободном, без ссылок на автора, употреблении в достаточном количестве контекстов, установление структурно-семантических вариантов, определение их функционально-стилистических особенностей) не пропадут даром. Начинать следует с наблюдений над речевой практикой и анализа национальных лексикографиях изданий (если они имеются), в которых фиксируются существующие в языке устойчивые обороты в творчестве писателя или в речах политика, как, например, в испанском словаре, где собраны пословицы, афоризмы, клишированные фразы, идиомы и тому подобное в сочинениях Сервантеса [60], или в американском - с пословицами в выступлениях Г. Трумэна [61], служащими основанием для отделения общеязыковых устойчивых оборотов от собственно сервантесовских или трумэновских. Такое разделение уже осуществлено в белорусском словаре, где разные типы афоризмов: общенародные, преобразованные и созданные Якубом Коласом -имеют специальные пометы [62]. Л.П. Дядечко 18 Надежным подспорьем в разработке этого направления авторской лексикографии станут популярные в разных лингвокультурах словари цитат, уменьшающие объем поиска эптонимов и сберегающие информацию о их происхождении. Словари интертекстем и крылатых цитат, кроме того, ценны тем, что содержат доказательства частотности авторских оборотов в речи. В этом плане становление и развитие перечисленных словарных жанров выступают предысторией авторской эптографии, делающей первые шаги лишь в восточнославянской лексикографии. В целом понятно, что развитие авторской эптографии, которая прежде всего должна охватить фразеотворчество крупнейших писателей и выдающихся исторических личностей, с тем чтобы раскрыть их реальный вклад в пополнение номинативного фонда национальных языков устойчивыми оборотами, станет важным стимулом для становления общих словарей эптонимов этих языков, а там, где такие словари уже созданы, будет способствовать уточнению и дополнению их словников.
Ключевые слова
авторская лексикография,
фразеология,
цитата,
крылатые слова,
интертекстема,
эптоним,
эптографияАвторы
| Дядечко Людмила Петровна | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко | д-р филол. наук, профессор кафедры русской филологии | eptonim@ukr.net |
Всего: 1
Ссылки
Мелентьева О.А. Словари языка Чосера в парадигме английской писательской лексикографии : автореф. дис.. канд. филол. наук. Иваново, 2014. 24 с.
Гельгардт Р.Р. Словарь языка писателя: к истории становления жанра // Лексические единицы и организация структуры литературного текста. Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1983. С. 18-35.
Фонякова О. И. Очерк развития писательской лексикографии в отечественном языкознании (1883-1990) // Из истории науки о языке : (памяти проф. Ю.С. Маслова). СПб. : Изд-во СПбГУ, 1993. C. 113-134.
Karpova O.M. English Author Dictionaries (the XVIth - the XXIst cc.). Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011.281 p.
Шестакова Л.Л. Русская авторская лексикография: теория, история, современность. М. : Языки славянских культур, 2011. 464 с.
Галиуллин К.Р., Кәримуллина Р.Н., Минһаҗева Л.С. Муса Җәлил. «Моабит дәфтәрләре» теле : Сүзлек. Казан : Мәгариф, 2006. 255 с.
Галиуллин К.Р., Каримуллина Р.Н. О словарном описании языка произведений Мусы Джалиля: «Моабитские тетради» // Ученые записки Казанского государственного университета. Т. 148. Сер. Гуманитарные науки. Кн. 3. Казань, 2006. С. 55-64.
Словарь языка Дмитрия Гулиа / сост. Н.В. Аршба, С.М. Начкебия. Сухуми : Алашара, 1986. 290 с.
Պապոյան Ա. Պարույր Սևակի աշխատությունների և թարգմանությունների բառարան. Երևան : ԵՊՀ հրատ., 1986. 563 էջ.
Симфония к поэме Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» / сост. под рук. А.Г. Шанидзе. Тбилиси : Тбилис. гос. ун-т, 1956. 431 с. [На груз. яз.]
Саникидзе Т.В. Словарь поэзии Акакия Церетели / под ред. Ш. Дзидзигури. Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1982. Кн. 1: А-М. 551 с.; 1983. Кн. 2: Н-Х. 430 с.
Словарь языка Алима Кешокова [КIыщокъуэ Алим и бзэм и псалъалъэ] / под науч. ред. Б.Ч. Бижоева. Нальчик : Изд. отдел КБИГИ, 2016. 1148 с. URL: http://www.kbigi.ru/fmedia/izdat/ebibl/slovar.pdf
Карпова О.М., Уткина Н.С. Английская авторская лексикография: от Шекспира к Гарри Поттеру. Иваново : Иванов. гос. ун-т, 2013. 105 с.
Сорокин Ю.С. Развитие словарного состава русского литературного языка в 30-90-е гг. XIX века. М. ; Л. : Наука, 1965. 565 с.
Карпенко М.А. Обобщенно-символические слова и фразоупотребление в горьковской речи и его резонанс в русском литературном языке // Slavica XIV. Debrecen, 1976. С. 75-86.
Берков В.П., Мокиенко В.М., Шулежкова С.Г. Большой словарь крылатых слов и выражений русского языка. Магнитогорск : МаГУ ; Greifswald : Ernst-Moritz-Arndt-Umversitat, 2009. Т. 2. 737 с.
Коваль А., Коптілов В. Крилаті вислови в украінській літературній мові. 3-те вид. Киів : Ярославів Вал, 2011. 701 с.
Дядечко Л.П., Петренко О.В., Прадид Ю.Ф. 250 крылатых слов и выражений Н.В. Гоголя: русско-украинский толковый словарь / 250 крилатих слів і зворотів М.В. Гоголя: украінсько-російський тлумачний словник. Симферополь : Лемешко К.А., 2012. 584, 236 с.
ქართული ხატოვანი სიტყვა-თქმანი / თედო სახოკია ; რედაქტორები: შოთა ძიძიგური, გიორგი ჩიტაია ; ბოლოსიტყვაობის ავტორი: გიორგი ჩიტაია. 3 ტომი. თბილისი : სახელგამი, 1950-1955.
Popescu I. Cuvinte înaripate: originea şi semnificaţia celor mai frecvente cuvinte şi expresii înaripate. Chișinău : Cartea Moldovenească, 1991. 160 р.
Qanadlı sözlәr : Kolleksiyaçı vә tәrtib / Əbülkasim Hüseynzadә; [trans. G. Hüseynzadә]. Bakı : Yazıcı, 1984. 207 s.
Гыйззәтуллин И. Канатлы сʏзләр. Казан : Заман, 2020. 383 с.
Бэргэн этиилэр / [хомуйан оҥордо К.Б. Ксенофонтова]. Дьокуускай : Бичик, 2015. 62 с.
Алтай чӱмдӱ сӧс = Крылатые слова : алтайские пословицы и поговорки : сб. / [тургузаачызы Кӧмӱрчи Петешева]. Горно-Алтайск : Ак Чечек, 2007. 151, 157 с. [Текст алт., рус.].
Holm P. Bevingade ord och andra: Staende uttryck och benamningar. Stockholm : Alb. Bonniers boktryckeri, 1955. 372 s.
Huanchu Daoren. Bilgenin Kanatlı Sözleri. İstanbul : Anahtar Kitaplar. 132 s.
Кондаков Н.И., Кленовская Л.А. Крылатые аргументы (афоризмы и крылатые выражения в трудах и выступлениях К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина). М. : Знание, 1989. 208 с.
Владимир Высоцкий: «Золотые мои россыпи...»: строки, ставшие крылатыми / сост. и авт. предисл.: С. Зайцев, Т. Зайцева. М. : Вагант-Москва, 2000. 299 с.
Թումանյանի ասույթները. Պատգամներ, խորհուրդներ և թևավոր խոսքեր // Գրական Թերթ. 15.02.2019. URL: http://www.grakantert.am/archives/12211
Şerif Ö. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Görüşler, Düşünceler, Özdeyişler. Istanbul : Yörük Matbaası, 1977. 144 s.
Széchenyi István: Széchenyi igéi / Szekfű Gyula előszavával. Budapest : TINTA, 2014. 122 oldal.
Báró Eötvös József igéi / Tringl László (szerkesztő). Budapest : TINTA, 2017. 124 oldal.
Morgan A.A. The Mind of Shakespeare, as Exhibited in His Works. London : G. Routledge and Sons, 1876. 360 p.
Lofft C. Aphorisms From Shakespeare: Arranged According to the Plays, & C., With a Preface and Notes; Numerical References to Each Subject, and a Copious Index. London : Forgotten Books, 2018. 554 p.
Міхневіч А.Я. Якуб Колас разважае, радзіць, смяецца… : выбраныя выслоўі народнага песняра. Мінск : Беларускі дзярж. ін-т праблем культуры, 2002. 107 с.
Крылатые слова и афоризмы А.С. Пушкина / сост. И. Шкляревский. М. : Газ.-журн. обозрение «Воскресенье», 1999. 159 с.
Афоризмы и размышления А.С. Пушкина / ред. Л. Ф. Богданова. Тюмень : ТюмГНГУ, 2002. 52 с.
Armstrong J. The Arden Dictionary of Shakespeare Quotations. London : Methuen Drama, 2010. 396 p.
Morpurgo A. Dizionario di citazioni dantesche, tratte dalla Divina commedia. Annotate ed illustrate secondo i miglior commenti di Anselmo Morpurgo, con prefazione di GL Passerini. Città di Castello : Сasa editrice S. Lapi, 1910. 371 р.
Dobel R. Lexikon der Goethe-Zitate. München : Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 1999. 1308, VIII S.
Александрова Т.С. Из Гете. Крылатые слова. Цитаты. М. : Аграф, 2000. 241 с.
Köklügiller A. Atatürk’ten Düşünceler ve Özdeyişler. İstanbul : Bahçeşehir Yayınları, 2007. 224 s.
Madách Imre: Az ember tragédiája (44 idézet). Budapest : Európa Könyvkiadó. URL: https://www.citatum.hu/konyv/Az_ember_tragediaja
Перцева В.Г. Англоязычные словари языка политиков и философов (на материале словарей цитат и пословиц) : дис. … канд. филол. наук. Иваново, 2017. 229 с.
Мокиенко В.М., Сидоренко К.П. Словарь крылатых выражений Пушкина. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та : Фолио-пресс, 1999. 748 с.
Мокиенко В.М., Семенец О.П., Сидоренко К.П. Большой словарь крылатых выражений Александра Грибоедова («Горе от ума»). М. : ОЛМА Медиа Групп, 2009. 800 с.
Сидоренко К.П. Цитаты из «Евгения Онегина» А.С. Пушкина в текстах разного жанра. СПб. : Образование, 1998. 318 с.
Мокиенко В.М., Сидоренко К.П. Басни Ивана Андреевича Крылова: Цитаты, литературные образы, крылатые выражения : словарь-справочник. СПб. : Свое издательство, 2013. 681 с.
Щербина В. Євангеліє українців, або Крилаті вислови «Кобзаря». Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2001. 496 с.
Кольцова Л.М., Чуриков С.А. Крылатое слово А.В. Кольцова. Опыт словаря. 2-е изд., перераб. и доп. Воронеж : ИПЦ Воронеж. гос. ун-та, 2012. 183 с.
Дядечко Л.П. «Крылатый слова звук», или Русская эптология : учеб. пособие. 2-е изд. Киев : Аванпост-Прим, 2007. 336 с.
Шулежкова С.Г. Имеют ли право крылатологи называть свои справочники словарями? (Размышления по поводу языкового статуса крылатых единиц и принципов их лингвистического описания) // Мир русского слова. 2010. № 4. С. 23-28.
Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Читая и почитая Грибоедова. Крылатые слова и выражения. М. : Рус. яз., 1998. 80 с.
Прозоров В.В. Крылатые слова и выражения из сочинений Н.В. Гоголя : словарь-справочник любителям русского слова. Саратов : Саратовтелефильм - Добродея, 2005. 128 с.
Гнатюк Л.П., Дядечко Л.П. Тлумачний словник крилатих висловів Шевченка в українській мові // Шевченкове слово в мовах світу. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2020. С. 3-7, 19-431.
Дядечко Л.П. Толковый словарь крылатых выражений Шевченко в русском языке // Шевченкове слово в мовах світу. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2020. С. 433-478.
Дзядзечка Л.П., Іваноў Я.Я. Тлумачальны слоўнiк крылатых выразаў Шаўчэнкі ў беларускай мове // Шевченкове слово в мовах світу. Київ : ВПЦ «Ки-ївський університет», 2020. С. 479-482.
Национальный корпус русского языка. URL: https://ruscorpora.ru/ (дата обращения: 08.07.2020).
Мокиенко В.М., Зыкова Е.И. «Школьный словарь крылатых слов русского языка» как объект лексикографического описания // Вопросы лексикографии. 2019. № 16. С. 153-163.
Fraseología de Cervantes: colección de frases, refranes, proverbios, aforismos, adagios, expresiones y modos adverbiales que se leen en las obras cervantinas. Madrid : Lux, 1929. 319 p.
Mieder W., Bryan G. The Proverbial Harry S. Truman: an Index to Proverbs in the Works of Harry S. Truman. New York : Peter Lang Publishing Inc., 1997. 247 p.
Іваноў Я.Я. Афарыстыка мовы мастацкага твора (паэма Якуба Коласа «Новая зямля») : лексікаграфічны аспект. Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2004. 84 с.
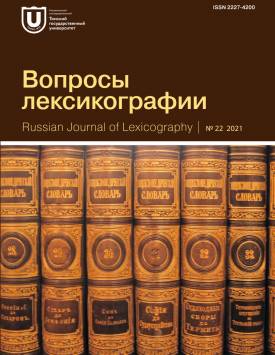

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью