Рассматриваются реализации метафорических моделей с объектной областью «драгоценные камни», характеризующих внутренний мир человека, в словарях образов. Выявляются типичные для русской метафорической системы субъекты, объекты и признаки сопоставления, анализируется объем понятия «драгоценные камни», устанавливается их состав в качестве соответствий реалиям внутреннего мира. Определяются наиболее значимые метафорические модели, отмечается ведущая роль образов алмаза, жемчуга и хрусталя среди элементов объектной области. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The inner world of a person in metaphorical models with the object domain “precious stones” (based on dictionaries of po.pdf Введение Внутренний мир человека представляет собой особый объект научного изучения, что определяется прежде всего невозможностью непосредственного наблюдения за реалиями нематериального мира. В многочисленных исследованиях, посвященных внутреннему человеку как неотъемлемой и важнейшей части человека в целом (работы Ю.Д. Апресяна, Н.Д. Арутюновой, Л.Г. Бабенко, Е.С. Никитиной, Л.Б. Никитиной, М.В. Пименовой, В.Н. Телия, В.Н. Убийко, Е.В. Урысон, А.Д. Шмелева и многих других), указывается на моделирование внутреннего мира по образу мира внешнего. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, человек «запечатлел в языке» всего себя - и внешний облик, и мир эмоций и интеллекта, и отношение к окружающей действительности [1. С. 3]. Проявления внутреннего человека (чувства, эмоции, душевные состояния, мысли и т.д.), их признаки и свойства отражены в многочисленных и многоплановых образных сопоставлениях, несущих когнитивную информацию об их значимости для той или иной культуры (Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Ю.Н. Караулов, Ю.С. Степанов, З.И. Резанова и др.). Процесс мета-форизации осуществляется по определенным схемам, отраженным в понятиях парадигмы образов (Н. В. Павлович), семантической модели, модели регулярной многозначности (Ю.Д. Апресян, А.Д. Шмелев) и др. Авторы классического труда по когнитивной лингвистике «Метафоры, которыми мы живем» Дж. Лакофф и М. Джонсон используют понятия когнитивной модели и концептуальной метафоры, которая осмысляется как «понимание и переживание сущности одного вида в терминах сущности другого вида» [2. С. 29]. 32 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях Метафорические модели (ММ), характеризующие человека, отличаются многообразием по их источнику (объектной области, сфере источника, донорской сфере). Широкораспространенными являются антропоморфные, зооморфные, растительные и иные метафоры, используемые для характеристики объектов как окружающей действительности, так и внутреннего мира человека. Явления мира невещественного в ММ представлены как нечто материальное, обладающее соответствующими признаками и свойствами. Одним из важных источников метафорических проекций на объекты внутреннего мира человека является камень, признаки которого (твердость, прочность, тяжесть) лежат в основе образных выражений разного рода: «каменное сердце», «сердце не камень», «как за каменной стеной» и т.п. [3. С. 57-59]. Особой разновидностью камней как минералов, горных пород природного происхождения являются драгоценные камни, играющие важную роль в материальной и духовной культуре человека. Обращение к соответствующим разделам словарей поэтических образов дает исследователю возможность получить информацию о видах, качествах, свойствах драгоценных камней, сквозь призму которых метафорически отражается человек нематериальный. Для достижения цели работы - охарактеризовать представленные в словарях образов ММ внутреннего мира человека с объектной областью «драгоценные камни» - мы ставим следующие задачи: 1. Установить состав ММ внутреннего человека с объектной областью «драгоценные камни». 2. Выявить реалии внутреннего мира, уподобляемые драгоценным камням. 3. Рассмотреть виды драгоценных камней, использующихся для метафорической характеристики внутреннего мира человека; указать основания сопоставления. 4. Определить наиболее значимые субъекты и объекты образных сопоставлений, а также наиболее устойчивые и распространенные образные соответствия. 5. Выявить тенденции развития образности, отраженные в реализациях ММ разного времени. В работе использованы такие методы и приемы исследования, как анализ теоретических источников по изучаемой проблематике, сбор материала, наблюдение, классификация и систематизация, количественные подсчеты, сопоставительный анализ. 33 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research 1. Словари поэтических образов как источник сведений о внутреннем мире человека. Внутреннее пространство человека, представленное в ММ, имеет определенную иерархию, в том числе в плане значимости тех или иных образных представлений. В качестве наиболее актуальных для характеристики внутреннего человека М.В. Пименова называет витальные, антропоморфные и зооморфные признаки [4. С. 12]; важным является и предметный мир в богатстве его реалий. Для рассмотрения понятийной области «драгоценные камни» как источника характеристик внутреннего человека мы обратились к трем словарям: 1. Словарь поэтических образов Н.В. Павлович (далее СПО) [5]. 2. Словарь языка поэзии: образный арсенал русской лирики конца XVIII - начала XX в. Н.Н. Ивановой и О.Е. Ивановой (далее СЯП) [6]. 3. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв. Вып. 4: «Камни, металлы» Н.А. Кожевниковой и З.Ю. Петровой (далее МСМС) [7]. СПО. Данный лексикографический источник позиционируется Н.В. Павлович как свод парадигм образов, существующих в русской художественной литературе XVIII-XX вв. (свыше 600 авторов) и включает 40 000 образных единиц, каждая из которых отражает ту или иную ММ, закрепленную в русской поэтической традиции. Материал сгруппирован по 23 разделам, внутри каждого из которых модели распределяются с учетом их распространенности. На первом месте оказываются модели с объектной областью «существо», что объясняется наибольшей частотностью данной образной параллели, применимой практически ко всем субъектам сопоставления. Первый том словаря включает такие разделы, как «Живые существа» (в том числе человек), «Органы и части тела», «Бытие», «Ментальное» и иные, имеющие непосредственное отношение к миру человека. Словарь, построенный по идеографическому принципу, ориентирован не на научную, а на «поэтическую» классификацию. Например, модели с субъектом «душа» включены в раздел «Органы и части тела», поскольку в наивном языковом представлении о человеке душа является особым - невидимым - органом, «отвечающим за внутреннюю жизнь человека» [8. С. 137]. В связи с данным обстоятельством метафорический материал извлекается нами из двух разделов СПО - «Ментальное» и «Органы и части тела». Нами выявлено свыше 40 рубрик, содержание которых отражает субъекты сопостав-34 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях ления в ММ, характеризующих внутреннего человека. Отметим, что раздел «Ментальное» в СПО отличается тематической широтой, в него включается и то, что имеет опосредованное отношение к внутреннему человеку (и не является предметом нашего рассмотрения) -например, «физические состояния» (голод, болезнь), «красота», «просвещение» и т.п. СЯП. Представленный в данном лексикографическом источнике образный материал по сравнению с СПО ограничен и более узкими временными рамками (конец XVIII - начало XX в.), и объемом материала (4 500 единиц), и количеством авторов произведений (250). Обращаясь, как и Н.В. Павлович, к понятию образной парадигмы, авторы СЯП используют их левые элементы (субъекты сопоставления, приводимые в форме падежной конструкции, - «О душе», «О любви» и т.д.) в качестве заглавий словарных статей, представленных в алфавитном порядке. Содержание каждой из статей составляет перечень образных слов, сгруппированных с учетом их семантики; при этом вместо названий групп используется нумерация. В данном словаре нами выявлено свыше 30 словарных статей - и соответственно субъектных областей ММ, относящихся к внутреннему человеку. МСМС. Группировка материала в данном словаре осуществляется на основании идеографического принципа, согласно которому выделяются семантические поля, и диахроническому, что дает исследователю возможность рассмотреть эволюцию компаративных тропов. Материал словаря - метафоры и сравнения, выбранные из произведений русской литературы XIX-XX вв. (по нашим подсчетам, свыше 570 авторов); объем образных единиц авторы не указывают. Особенность МСМС по сравнению с СПО и СЯП - группировка образного материала не по субъектам, а по объектам сопоставления. Информация о субъектной области ММ, характеризующей внутреннего человека, содержится в разделах «Душа, сердце, дух», «Интеллект», «Воля», «Свойства характера», «Категории духовного мира, мораль», «Чувства, душевные состояния». Авторы указывают разновидности тропов - метафоры, сравнения и т.д. Имея различия в принципах группировки материала, в терминологии, в количестве и составе примеров, все названные словари включают реализации ММ, отражающие уподобление души и сердца человека, проявлений его эмоциональной и интеллектуальной жизни объектам понятийной области «драгоценные камни». Общее количество данных реализаций составляет свыше 150 единиц. 35 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research 2. Драгоценные камни как источник метафорических проекций на внутренний мир человека. В поэтическом тезаурусе понятие «драгоценные камни» является достаточно широким. Авторы словарей поэтических образов включают в данную сферу как собственно драгоценные (алмазы, изумруды и т.п.), так и полудрагоценные и поделочные камни (гранат, горный хрусталь), а также вещества органического происхождения (жемчуг, коралл, янтарь). Данное обстоятельство, однако, не противоречит сложившейся практике расширенного толкования значения словосочетания «драгоценный камень». В настоящее время существует обширная литература, посвященная истории драгоценных камней, их природным, магическим и иным свойствам, символике, связанным с ними преданиям, легендам, суевериям (Б. Андерсон, Г. Смит, Дж. Кунц, П.Дж. Рид, Дж. Стоун, Д. Скривнер, В.В. Буканов, С.М. Николаев, С.И. Красиков, Н.А. Яса-манов, А.Е. Ферсман и др.). Однако до сих пор не существует строгого, общепринятого определения понятия «драгоценный камень», о чем свидетельствует, например, наличие многочисленных классификаций (М. Бауэра - А.Е. Ферсмана, К. Клюге, В.И. Соболевского, Е.А. Киевленко и др.), различающихся и по основаниям классификации, и по отнесению камней к той или иной категории, и по наименованиям самих этих категорий. Д.О. Шнигер, анализируя одну из статей действующего закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях», указывает на неполноту приведенного в ней списка, включающего всего семь наименований: природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты, природный жемчуг и уникальные янтарные образования [9. С. 112]. Значительно более широкий перечень представлен в классических трудах, посвященных драгоценным камням, - например, в работе М.И. Пыляева, вышедшей в свет в 1877 г. [10], в монографии знаменитого минералога А.Е. Ферсмана [11] и др. Автор многократно переизданной монографии о драгоценных камнях Г. Смит выделяет три признака «настоящего» драгоценного камня: красота, долговечность и редкость; с учетом данных критериев к драгоценным камням допустимо относить и то, что не является камнем (минералом и/или горной породой), как, например, жемчуг, создаваемый живыми организмами и отличающийся малой прочностью и недолговечностью, что, однако, возмещается, по мнению автора, «бесспорной красотой» [12. С. 11]. По мнению автора «Энциклопедии драгоценных камней» Р.К. Баландина, вышеназванные 36 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях признаки не являются абсолютными: например, алмаз красив исключительно в обработанном виде и долговечен только при соблюдении определенных условий, поскольку отличается хрупкостью [13. С. 182-183]. Само понятие «драгоценный камень» представляется достаточно размытым. Например, известный геммолог Б.У. Андерсон использует данное понятие в широком смысле для обозначения как собственно драгоценных, так и полудрагоценных и поделочных камней [14]; Н.И. Корнилов и Ю.П. Солодова предпочитают термин «ювелирные камни», включая в данную группу многочисленные минералы и горные породы (от алмаза до яшмы), поскольку под ювелирными камнями понимаются «любые камни, используемые в качестве украшений» [15. C. 3]. Особое отношение человека к драгоценным камням - эстетически привлекательным, ценным, окруженным мифопоэтическим ореолом, - издавна проявлялось в литературном творчестве: соответствующим мотивам и образам отводится важная роль как в прозаических, так и в поэтических произведениях [16]. К русской классической литературе неоднократно обращается Т.Б. Забозлаева, автор историко-культуро-логического словаря драгоценных камней [17]. Традиционными являются и ММ, отражающие уподобление драгоценным камням важнейших реалий природного и человеческого мира. Человек в зеркале данных ММ представлен в разных видах - и как внешний, и как внутренний. Говоря о человеке телесном, отметим, что разнообразные драгоценные камни являются образными аналогами и частей тела человека, и его органов. Например, в СПО для обозначения реалий внешнего человека используются наименования более 20 драгоценных камней. При этом ведущим признаком сопоставления является цветовое сходство, отраженное в сопоставлениях, укорененных в поэтической традиции, например: губы - рубины, кораллы; зубы - жемчуг и др. Наиболее широкий спектр образных соответствий имеют глаза: бирюза, изумруды, агаты, хризолиты, аквамарины, аметисты и др. Главным признаком сопоставления является цвет (из имманентно присущих камням), главным из приписываемых им человеком (экспериенциаль-ным) - ценность. Объектная область ММ внутреннего человека является более узкой по сравнению с аналогичной областью, используемой для характеристики человека внешнего. В каждом из анализируемых нами словарей приведено значительное количество сопоставле-37 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research ний реалий внешнего человека с драгоценными камнями - и сравнительно небольшое количество ММ, субъекты которых относятся к человеку внутреннему, что, по-видимому, обусловлено меньшей актуальностью цветового признака для описания внутреннего мира человека. Вместе с тем цветовые ассоциации прослеживаются в реализациях ММ, включающих в объектную область обозначения драгоценных камней, имеющих окраску. В словарях отмечены немногочисленные обозначения разных по цвету камней применительно к тем или иным реалиям внутренней жизни человека. При этом так или иначе актуализирован цветовой признак - с учетом его символики. В русской культуре красный цвет ассоциируется с любовной страстью, синий и голубой - с чем-то возвышенным, идеальным, порой недостижимым, золотой - с солнцем, теплом, красотой и другими положительно оцениваемыми реалиями. Например, отражением любовной страсти предстают и рубины алые (В. Брюсов), и входящий в группу красных гранатов альмандин, пламя которого хочет сжечь грузинок очи (И. Северянин). Символика синего и фиолетового цветов находит отражение в реализациях ММ, относящихся к возвышенным проявлениям внутреннего человека, как, например, аметистовая звезда любви (Б. Лившиц) или сапфирны грезы (И. Северянин). Цвет сердолика -одно из оснований для метафорической характеристики одного из важнейших органов внутренней жизни человека: сердца золотого сердолик (В. Боков); многоцветность, радужность опала позволяет уподобить ему и сердце (Н. Клюев), и счастье (Г. Голохвастов), и мечту (К. Бальмонт). В реализациях ММ находят отражение и иные свойства камней. Например, способность окаменевшей ископаемой смолы сохранять что-либо в себе делает янтарь поэтическим аналогом памяти, в которую погружается пестрый мотылек памятного вечера (М. Лермонтов). Объектная область рассматриваемых ММ представлена в словарях по-разному, что проявляется и в нетождественности перечней номинаций, и в несовпадении большинства иллюстраций - примеров из художественных текстов (совпадения примеров единичны). Например, изумруд и хризолит упомянуты только в СПО, малахит и янтарь - только в МСМС. Вместе с тем вполне отчетливо выделяются три основных объекта - алмаз, жемчуг и хрусталь, зафиксированные в качестве объектов сопоставления во всех трех словарях и реализую- 38 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях щие - в разных примерах - один и тот же набор признаков. Из количества реализаций ММ, отражающих параллели реалий внутреннего мира с драгоценными камнями, на долю сопоставлений с алмазом, жемчугом и хрусталем приходится 30% от общего объема метафорического материала в СПО, 49% - в СЯП, 62% - в МСМС. Алмаз. Качества и свойства алмаза, определяющие его ценность и лежащие в основе уподобления ему объектов различных тематических классов, в том числе и реалий внутреннего мира, зафиксированы в словарном определении: «минерал, превосходящий твердостью и игрой света все другие минералы». В словарной статье указаны и основные направления ассоциаций: «о чем-то блестящем, искрящемся» или «исключительно ценном» [18. C. 17]. Имея наиболее простой по сравнению с другими камнями химический состав (кристаллический углерод), алмаз обладает характеристиками, обусловливающими его первенство в мире драгоценных камней. Специалисты отмечают у алмаза высокую степень проявления таких признаков, как твердость (десять баллов из десяти - самое твердое из веществ природного происхождения), светопреломление, дисперсия, блеск [12. C. 254], что отражено и в словаре В.И. Даля: «первый по блеску, твердости и ценности из дорогих (честных) камней» [19. C. 11]. Одно из важнейших свойств данного драгоценного камня отражено в его названиях: «алмаз» (араб.) - «твердейший», «адамант» (греч.) - «несокрушимый». В работах М.И. Пыляева, Дж.Ф. Кунца, С.П. Новоселова, С.П. Красикова и других нашли отражение многочисленные предания и легенды относительно особых свойств алмаза, придающего своему владельцу твердость духа, отвагу, сохраняющего ясность ума, изгоняющего печаль и т.д. и имеющего чудесное происхождение, например, из пяти начал природы - земли, воды, неба, воздуха, энергии [20. С. 9]. В словарях образов представлены реализации ММ, отражающие уподобление алмазу особо значимых реалий внутреннего мира человека. Сравнение с алмазом характеризует субъект сопоставления как нечто чистое, ценное, причастное свету. Традиционным субъектом сопоставления в данных ММ является душа как главный «представитель» внутреннего человека, например: с душою чистой и светлой, как алмаз (М. Лермонтов); с душою светлой, как алмаз (С. Андреевский); непорочная душа - алмаз в короне добродетели (Т. Шевченко). 39 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research Алмазу подобно и «содержимое» души, например: И каждая дрожащая слеза гранила чистую печаль, и сверкала она в душе, как драгоценный алмаз (Л. Андреев). Красота и ценность алмаза дает основание для сопоставления с ним наиболее значимых чувств: это в первую очередь любовь - младой души алмаз (С. Шевырев), размышления - царство златых, бриллиантовых дум (В. Тепляков). Ценность алмаза определяется и его размером, что представлено в контекстах типа И красноречья три карата, / И веры в дело сто карат (Н. Панов). Твердость алмаза делает его поэтическим аналогом сердца как органа внутренней жизни человека, например: Все перемнется в нас, что глина, /Но сердце, сердце - как алмаз (Вяч. Иванов). Сопоставление реалий внутреннего человека с алмазом базируется сразу на нескольких основаниях, что позволяет поэтам и писателям использовать в качестве субъектов сопоставлений проявления внутреннего мира (чувства, состояния и т.п.) широкого спектра - от любви и радости до тоски и печали, при этом признаки сопоставления не всегда обозначены. Такова, например, вера алмазная (А. Вознесенский), обладающая признаками твердости и чистоты. Главенствующая роль в мире драгоценностей определяет возможность использования алмаза для наименования коллекции уникальных драгоценностей, включающей помимо собственно драгоценных камней также самородки драгоценных металлов и ювелирные изделия, - Алмазного фонда. В качестве объекта сопоставления данное собрание драгоценностей может использоваться для метафорической характеристики совокупности ценностей, присущих внутреннему человеку, как, например, передаваемый молодому поколению Алмазный фонд воспоминаний (М. Светлов). Жемчуг. Привлекательный облик жемчуга (цвет, перламутровый блеск, совершенство формы), его общепризнанная ценность лежат в основе сопоставления с ним разнообразных реалий внутреннего мира человека. Свойства жемчуга с давних времен давали возможность сравнивать с ним нечто прекрасное, возвышенное, священное. Анализируя символику жемчуга, В. Копалинский указывает на использование его народами Месопотамии для характеристики чистой, непорочной души, на именование раннехристианскими гностиками Спасителя «невыразимой жемчужиной» [21. С. 76-77]. Зарождение жемчужины 40 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях вследствие удара молнии в раковину моллюска рассматривалось как прообраз непорочного зачатия: молния - Святой Дух, раковина - Богородица, жемчужина - Христос [22. С. 260]. На Руси жемчуг являлся универсальной драгоценностью, используемой для украшения как царских, так и нарядных крестьянских одежд. Красота и относительная доступность жемчуга способствовали его популярности, в том числе и в плане осмысления жемчуга в качестве образного аналога значимых реалий мира природы (звезды, роса, капли дождя) и человека - внешнего и внутреннего. В «Слове о полку Игореве» Т.В. Грачева выделяет две устойчивые ассоциации жемчуга: с духовной и душевной чистотой («жемчужна душа») и со слезами [23. С. 14]. В древнерусских текстах исследователи обнаруживают упоминание жемчужины как символа бессмертия [24]. Ассоциативную связь жемчуга и слез, отраженную в примете «видеть во сне жемчуг - к слезам», отмечает А.Н. Афанасьев при рассмотрении представления древних славян о жемчуге как слезах богини зари [25. С. 308]. Словари поэтических образов включают реализации ММ, в субъектную область которых входят обозначения жемчуга, а в объектную - наименование реалий внутреннего мира человека. В одической поэзии XVIII в. это, например, добродетели монархов и их подданных: Любовь любимого народа, / Се перло царского венца (Г. Державин); Как злато, истина яснеет, / И милость, как драгий жемчуг (Вас. Майков). В поэзии разных эпох жемчужинам подобны разные чувства и состояния, в том числе грустные, ностальгические: сонный жемчуг / Невозвратимых чувств, необратимых дней (Д. Андреев); Но жемчугов твоей печали, /как прежде, матовость черна (И. Северянин). В последнем примере актуализирован цветовой признак жемчуга, имеющего не только светлые тона. Посредством образа жемчуга характеризуются такие объекты ментальной сферы, как мысли, мечты, желания: мысль - жемчужина, павшая в чашу (А. Белый); ...чувства ее жемчужность (И. Северянин); И мечтанья - светлый жемчуг (К. Бальмонт) и др. Прослеживается мотив нанизывания и рассыпания жемчуга, например: Помнятся, и видятся, и движутся / Вымыслы безудержной мечты, / Словно перлы сказочные нижутся /В ожерелье жуткой красоты (В. Брюсов); И рассыпалась грусть жемчугами (А. Блок). В последнем примере актуализирована связь жемчуга и скорби (при-41 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research мер взят из произведения, героиня которого погружена в глубокую печаль: «Слезы уронены, / Мечты похоронены» [26. С. 304]). Жемчуг неоднократно упоминается в развернутых метафорах, примеры которых представлены во всех трех словарях. Например, связь жемчуга как аналога счастья с жизнью человека отмечает В. Бенедиктов: Други милые, оно / Бытия в железной чаше / Перл, опущенный на дно. Драгоценное счастье оказывается спрятанным в глубине железного сосуда - сурового бытия; в данном контексте реализуется и другая ММ, отражающая древнейшее представление о бытии как чаше, которую человек должен выпить до дна. В образе жемчужин представлены мысли и стремления чистых душ в строках К. Фофанова Выбрасывает вал сурового забвенья / На берег бытия, как зерна жемчугов; изначально пребывающие в водной среде, эти «жемчуга» оказываются перенесенными из метафорических глубин на метафорическую же сушу - в бытие как земное пространство. Мысли и чувства, невысказанные и безымянные, Вл. Соловьев уподобляет жемчужной волне, накатывающейся на берег надежды и берег желания - пространство, также принадлежащее ментальной сфере. Контакт моря и суши, осуществляемый посредством радостно-мощного прибоя, метафорически отражает динамичный, положительно окрашенный образ внутренней жизни человека. Зарождение и существование жемчуга в скрытых от взгляда водных глубинах дает поэтам основание использовать данный образ для описания чего-либо потаенного, сокровенного, драгоценного, например: Лучший перл таится /В глубине морской. /Зреет мысль святая / В глубине души (Ю. Жадовская); поэт - Ловец в пучине бытия / Стоцветных перлов ожиданья (В. Брюсов). Рассматривая пространственную интерпретацию «состава» внутреннего человека, исследователи указывают на значимость образов как внешнего, так и внутреннего пространств. Психические феномены либо уподобляются реалиям внешнего мира, что расценивается как изобразительная доминанта в характеристике внутреннего мира (Ю.Д. Апресян, Н.Д. Арутюнова, А.Д. Шмелев и др.), либо сами представляют собой «внутрипространственные образы» [27. С. 15]. В развернутых метафорах внутреннего человека с участием образа жемчуга наблюдается взаимодействие пространств разного вида: душа / внутренний мир / бытие / память -море, содержащее в том числе и жемчужины, которые в свою очередь являются содержимым меньшего по объему пространства - раковины - жемчужина, таким образом, оказывается надежно скрытой. 42 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях Душа и сердце, концептуализированные в русской языковой картине мира, в том числе и как вода/водоемы и вместилища, одним из параметров которых является глубина, предстают водными хранилищами «жемчужного» содержимого. Например, сердце - это пучина, в которой скрыты перлы дорогие (В. Бенедиктов); оно подобно морю по способности бурлить и волноваться, а также хранить дорогие жемчужины (А. Майков). Отметим, что в литературе разного времени имеется и прямое сопоставление души и сердца с жемчугом, как, например, молодая жемчужная душа (Н. Гоголь) или сердце - драгоценная перла (А. Бестужев-Марлинский). К устойчивым образам русской литературы, прежде всего поэзии, относится уподобление сердца раковине-жемчужнице. Пребывающие в сердце чувства, по замечанию Е.В. Урысон, мало зависят от каких-либо внешних воздействий, и если для пространства души характерны разнообразные процессы внутренней жизни человека, то сердце -это главным образом место зарождения тех или иных чувств [28. С. 24-25]. Небольшой объем сердца в наивном образе человека по сравнению с душой, его компактность, обтекаемость формы служат, по-видимому, дополнительными основаниями для уподобления сердца раковине. Жемчужина в раковине - символ сердца и души, пребывающей в теле, и в то же время символ тех или иных составляющих души и в целом внутреннего мира. Хрусталь. Хрусталь сходен с алмазом по чистоте, прозрачности, блеску и используется для образной характеристики того же круга реалий внутреннего мира человека. В русской поэтической традиции с хрусталем сопоставляется чистая, непорочная душа, незапятнанная совесть: хрустальная прозрачная душа (И. Гончаров); Душа чистая и ясная, как хрусталь (А. Эртель); Ты была нетронутой и ясной, / Как душа хрустальная твоя (М. Лохвицкая); со своей чистою, как хрусталь, совестью (Н. Лесков) и др. Словари образов включают и неоднократно встречающиеся в русской образной системе уподобления хрусталю печали, например: Порой влюбленно улыбнется / Моя хрустальная печаль (В. Набоков); Печаль твоя, как хрусталь, ясна (В. Горянский). Печаль, относящаяся к базовым концептам культуры, обладает - в числе многих других - и признаком, дающим возможность сопоставления ее с хрусталем: она «светлая», т.е. чистая, прозрачная. В.В. Колесов, рассматривая глубинные признаки данного концепта, отмечает существование в рус-43 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research ском языковом сознании и «светлой печали» - лиричной, связанной с радостью, с жизнью [29. С. 6]. Среди продуктивных моделей, объективирующих концепт «мечта», исследователи упоминают такие, как мечта - хрупкий предмет и мечта - ценность [30. С. 19], так что уподобление ее хрусталю является вполне органичным. Словари образов содержат примеры из произведений К. Бальмонта, неоднократно использующего эпитет «хрустальный» по отношению к разным объектам (воздуху, снежинке, голосу, страданию и др.): Прозрачная, хрустальная, поет мечта моя; Хрустальности мечты учил меня ручей. Уподобление хрусталю отражает представление о мечте как о чем-то чистом, светлом, возвышенном. Данное метафорическое представление о мечте несколько отличается от представленного в словарях известного оборота «хрустальная мечта» как аналога «голубой мечты» - заветной, сокровенной [18. С. 347]. В некоторых случаях актуализирован звуковой аспект образа, например: Твоя душа молчала, как рояль. / А здесь, соприкоснувшись с новым бытом, / Она позванивает, как хрусталь (И. Северянин); Сердце звенело мое, как звенит баккара! (И. Елагин). Непрочность хрусталя служит основанием для сопоставления с ним сердца, которое в русском языковом сознании представлено как нечто хрупкое, способное разрушиться, что отражено, например, во фразеологизмах «разбить сердце» и «разбитое сердце», в русском названии растения дицентры, а также в медицинском термине «синдром разбитого сердца», обозначающем заболевание, вызванное сильными эмоциональными переживаниями [31. С. 55]. Сердце разбивается, как хрупкий хрусталь, его осколки сочатся по капелькам кровью (Ч. де Габриак). Хрупкими оказываются чувства: Как хрусталь - влеченье сердца, /Как бокал - любовь людская, / Чуть толкнешь его неловко, / Разобьется на куски (К. Бальмонт); ...хрустнет хрусталь печали, как льдинка под ногой (Б. Пильняк). Сходство хрусталя и льда позволяет поэтам связывать образ хрусталя с бесчувственностью, холодностью, например: Вот и боль заморозилась, полдень настал, / Сердце в гранях застыло, как горный хрусталь (С. Кирсанов). Кристалл. Определения кристаллов в словарях сводятся к следующему: это имеющие форму правильных многогранников твердые тела, частицы которых образуют кристаллическую решетку. В пере-44 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях воде с греческого языка кристалл - лед, а также горный хрусталь. Кристаллами традиционно именуют драгоценные камни, ценность, прозрачность и чистота которых делают их аналогами души, духа, памяти, мысли и некоторых других реалий внутреннего человека: Твоя душа - кристалл, дрожащий / В очарованьи светлых струй (Ф. Сологуб); Любовь ведь светлая, она кристалл, эфир (И. Анненский); Кристаллы дум, алмазы слез (А. Белый) и др. «Родство» кристалла и льда способствует использованию соответствующего образа для характеристики холодности, бесчувственности, например: Я желал молиться, но душа, / Как дорогой кристалл, блистает, не дыша (В. Брюсов). Для измученного негативными чувствами сердца нет грезы ласково обманней, / Чем стать кристаллом при свечах / В лиловом холоде мерцаний (И. Анненский). Кристаллы по разным причинам (воздействие агрессивной среды и др.) способны утрачивать свою прозрачность, что находит отражение в реализациях ММ, в субъектную область которых входят наименования изначально чистых, но «поврежденных» реалий внутреннего мира, например: Духа помутившийся кристалл (Б. Лившиц); Зачем те чувства, что чище кристалла, /темнить лукавством... (М. Кузмин). В словарях образов представлены реализации ММ, включающие в область объекта магический кристалл. В работах Ю.М. Лотмана, Н.О. Лернера, Н.С. Араповой и других содержатся сведения относительно как формы магических кристаллов, так и материала, из которого они изготовлены. Как отмечает М.Ф. Мурьянов, эти кристаллы изготавливались из горного хрусталя или берилла, а само упоминание кристалла может подразумевать именно магический кристалл, как в пушкинском «Зизи, кристалл души моей» [32. С. 94-95]. Магическому кристаллу, способному сохранять информацию о прошлом и предсказывать будущее, уподоблены, например, память, мысль: Но в памяти магическом кристалле / Осенние те розы отцвели (Вс. Рождественский); Я за то свою мысль ненавижу, / Что в холодном кристалле ее / Я вчерашнее счастье свое /Беспощадно развенчанным вижу (В. Брюсов). 3. Отражение тенденций развития образности в словарях языка поэзии. Материалы словарей отражают некоторые тенденции в развитии поэтического языка. Упоминания драгоценных камней в качестве объектов сопоставления в литературе старой и новой (XVIII-XX вв.) имеют черты как сходства, так и различия. Авторы «Очерков истории языка русской поэзии», рассматривая эволюцию тропов в 45 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research поэтическом языке ХХ в., выявляют такие тенденции, как конкретизация устойчивых образов, количественное и качественное видоизменение образных рядов, снижение высокого, вовлечение в образность бытовых реалий [33. С. 6-106]. Данные тенденции, как свидетельствуют материалы словарей поэтических образов, проявляются и в характеристике реалий внутреннего мира человека посредством их сопоставления с драгоценными камнями. Из поэтического обихода уходят старые названия драгоценных камней (яхонт, лал и др.). Видоизменяются образные ряды: появляются новые объекты сопоставления, не востребованные литературой прошлых веков, как, например, сердца золотого сердолик (В. Боков), тоска - малахитов камень (Е. Полонская), сердце-опал (Н. Клюев). Алмаз, жемчуг, хрусталь в качестве образных соответствий внутреннего человека активно используются и в старой, и в новой литературе. Вместе с тем в словарях образов обнаруживаются реализации ММ, отражающие и характеристики драгоценных камней, и аспекты их рассмотрения, неактуальные для литературы XVIII-XIX вв. Например, «горение» камня традиционно обозначало его блеск, световую характеристику: В горьком опыта фиале / Твой (радости. -Е.К.) алмаз на дне горит (Ф. Тютчев) и др. В новой литературе это не просто свет, а огонь, как в тексте М. Кузмина, в котором на смену пламени сомненья приходит иной вид огня: Сердца взывающего горит алмаз, или Н. Олейникова, уподобляющего горящему алмазу страстное чувство; ср.: Тлеет душа, как алмаз (Вяч. Иванов). Внутренний мир человека в литературе XX в. сопоставлен с драгоценным камнем не только по своим традиционно выделяемым свойствам и качествам, но и в плане его формирования под воздействием как внутренних, так и внешних факторов. Источником соответствующих тропов, отражающих развитие внутреннего человека, оказывается главным образом алмаз, для образования и совершенствования которого в недрах земной коры необходимым условием (помимо температуры свыше 1 600°) является высокое давление: Под давящим свыше бременем / Твердых лав и мертвых масс / Станет мутный дух со временем / Чист и прочен, как алмаз (Д. Андреев). Природа алмаза как формы кристаллического углерода осмысляется поэтами в плане его родства с углем, который под воздействием пламени превращается в алмаз (А. Блок, А. Белый). Безупречный облик алмаза в новой литературе представлен как результат работы, актив-46 Купчик Е.В. Внутренний мир человека в метафорических моделях ной деятельности человека. Таковы, например, алмазные вымыслы, не имеющие особой ценности, пока отделки блеск не заиграл на них (Н. Матвеева) или цельная, как алмаз, душа, находящаяся в ожидании лишь руки, которая с бережной любовью нанесет на нее бесчисленные грани, в которых отразится мир (Д. Рубина). Невещественное в литературе XX в. приобретает свойства вещественного - иногда подчеркнуто вещественного. Субъект сопоставления конкретизируется, детализируется, традиционно высокие реалии снижаются, обытовляются. Например, сердце как вместилище жемчуга становится сосудом, в котором человек переносит нечто ценное для себя; оно предстает раковиной или ракушкой (В. Хлебников), имеющей такие характеристики, как закрытый малый объем, наличие створок: жемчужница тесная (Вяч. Иванов); Тише жемчуга несомый в створках сердца (М. Цветаева). Отметим, что уподобление сердца раковине - как и другим прозаичным вместилищам (миске, термосу, ящику и т. д.) - отмечено авторами словарей только в текстах XX в. Традиционное представление о драгоценном камне как аналоге чего-либо возвышенного претерпевает изменения. Субъектом сопоставления может быть нечто негативное, например: Болван, чья ограниченность гранилась, / Как бриллиант (Н. Матвеева); изумруды безумий (В. Маяковский). Твердость алмаза лежит в основе уподобления ему непреходящего мучительного чувства: А вот тос
Арутюнова Н.Д. Введение // Логический анализ языка. Образ человека в культуре и языке / отв. ред. Н.Д. Арутюнова, И.Б. Левонтина. М. : Индрик, 1999. С. 3-11.
Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / пер. с англ. М. : Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
Гнездилова Н.С. Метафорическое функционирование концепта «камень» в образной системе русского языка // Вестник ТГПУ. 2019. Вып. 7 (204). С. 55-82.
Пименова М.В. Концепты внутреннего мира (русско-английские соответствия) : автореф. дис.. д-ра филол. наук. СПб., 2001. 40 с.
Павлович Н.В. Словарь поэтических образов: На материале русской художественной литературы : в 2 т. М. : Эдиториал УРСС, 1999. Т. 1. 848 с.
Иванова Н.Н., Иванова О.Е. Словарь языка поэзии: Образный арсенал русской лирики конца XVIII - начала XX в. М. : Астрель; Русские словари; Транзиткнига, 2004. 666 с.
Кожевникова Н.А., Петрова З.Ю. Материалы к словарю метафор и сравнений русской литературы XIX-XX вв. Вып. 4: Камни, металлы; Вып. 5: Ткани, изделия из тканей. М. : Издательский дом ЯСК, 2017. 680 с.
Шмелев А.Д. Дух, душа и тело в свете данных русского языка // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А. Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М. : Языки славянской культуры, 2005. С. 133-152.
Шнигер Д.О. Критика определения понятия драгоценных камней по российскому законодательству // Журнал Российского права. 2011. № 12. С. 112-121.
Пыляев М.И. Драгоценные камни. Их свойства, местонахождения и употребление. Репринтное воспроизведение издания 1888 г. М. : Х.Г.С., 1990. 404 с.
Ферсман А.Е. Рассказы о самоцветах. М. : Наука, 1974. 252 с.
Смит Г. Драгоценные камни / пер. с англ. А.С. Арсанова, Б.А. Борисова. 2-е изд-е. М. : Мир, 1984. 592 с.
Баландин Р.К. Энциклопедия драгоценных камней и минералов. М. : Вече, 2000. 392 с.
Андерсон Б.У. Определение драгоценных камней. М. : Мир камня, 1996. 456 с.
Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М. : Недра, 1982. 239 с.
Шилкина М.М. Мотивы и образы драгоценных камней в русской поэзии рубежа XIX-XX веков : автореф. дис.. канд. филол. наук. Волгоград, 2004. 24 с.
Забозлаева Т.Б. Драгоценности в русской культуре XVIII-XX веков: История. Терминология. Предметный мир. СПб. : Искусство-СПб, 2003. 464 с.
Современный толковый словарь русского языка / под ред. С.А. Кузнецова. СПб. : Норинт, 2001. 960 с.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 1. М. : Русский язык МЕДИА, 2006. 699 с.
Милашев В.А. Алмаз. Легенды и действительность. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Недра, 1981. 101 с.
Копалинский В. Словарь символов. Калининград : Янтарный сказ, 2002. 264 с.
Ковтун Л.С. Рождение жемчуга (знаки и образы в приточном символе) // Исследования по древней и новой литературе. Л. : Наука, 1987. С. 260-266.
Грачева Т.В. Жемчуг в русской литературе // Русская речь. 2002. № 3. С. 14-20.
Мещерский Н.А., Мещерская Е.Н. «Жемчюжна душа» в «Слове о полку Игореве» // Исследования по древней и новой литературе. Л. : Наука, 1989. С. 144-147.
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу : в 3 т. Т. 1. М. : Современный писатель, 1995. 411 с.
Блок А. Стихотворения и поэмы. М. : Правда, 1978. 480 с.
Коськина Е.В. Внутренний человек в русской языковой картине мира: образно-ассоциативный и прагмастилистический потенциал семантических категорий «пространство», «субъект», «объект», «инструмент» : автореф. дис.. канд. филол. наук. Омск, 2004. 28 с.
Урысон Е.В. Проблемы исследования языковой картины мира: Аналогия в семантике. М. : Языки славянской культуры, 2003. 224 с.
Колесов В.В. Грусть-тоска в русском языковом сознании // Мир русского слова. 2017. № 3. С. 5-13.
Сергеев С.А. Особенности объективации концепта мечта в русской языковой картине мира : автореф. дис.. канд. филол. наук. Новосибирск, 2005. 20 с.
Харина Т.П., Таряник П.В. и др. Синдром «разбитого сердца» или стресс-индуцированная кардиомиопатия (синдром такацубо) // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2000. № 1 (66). С. 55-60.
Мурьянов М.Ф. Магический кристалл // Временник Пушкинской комиссии. Л., 1990. Вып. 6. С. 92-95.
Очерки языка русской поэзии: Образные средства поэтического языка и их трансформация / отв. ред. В.П. Григорьев. М. : Наука, 1995. 263 с.
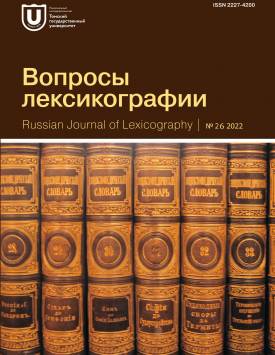

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью