Лексикографирование как метод описания лексики. К теоретическому наследию О.И. Блиновой
В статье развивается идея, высказанная профессором Томского университета О.И. Блиновой, согласно которой лексикография является одним из методов изучения лексики. Автор статьи трактует лексикографирование слова как специфический подход к описанию его семантики, который заключается в ее дискретизации. Большое внимание уделяется понятию параметризации лексики, проводимому в таком описании. Рассматриваются ее особенности в толковых, энциклопедических, мотивационных словарях.
Lexicographizing as a Method of Describing Vocabulary: Revisiting the Theoretical Legacy of Olga Blinova.pdf 1. К постановке проблемы «лексикография как метод» Теоретическая идея о том, что лексикография (точнее, лексикографирование) представляет собой специфический метод описания лексического материала языка, сформировалась у О.И. Блиновой в ходе ее многолетней работы над словарями разного типа и впервые была оформлена эксплицитно в конце 90-х гг. прошлого века в работе «Лексикографический метод исследования языка» [1]. В этой и последующих работах (например, [2, 3]) ученый трактует «лексикографический метод как один из инструментов получения теоретического знания» [3. С. 14]. Иллюстрируя эту идею, О.И. Блинова отмечает, в частности: «...мотивационно-сопоставительный словарь... обретает 1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ (проект № 19-012-00202 «Обыденная политическая коммуникация в социальных сетях: комплексный лингвистический анализ»). Написана на основе доклада, прочитанного автором на конференции «Чтения памяти О.И. Блиновой» (Томский государственный университет, 09.11.2020 г.), поэтому в ней содержатся некоторые элементы жанра доклада, которые мы сочли возможным оставить в тексте. Н.Д. Голев 6 статус словаря-исследования и инструмента познания языка, статус лексикографического метода, совмещающего в себе два феномена: словарь и теория» [3. С. 15]. Предлагаемая статья включается в очерченную парадигму. Далее названная идея О.И. Блиновой проходила через многие ее работы (см., например, [4-6]; она была воспринята многими исследователями лексики, которые использовали ее для решения самых различных лингвистических и нелингвистических задач (см., например, [7-11]). Отмечу, что я не сразу оценил названную идею, но со временем, по мере накопления собственного лексикографического опыта и размышлений над ней, согласился с тезисом О.И. Блиновой о том, что «лексикография - метод». Полагаю, что более точно идею Блиновой подчеркивает термин «подход», имеющий не столько методический, сколько методологический характер. В настоящей статье я делаю попытку более развернуто обосновать понятие «лексикографический метод», опираясь на опыт Ольги Иосифовны и свой собственный опыт экспериментального лексикографирования. Основной аспект нашего рассмотрения идеи О.И. Блиновой общеметодологический; мы намерены провести антиномический анализ лексикографирования, соотношения таких его сторон, как субъективное и объективное, отражательное и условное (конвенциальное), непрерывное и дискретное и других, но прежде всего в настоящей статье нас интересует соотношение гносеологических и онтологических проявлений лексикографического подхода к лексике. Считаю, что сущность идеи «лексикография - метод» заключается не только в том, что лексикографирование предполагает опору на те или иные научные методы описания семантики языка (это достаточно очевидно) и не только в том, что лексикографический материал, аккумулированный в словарях, используется в различных исследованиях, экспертизах, практиках, нередко выходящих за границы лингвистики как науки (см.: [12-14]). Суть рассматриваемой идеи я вижу в том, что лексикографирование задает специфическое видение языкового материала (лексики и лексической семантики). В этом смысле понятие «лексикографирование» заметно перерастает сугубо технологическое содержание, в рамках которого лексикографирование есть собирание лексического материала с его дальнейшей специальной обработкой и публичным представлением результатов данных видов лингвистической деятельности в форме словарей, и все более обрета- Лексикографирование как метод описания лексики 7 ет методологическое содержание. Лексикография все чаще трактуется как особое видение языка, обусловленное специфическими задачами, которые хотя и имеют прикладной характер, но видение, которое они задают, позволяет исследователям выявить в объекте (лексике) новые и весьма важные стороны. В.И. Абаев в 1934 г. написал цикл статей «Язык как техника и язык как идеология», где зафиксировал технические и идеологические свойства языка [15]. Принимая данную оппозицию, можем утверждать, что лексикография представляет собой не столько технику, сколько идеологию и что лексикографирование ко всему прочему является способом познания языка. Уральские коллеги удачно выразились, назвав сборник материалов конференции «Новые версии лексикографической интерпретации языковой реальности» [16], отнеся таким названием лексикографию к лингвистике языкового существования. Полагаем, что подобным образом прикладные идеи приобретают методологический смысл и в других сферах лингвистики, скажем, видение русского языка как предмета обучения русскому языку как иностранному (особо заметим - и родному также) или как объекта машинного перевода ставит задачу практико-направленного упрощения модели русского языка, но результаты такого рода прикладного упрощения как гносеологического продукта проецируются по принципу обратной связи в саму языковую действительность: «работающие» в модели принципы могут трактоваться как онтологические свойства самого языка (ср. название статьи - «О словарях народных этимологий и мотивационных ассоциаций как отражении онтологических свойств лексических единиц» [9]). Упомянутое выше название сборника материалов конференции «Новые версии лексикографической интерпретации языковой реальности» является, скорее, метафорой, но в этой метафоре ёмко отражено методологическое содержание термина «лексикография». В силу большой значимости сопоставления лексикографии с другими «вИдениями» естественного языка продолжу ряд последних. Контрастивная лингвистика - видение одного языка (например, родного) сквозь призму других языков - позволяет увидеть в родном языке то, что трудно увидеть изнутри. В таком же плане перевод представляет собой реализацию особого взгляда на язык, что позволяет утверждать, что перевод - специфический способ описания языка, который можно назвать транслатологическим. Перевод как метод да- Н.Д. Голев 8 ет возможность рассматривать с его помощью разные онтологические свойства языка; такова, например, переводимость как свойство родного языка, ср. оценку фразеологизмов в аспекте их переводимости; в плане такой оценки типология В.В. Виноградова - сочетания, единства, сращения - естественным образом проецируется на шкалу степеней их переводимости. Исследовательские возможности призмы перевода усиливаются при использовании обратного машинного перевода (см. об этом подробнее [17]). Таким же образом проблема искусственных языков задает особую призму видения естественных языков (представим, что мы ищем способ общения с инопланетянами), расшифровка неизвестных текстов представляет собой особое видение не только расшифровываемого языка, но и других, в том числе родного для исследователя. Особо подчеркну важность в данной теме аспекта «упрощение». Поиски более простого метаязыкового кода, чем собственно языковой код, принадлежащий естественному языку, - такое же особое видение языка, такие же поиски простого, прототипического, архетипического в нем, но это не поиски в области техники описания языка, а его идеология, познание, проникновение в глубинную исходную сущность. Лексикографическое описание семантики слова является такого рода поиском упрощенных форм его представления. О.И. Блинова в статье «Размышления о лингвокультурологических пометах в словаре» образно отразила техническую сторону упрощения следующим образом: «Такова многолетняя традиция в лексикографии: экономить полотно текста, давая дорогу слову, его функционированию в контексте. Подобно солдатам, пометы выстраиваются в ряд в зависимости от своего ранга: грамматические, лексические, стилистические et cetera» [6. С. 122]. Однако за экономичным способом, о котором говорит ученый, стоит не только техника, но и познание семантики слова. Так, известная дискуссия 1960-х гг. по вопросу, нужно ли включать в словарную статью слова «роза» указание на наличие шипов, является не столько технологическим спором (экономить или не экономить полотно словаря?), сколько идеологическим. Точнее - концептуальным - входит или не входит признак «шипы» в семантику слова «роза», или (иначе) имеет ли он статус семы, т.е. внутреннего, собственно языкового смыслового элемента? Полагаю, что в дискуссии отразился тот методологический сдвиг в лингвистике, точнее, подвижка к антропологи- Лексикографирование как метод описания лексики 9 ческому плану языка в семасиологии, которая в то время уверенно двигалась и сейчас движется (что является основным сюжетом настоящей статьи) от понятийного к концептологическому акценту при описании смысловой структуры слова. Очевидно, что желание включить сему «шипы» в семантику слова «роза» продиктовано предощущением ее концептуальности, включенности в культурный слой содержания, ср.: «Мэри, где шипы, там и розы»; «Розы и шипы, печаль и радость связаны друг с другом...»; «Где розы - там и тернии - Таков закон судьбы» и т.п. Уже в это частном примере видно, что лексикографическое описание не техника, а идеология, что способ описания зависит от онтологии языка и его гносеологии, в данном случае от того, какой аспект (план, слой) содержания такое описание стремится отразить. Далее мы увяжем этот тезис с понятием лексикографической параметризации, вводимым О.И. Блиновой, о котором мы намерены сказать более подробно. 2. Особенности лексикографического моделирования лексики В чем суть лексикографического познания словарного состава языка? Мы видим ее в диалектическом взаимодействии непрерывного и дискретного. Лексикографирование - это дискретизация (атомиро-вание) семантического пространства, которое по сути своей непрерывно. Онтологическая сторона дискретизации заключена в том обстоятельстве, что языковое сознание самим фактом вербализации отдельных сгустков смысла осуществляет такую дискретизацию. Одновременно в онтологии языка стихийно осуществляется и преодоление дискретности. Последнее вытекает из того обстоятельства, что словарный состав языка - не механический набор слов, расположенных в алфавитном или еще каком-то конвенциально определенном порядке. Лексикография - гносеологическая процедура дискретизации (ато-мизации?) семантического пространства языка, выделение и описание отдельной смысловой единицы, ассоциированной с отдельным, уже выделенным в самом языке и неповторимым звукокомплексом. В определенном смысле это факт конвенциализации (в некотором роде - официализации) данной связи, фиксация ее как нормы, которую нельзя нарушать без ущерба для коммуникации. Тот факт, что в судебной лингвистической экспертизе осуществляется отсылка к словарям как доказательству существования такой нормы, подтверждение официали-зации, достигающей в данном случае уровня юридизации. Н.Д. Голев 10 Считаем важным следующий момент в обуждении проблемы соотношения аспектов отражения и конвенции в словарном описании семантики: обстоятельство, в соответствии с которым лексикографи-рование является актом отражения, не может быть абсолютизировано, поскольку оно одновременно и акт конвенции. В частности, в силу последнего наличие лексемы в словаре нельзя отождествлять с ее наличием в языке, такое отождествление нередко происходит как в сознании рядового носителя языка, так и лингвиста. Например, в тех случаях, когда кто-то всерьез по данным словарей выясняет, есть ли то или иное слово в языке, или считает по словарям, сколько слов языке и в каком языке их больше. Полагаю, количество слов в любом языке принципиально не считаемо. Зафиксированность слова в словаре не может быть надежным критерием его объективного существования в языке. Е.А. Земская в учебнике по словообразованию 1973 г. использовала слова спрашиватель и возражатель как иллюстрацию потенциальных слов, по причине их отсутствия в словарях [18. С. 220]. Современный интернет даёт возможность проверить это утверждение: данные слова широко и уже давно, задолго до 1973 г., употребляются в русском узусе, т. е. являются словами вполне реальными. Например, отсутствие в словарях слов доплясать, антипротестантский или антипротестный, протестанточка, 11-километровый и т.д. и т.п. не означает их отсутствия в речевом употреблении, а возможно - и в узуальном. То есть отсутствие в словаре не означает отсутствия в системе языка и даже часто не означает отсутствия в узусе речевого употребления. Но наличие слова в словаре, несомненно, сильный сигнал его узуальности, и фиксация границы между потенциальными и реальными, окказиональными и узуальными словами - одна из важных прикладных функций лексикографирования. Продолжаю развивать тезис: «лексикографирование - проявление диалектики непрерывного и дискретного». Далее о преодолении дискретности. Лексический состав - не хаотическая россыпь дискретных (не связанных друг с другом) слов. «Алфавитность» в этом смысле -фактор противоречивый: отвечая на потребность пользователя в удобном поиске, «алфавит» разрывает смысловые и функциональные связи между словами (отражение языка). Реагируя на потребность их сохранения, лексикография так или иначе стремится их сохранить. Думается, что В.И. Даль, выбрав гнездовой принцип подачи производной лексики, интуитивно или осознанно стремился к отражению Лексикографирование как метод описания лексики 11 полевого (недискретного) устройства лексики. В современных толковых словарях такое стремление иллюстрируют эпизоды типа круговых определений: петух - самец курицы, курица - самка петуха. И даже в такой форме: эмбрион - см. зародыш, зародыш - см. эмбрион. Здесь можно отвлечься от комичности, вызываемой такими примерами, поскольку вопрос серьезный. Поставим его таким образом: может ли лексикографирование в принципе отвлечься от такого рода отсылок как проявлений внутренней системности лексики, к примеру, сможет ли лексикограф зафиксировать значение слова ишак, не оттолкнувшись от слова осел? Практически это возможно: например, возможно представить семантику слов конь и лошадь или шпион и разведчик, доносчик и осведомитель, репутация и авторитет в толковом словаре абсолютно дискретно, безотносительно друг от друга, но будет ли такое лексикографирование адекватным отражением содержания данных слов? Полагаем, носитель родного русского языка во многих ситуациях, приводящих к необходимости обращения к словарям, удовлетворится такой подачей, его речевой опыт компенсирует отсутствие указания на дифференцирующие данные слова признаки. Но уже иностранец, изучающий русский язык, которому важно понять их различие для адекватного понимания и употребления данных слов, будет явно не удовлетворен таким лексикографированием, не увязывающим эти слова эксплицитным указанием на их различия. И тут считаем возможным поставить принципиальный вопрос: кому (какому типу носителей языка) и для каких целей (потребностей) предназначены толковые словари? Особенно значим этот вопрос для лексикографического описания однозначных, «общепонятных», широкоупотребительных слов или ЛСВ - стол, ложка, это, иметь, дом, дым, направо и т.д. 3. Параметризация как принцип лексикографического моделирования лексики О.И. Блинова ввела понятие параметризации лексики, которое мы трактуем как стратегию преодоления дискретности, или, другими словами, как принцип моделирования системного плана лексики при ее отражении в словарях. В аннотации к статье «Синонимия сибирского говора сквозь призму комплексной лексикографической параметризации» она пишет: «В структуру словарной статьи должна быть Н.Д. Голев 12 включена интерпретационная зона, описывающая разноаспектные характеристики синонимов, это должно послужить источником для классификации синонимических рядов исследуемого говора» [19. С. 5]. Актуальность составления словаря, основанного на параметризации, «обусловлена продуктивностью и информативностью лексикографического метода исследования русского языка и его говоров» [19. С. 5]. На наш взгляд, наиболее определенно идея параметризации отражена в цитируемой выше статье О.И. Блиновой, где «автор размышляет о важной функции словарных помет, которые призваны выражать разнообразные характеристики слова: грамматические, стилевые, экспрессивные, географические и т.п.» [6. С. 122]. Особое внимание в статье уделено лингвокультурологическим пометам, «выражающим значения слова на основе принципа уподобления. Это следующие пометы: олицетворение, выражающее уподобление чего-либо человеку, антропоморфизм - человеку по схеме человек - человек, зооморфизм - животному, фитоморфизм - растению, фономорфизм - звуку, натуроморфизм - явлениям природы, мифоморфизм -мифическому существу, артефактоморфизм - изделиям человека, ло-коморфизм - пространственным параметрам» [6. С. 122]. Акцентируем внимание на последнем слове цитаты, объясняющем понимание О.И. Блиновой параметризации, реализуемой в толковых словарях. На наш взгляд, понятие «параметризация» фиксируется не только в частных проявлениях лексикографического антропоцентризма, но и на макроуровне лексикографирования - в факте оппозиции различных типов словарей: толковых, энциклопедических, частотных, ассоциативных, словообразовательных, мотивационных, переводных. В каждом их них реализуется специфическое видение лексикосемантического пространства языка. В предисловии «От редактора» к «Мотивационному словарю сибирского говора» [20, 21] О.И. Блинова такие широкие параметры называет аспектами и в этом плане выделяет типы аспектных словарей: мотивационный, идеографический, образный, гнездовой словообразовательный, обратный, иллюстрируя их примерами из словарей, созданных коллективом Томской диалектологической школы [20. С. 3]. Энциклопедические словари, в отличие от толковых, фиксируют содержание понятия, стоящее за термином, путем их научных дефиниций. Понятие неотрывно от дефиниции. Специфической формой понятия, отличающей его от представления, является форма опреде- Лексикографирование как метод описания лексики 13 ления. Основная особенность этой формы - расчлененность. «Если мы умеем указать раздельно, один за другим, признаки предмета, мы обладаем понятием, если же мы этого не в состоянии сделать, мы находимся на стадии представления» [22. С. 42-43]. Если у терминов дефинитивность, т.е. возможность определения, является обязательным свойством, то по отношению к значению обиходных слов утверждение данного свойства вызывает сомнения. Содержание слова (дискретная смысловая частица, сгусток смысла) в естественном языке формируется и функционирует в значительной мере стихийно на основе чувственного опыта и фиксируется в сознании в нерасчлененной форме. Еще древние философы (Секст Эмпирик) обратили внимание на то, что содержание обиходных слов и их словесная экспликация в известном смысле несовместимы, что находит отражение в комическом эффекте, который вызывает последняя, ср., например, дефиницию слова «подушка»: принадлежность постели, имеющая мешкообразную форму, обычно набитая пухом или ватой и служащая для удобства при спанье. Причины «несовместимости» значений обиходных слов и их дефиниций заключается не только в том, что признаки-семы, составляющие содержание значений, очевидны (нередко они как раз далеко не очевидны), и не только в том, что такие слова не требуют разъяснений; во многом они обусловлены самой природой значения. «Ребенок, усваивая язык, овладевает конкретными словами в результате многократных “остенсивных определений”. Ему много раз показывают и называют предмет, после чего он начинает самостоятельно пользоваться его именем. Постепенно после долгих проб и ошибок в его уме откладывается обобщенный чувственный образ предмета, из которого отсеяны все несущественные чувственные признаки. Этот чувственный образ составляет эмпирическое содержание предметного значения и в языке взрослых» [23. С. 137]. Полагаем, что традиционная лексикография не в полной мере выработала метаязык описания обиходных понятий (наивной картины мира), в значительной мере оно заимствовало его из энциклопедий и терминологических словарей. Это особенно наглядно в представлении значений слов, совпадающих по форме с терминами. Начало энциклопедической традиции в русской лексикографии положил, по-видимому, В. Даль, в словаре которого находим прямые отсылки к элементам научного де-финирования понятий, например, ЛЕБЕДА ж. лобода юж., родовое Н.Д. Голев 14 название растений Artiplex, Chenopodium; л. морская A. Chalinus, портулак морской; л. cадовая, красная, A. hortensis; ЛУТОК м. вид утки или нырка, Mergus abbelius, пегий, синеклювый. Такой способ характерен и для многих более поздних толковых словарей, в том числе диалектных: ЧЕРНОТАЛЬНИК, а или у, м. Кустарник чернотал, salis peatandra; ЧЕРТОПОЛОХ, а или у, м. Растение черноголовник; eryngeum planum [24]. Однако, по нашим наблюдениям, в лексикографии более позднего (после В. Даля) времени постепенно складывается тенденция дистанцирования от энциклопедической информации и логико-понятийной формы ее экспликации в словаре. Наукообразные дефиниции с фиксацией родового понятия и видовых отличий внутри рода вытесняются описательным способом содержания, стоящего за словом, что соответствует такой форме отражения действительности в сознании, как образ, или обобщенное представление, о которой мы сказали выше. При этом можно заметить, что в таких описаниях фиксируются не сущностные признаки, а признаки поверхностные или значимые для обиходного употребления денотата, заметно также стремление лексикографа зафиксировать лингвистически значимые признаки. Так, в словаре Д. Н. Ушакова находим такие описания птиц: ЯСТРЕБ хищная дневная птица с коротким изогнутым, крючковатым на конце клювом, с длинными, острыми когтями, быстро и ловко ловящая добычу и приносящая большой вред сельскому и охотничьему хозяйству; СТРЕПЕТ степная птица из рода дроф, во время полета производящая резкий шум крыльями; КАНЮК хищная птица, похожая на ястреба, крик которой напоминает плач (зоол.) [25]. В двух последних названиях просматривается стремление отразить содержание, вытекающее из внутренней формы слова. ПЛАТИНА, ы, мн. нет, ж. [исп. platina, уменьш. к plata - серебро] драгоценный нержавеющий металл белого цвета, ценимый дороже золота [25]. С нашей точки зрения, в таких представлениях содержания слова осуществляется отход от понятийного пласта (понимаемого как ядерный) к концептному содержанию. Соответственно меняется направление параметризации слова. Подробное сопоставление дефи-нирования в толковых и энциклопедических словарях проведено нами в статье «Об описании значения слов-денотативов» [26]. Параметризация, если ее понимать как выбор параметра лексикографом, зависит как от объективной стороны содержания слова (семантический тип описываемых слов), так и от субъективной - целе- Лексикографирование как метод описания лексики 15 вой установки лексикографа. Очевидна взаимозависимость названных сторон. В качестве иллюстрации сказанного приведем наш опыт составления юрислингвистического словаря оскорбительных слов [27, 28]. Необходимость дифференциации инвективной лексики по степени оскорбительности (обидности), продиктованная потребностями юри-слингвистической экспертизы, столкнулась со специфической особенностью слов-инвективов - фактическим отсутствием у многих из них понятийного ядра: слова ГАД, ДРЯНЬ, ТВАРЬ, МРАЗЬ и т.п. не поддаются ни дефинированию, ни развернутому описанию в тех смыслах, которые мы представили выше. Единственную возможность дифференциации мы видели в прямой апелляции к языковому и метаязыковому сознанию носителей русского языка путем мысленного эксперимента, в рамках которого испытуемый моделировал позицию инвектума или инвектора. Для осуществления этой цели предлагались вопросы: 1) какое слово из каждой пары слов кажется Вам более обидным (ГАД или ДРЯНЬ, РАЗИНЯ или РАЗЗЯВА, ОСЕЛ или ИШАК и т.п.); 2) из предложенного списка выпишите три наиболее обидных и три наименее обидных слова, по результатам анкетирования каждому слову приписывался определенный индекс инвективно-сти. Здесь уместно заметить, что О.И. Блинова отдавала должное экспериментальным методам семасиологии и лексикографии (см.: [29]); укажем также некоторые известные нам работы в этой области российской лексикографии [30, 31]. Наш опыт экспериментального лек-сикографирования лексики обобщен в статьях [32, 33]. Возможны и другие нетрадиционные методы проникновения в содержание слова и его семасиологического описания. Таковым мы считаем квантитативное описание в частотных словарях, составленных в том числе с использованием статистических данных интернета. Частотность слова - это не сугубо количественная его характеристика, за ней, как правило, стоит отражение особенностей функционирования слова, его широта свидетельствует о наличии сильных сем и трансформации понятийно-логического содержания слова в концептуальное. Это обстоятельство мы отметили в ряде статей, посвященных использованию статистик поисковых систем интернета для семасиологических целей. В статье «О новых источниках квантитативного речевого материала и их семасиологических возможностях» [34] этот момент был проиллюстрирован такими примерами: названия городов Н.Д. Голев 16 Севастополь и Симферополь имеют существенно разную частотность, несмотря на то что население их примерно равно: у Севастополя в Яндексе зафиксировано - 5.550.680, у Симферополя - 3.681.542. Видимо, концепт «Севастополь» более активен в виртуальном пространстве интернета в силу исторических и современных обстоятельств, занимая весьма значимое место в сознании его пользователей. Этот фактор особенно очевиден в сфере заметно выделенных концептов. Скажем, названия городов Беслан, Буденновск, Гудермес, Кижи, Бе-локуриха, Адлер, Дагомыс, весьма небольших по населению и даже экономике, однако их имена имеют сильное концептуальное содержание, которое создает высокую частотность у их названий. Одни из них являются событийными концептами, другие - культурными (в широком смысле этого слова). Таким образом, частотность является важным параметром в системе параметризации слова; она могла бы составить особый параметр в его лексикографическом описании, например, в виде специальных помет при словарной статье. По-видимому, такое описание является частью дискурсивного представления содержания слова, о котором мы намерены сказать далее. Специфический способ «пробиться» к концептуальным смыслам слова представлен в нашем лексикографическом проекте «Викилек-сия». Этот способ экспериментальный, он характеризуется обращением к метаязыковому сознанию носителей языка, которые в словарной статье сами формируют словник словаря и фиксируют своё субъективное отношение к слову. Единица словника обозначена нами как «слова, вызывающее у Вас эмоции и мысли» (сокр. СВЭМ). Таким образом, носители языка выступают в проекте одновременно как субъекты и объекты лексикографирования. Для реализации проекта его участниками предлагалась схема со следующими параметрами: характеристика употребительности слова (кем, где, когда, сколько, как и в каких ситуациях употребляется данное слово); оценочные характеристики, связанные со словом, например: негативно оценивающее слово (бранное, презрительное, обидное, грубое, ироническое, саркастическое), позитивно оценивающее (нежное, шутливое, одобрительное), нейтральное, контекстная характеристика слова (примеры типовых контекстов; личная оценка слова (нравится / не нравится, нужное / ненужное и т.п.), история личных взаимоотношений информанта со словом, происхождение слова (по мнению информанта), персональные данные об информанте (факультативные сведения). Лексикографирование как метод описания лексики 17 Подробнее проект представлен в статье «“Викилексия” - народный интернет-словарь» [35]. Примеры словарных статей «Викилексия», созданных информантами на основе вопросов анкеты1: КИРПИЧ 1.1. Сленговое название устройства, утратившего работоспособность и не подлежащего восстановлению в домашних условиях. Чаще всего кирпичи получаются в результате неудачной прошивки или же в результате случайного программного сбоя. Вернуть устройство к жизни могут только в сервисном центре. 1.3. Негативно оценивающее слово (обидное), личное отношение (нравится, ненужное). 2.2. После неправильной прошивки телефона данный девайс превратился в кирпич. 2.4. Когда я начал всерьез заниматься программированием, мне необходимо было выучить жаргонизмы, и одним из таких слов оказалось кирпич. 3.1. Пряженников Илья Витальевич. 45 лет. БАТОШКА 1.1. Батошка - это слово, обозначающее что-то чрезвычайно маленькое и милое. 1.2. Можно употребить для человека, а также для животного. Как правило, это звучит смешно и мило. 1.3. Данное слово может понравиться многим, так как звучит довольно нежно и шутливо. 1.4. Пример употребления слова: «какой же ты хорошенький, батошка». 1.5. Произносить его нужно с ласковой интонацией либо с интонацией умиления к человеку или животному. Также этим словом можно просто назвать своего питомца, потому что оно звучит очень мило и просто запоминается. 3.1. Слово произошло совершенно случайно. Назвав так человека, это слово запомнилось и вошло в лексику. 4.1. Бадрышева Юлия 18 лет. 1 Не использованные информантом рубрики анкеты пропущены нами. Н.Д. Голев 18 4. Усиление линии антропоцентрического лексикографирования. Тенденция к отражению концептного содержания в толковых словарях Продолжаем иллюстрирование линии параметризации лексикографического описания семантики слова. Остановимся на отмеченной нами тенденции к фиксации антропоцентрических компонентов содержания слова. В упомянутой выше статье о лингвокультурологических пометах [6] О.И. Блинова заметила, что пометы в словарной статье не являются сугубо техническим моментом лексикографического описания содержания слова как его вспомогательные элементы; они принципиально важны для понимания внутренних (собственно языковых) аспектов содержания слова, в связи с чем автор актуализирует и необходимость специального отражения в словарях лингвокультурного параметра (ЛКП) семантики слова (ср.: «роль ЛКП в лексикографической области ещё предстоит выявить и изучить» [6. С. 126]). Далее Ольга Иосифовна утверждает, что лексикографические пометы «отражают миры человека, животных, растений, пространства и т.д. За счет ЛКП определяются, оживают принципы номинации слов, высвечивается мотивировочный признак, выявляются пристрастия человека, номинирующие предметы, его окружающие, при выборе номинационного признака» [6. С. 126]. Нетрудно заметить стремление ученого приблизить лексическое значение к антропоцентрическим параметрам смысла. Полагаем, что эта тенденция носит глобальный для лексикографии характер. Ее проявления сейчас многочисленны. Так, последовательно и достаточно полно лингвокультурный параметр содержания слова отражен в словарях Ю.С. Степанова «Константы: Словарь русской культуры» [36], Е.С. Отина «Словарь коннотативных собственных имен» [37]; имеются и другие опыты лексикографирования в этом направлении, см. например: «Словарь концептов русской культуры для младших школьников» [38], «Когнитивно-дискурсивный словарь в коммуникативной перспективе» [39] (последний отражает «комплекс представлений о концептосфере человека в семантическом поле языка и позволяет объединить уровни словаря и текста» [39. С. 546]). Линию параметризации, отражающую тенденцию лексикографии к дистанцированию от понятийно-логического ядра содержания слова, особым образом иллюстрирует словарь дискурсивного типа [40], Лексикографирование как метод описания лексики 19 призванный фиксировать употребление диалектного слова в различных функциональных сферах и разных типах дискурса. Такое полидискурсивное функционирование трактуется как предпосылка семантического развития диалектного слова. Для осуществления представленной цели предлагается словарная статья, построенная по схеме. Она предполагает отражение следующих типов дискурса, в которых фиксируется данное слово по данным интернета: 1) лексикографический; 2) научный: лингвистический, нелингвистический (этнографический, фольклористический, фенологический и т.п.); 3) профессиональный дискурс с возможной конкретизацией, например терминологический (сельскохозяйственный, кулинарный, ремесленный, медицинский); 4) обыденный (повседневный, бытовой); 5) публицистический; 6) художественный; 7) рекламный. Подобным образом, по нашему мнению, содержание слова моделируется как функционально-речевое (дискурсивное) содержание, а семантика как «сгусток смысла», дискретно выделенный из непрерывного семантического поля и зафиксированный дефиницией в словарной статье, может и должен трактоваться как производная от такого коммуникативного функционирования единица. Указанная схема показывает, как это разнообразное дискурсивное функционирование воздействует на вариативность употреблений и далее - на формирование лексико-сематических вариантов данного слова. 5. Мотивационный параметр описания лексики. Особенности «Мотивационного словаря сибирского говора» О.И. Блиновой Рассмотрим далее параметрическое представление «Мотивационного словаря сибирского говора» [41, 42] - одного из наиболее значимых результатов лексикографической деятельности О.И. Блиновой. Его цель во введении Блинова определяет следующим образом: «представить явление мотивации слов сквозь призму мотивационных парадигм с их компонентами, проиллюстрировав их употребление в текстах и метатекстах, отражающих естественную речь носителей вершининского говора второй половины XX в.» [41. С. 6]. Подробнее содержание и структура словаря представлены в статье О.И. Блиновой «Концепция мотивационого словаря сибирского говора» [43]. Проиллюстрируем словарную статью словаря двумя примерами. Н.Д. Голев 20 ПЕСНЯ ж. Словесно-музыкальное произведение для пения; то что поют1. ЛМ: петь и - запеть, запевать, перепеть, спеть. СМ: басня ‘краткое иносказательное стихотворение’. - Едем туда [на поля], песни поём, едем оттуда - опеть песни. // Песни запоём - боже спаси! Нас как-то в каталажку посадили за песни. А её одноё заставили песни петь. Старинну песню. Вот она пела «Из-под камня, камня серого». Одну песню спела. // Песни да басни всё пишут и пишут, не перестают [42. С. 35]. РЯБИНА, ж. Дерево с пёстрой («рябой») окраской осенних листьев. ЛМ: рябой (рябый). СМ: калина ‘дерево’. - Рябина, может быть, [называется] от листа: лист рябый. // Рябина? Кто его знает [почему так называют]. Вроде от листа, что рябый. // Деревья у нас растут: боярка, рябина, калина. берёза [42. С. 137]. С точки зрения параметризации способ представления содержания слова в мотивационном словаре достаточно специфический. он дистанцирован от толкования (имеем в виду способ, представленный в толковых словарях), толкование в нем выполняет вспомогательную функцию, в некотором смысле это продолжение заглавного слова словарной статьи. Слово в «Мотивационном словаре сибирского говора» предстает сквозь призму его мотивационных отношений, но не в их статическом образе, как в словообразовательных и морфемных словарях, а как текстовое слово в его живых текстовых связях, ярко проявляющихся в приведенных контекстах-иллюстрациях. О.И. Блинова называет такой тип связи актуализацией мотивационных отношений в тексте. Словарь ярко демонстрирует то обстоятельство, что они разнообразны по своей функции, генезису и структуре. Используем для иллюстрации их разнообразия известную в семиотике оппозицию синтактики, прагматики и семантики. Некоторые из мотивационных отношений носят синтаксический и синтагматический характер (Кто ходит за роженицами - баба бабит; лен... из него делают масло льняное; масло масленное; мужа-то агроном звали. И Матрена 1 Ещё один (в данном случае непроизвольный) пример оппозиции понятийнологического (дефиниционного) и обиходного способов фиксации содержания слова. Лексикографирование как метод описания лексики 21 агрономова), они выполняют (или отражают) синхронную синтаксическую роль мотивационных отношений в организации связей слов в предложении или словосочетании, другие участвуют в реализации прагма-стилистических аспектов текста (баба, бабуля, тебя кто так измял?; - А чем пряли? - Верётнами. Веретёшко тако выточено и прядешь и вертишь. Одною рукой поддерживашь, а другою вер- і\\ тишь ); третьи имеют семантический характер, что оказывается возможным при сильном участии метаязыковой рефлексии, направленной на уточнение см
Ключевые слова
О.И. Блинова,
лексикографирование,
дискретизация семантики,
параметризация лексики,
дефиниция,
толковый словарь,
мотивационный словарьАвторы
| Голев Николай Данилович | Кемеровский государственный университет | д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы | ngolevd@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
Блинова О.И. Лексикографический метод исследования языка // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС-3-97) : тез. докл. 3-й междунар. науч.-практ. конф. Томск, 1997. С. 148-149.
Блинова О.И. Лексикографическое исследование духовной и материальной культуры этноса // Этносы Сибири: язык и культура : материалы Междунар. конф. Томск, 1997. С. 68-71.
Блинова О.И. Теория → словарь → теория → словарь // Вопросы лексикографии. 2012. № 1. С. 6-26.
Блинова О.И. Лексикографический способ сохранения народной речевой культуры // Сравнительно-историческое и типологическое изучение языков и культур. Преподавание национальных языков : XXII Дульзоновские чтения. Томск, 2000. С. 8-10.
Блинова О.И. Лексикографический метод и сферы его использования в диалектологических исследованиях // Язык и культура в Евразийском пространстве : сб. ст. XVI Междунар. науч. конф. Томск, 2О0З. С. 110-117.
Блинова О.И. Размышления о лингвокультурологических пометах в словаре // Вопросы лексикографии. 2014. № 2 (6). С. 122-129.
Шароглазова Ю.В. Лексикографический метод при описании одного аспекта идиостиля В.П. Астафьева // Язык и социальная динамика. 2014. № 14. С. 227-235.
Гутовская М.С. Контрастивно-лексикографический метод установления составов фразеосемантических полей в сопоставительных лингвокогнитивных исследованиях // Веснік БДУ. Серыя 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2013. № 2. С. 34-41.
Голев Н.Д. О словарях народных этимологий и мотивационных ассоциаций как отражении онтологических свойств лексических единиц русского языка // Вопросы лексикографии. 2015. № 2. С. 38-64.
Зайцева Ю.В. Лексикографическое исследование как метод описания структуры концепта (концепт «teufel») // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 1-2. С. 363-368.
Гавар М.Э. Лексикографический метод и его применение в исследовании диалектной синонимии // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 11-17.
Иванова Е.Н. Проблемы описания языковой личности в вузовской практике: лексикографический подход // Филологический класс. 2013. № 2 (32). С. 23-25.
Польгер А. Лексикографический подход к изучению полисемических отношений // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22, № 4. С. 788-820.
Топка В.В. Лексикографическое решение двухкритериальной задачи планирования проекта при ограничении на показатель его надежности // Известия Российской академии наук. Теория и системы управления. 2014. № 6. С. 105-123.
Абаев В.И. Язык как идеология и язык как техника // Абаев В.И. Статьи по теории и истории языкознания. М. : Наука, 2006. 150 с.
Новые версии лексикографической интерпретации языковой реальности : материалы Всерос. науч. конф. «Язык. Система. Личность: Современная языковая ситуация и ее лексикографическое представление», 15-17 апреля 2010 г. / отв. ред. Т.А. Гридина. Екатеринбург, 2010.
Голев Н.Д. Источниковый потенциал обратного машинного перевода // Вестник Кыргызско-российского славянского университета. 2018. Т. 18, № 1. С. 36-44.
Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. М. : Просвещение, 1973. 304 с.
Блинова О.И., Гавар М.Э. Синонимия сибирского говора сквозь призму комплексной лексикографической параметризации // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 1 (27). С. 5-15.
Мотивационный словарь сибирского говора / авт.-сост. О.И. Блинова, С.В. Сыпченко ; под ред. О.И. Блиновой. Т. 1. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. 372 с.
Мотивационный словарь сибирского говора / авт.-сост. О.И. Блинова, С.В. Сыпченко ; под ред. О.И. Блиновой. Т. 2. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. 310 с.
Ветров А. А. Расчлененность формы как основное свойство понятия // Вопросы философии. 1958. № 1. С. 39-46.
Кацнельсон С.Д. Типология языка и речевое мышление. Л. : Наука, 1973. 213 с.
Словарь русских старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби. Т. 3 / под ред. В.В. Палагиной. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1967. 250 с.
Толковый словарь русского языка / под ред. Д.Н. Ушакова. М. : Гос. ин-т «Сов. энцикл.» ; ОГИЗ ; Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1935-1940. Т 1-4.
Голев Н.Д. Об описании значения слов-денотативов // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования. Новосибирск : Изд-во НГУ, 1973. С. 26-34.
Голев Н.Д. Юридизация естественного языка как юрислингвистическая проблема // Юрислингвистика. 2000. № 2. С. 9-46.
Голев Н.Д. Юрислингвистический словарь инвективной лексики русского языка (к постановке проблемы) // Актуальные проблемы русистики : материалы Междунар. науч. конф. / отв. ред. Т.А. Демешкина. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2003. Вып. 2, ч. 1. С. 92-98.
Блинова О.И. Приём психолингвистического эксперимента в исследовании лексической семантики // Функциональная семантика языка, семиотика знаковых систем и методы их изучения : международная конференция : тезисы докладов : в 2 ч. / редколлегия: Л.А. Новиков (отв. ред.), Л.Г. Зубкова, В.Н. Денисенко, М.А. Рыбаков (отв. секр.). М., 1997. С. 46-47.
Морозова О.Е. Об эксперименте в лексикографии (на материале словаря народно-разговорной речи) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 6-2. С. 443-446.
Федяева Н.Д. Значение слова нормальный: лексикография и эксперимент // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2008. № 4. С. 112-115.
Голев Н.Д. Экспериментальные исследования русской лексики в рамках одного лингвистического направления: опыт обобщения и методологической рефлексии постфактум. Статья 1 // Вестник Кемеровского государственного университета. 2016. № 3. С. 70-78.
Голев Н. Д. Экспериментальные исследования русской лексики в рамках одного лингвистического направления: опыт обобщения и методологической рефлексии постфактум. Статья 2 // Вестник Кемеровского государственного университета. 2017. № 1. С. 60-79.
Голев Н. Д. О новых источниках квантитативного речевого материала и их семасиологических возможностях (постановка проблем) // Изменяющаяся Россия: новые парадигмы и новые решения в лингвистике : материалы I Междунар. конф. (Кемерово, 29-31 августа 2006 г.) : в 4 ч. Ч. 4. Кемерово : Юнити, 2006. С. 9-15.
Голев Н.Д. «Викилексия» - народный интернет-словарь: инновационный лексикографический проект // Вопросы лексикографии. 2014. № 2 (6). С. 31-68.
Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М. : Академический Проект, 2004. 982 с.
Отин Е. С. Словарь коннотативных собственных имен. Москва ; Донецк : А Темп, 2006. 440 с.
Словарь концептов русской культуры для младших школьников / Л.А. Шнайдерман [и др.]. Стерлитамак : Сергеев, 2010. 163 с.
Убийко В.И., Батталова А.Р. Когнитивно-дискурсивный словарь в коммуникативной перспективе // Когнитивные исследования языка. 2012. № 11. С. 546-548.
Голев Н.Д. Дискурсивный словарь диалектной лексики новейшего времени (на материалах Рунета): инновационный лексикографический проект // Вопросы лексикографии. 2019. № 16. С. 113-137.
Мотивационный словарь сибирского говора : в 2 т. / авт.-сост. О.И. Блинова, С.В. Сыпченко ; под ред. О.И. Блиновой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2009. Т. 1: А-О. 372 с.
Мотивационный словарь сибирского говора : в 2 т. / авт.-сост. О.И. Блинова, С.В. Сыпченко ; под ред. О.И. Блиновой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2010. Т. 2: П-Я. 310 с.
Блинова О.И. Концепция мотивационного словаря сибирского говора // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2009. № 1 (5). С. 5-12.
Богачева Г.Ф., Морковкин В.В. О всеохватном лексикографическом представлении лексического ядра русского языка // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2011. № 3. С. 6-12.
Социально-когнитивное функционирование языка / гл. ред. Н.Д. Голев ; отв. ред. Е.В. Кишина. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2017. 216 с.
Голев Н.Д. Исследование обыденного метаязыкового сознания - новое направление когнитивной лингвистики // Филологические науки. 2018. № 2. С. 27-32.
Словарь обыденных толкований русских слов. Лексика природы : в 2 т. Т. 1: А-М. (АБРИКОС - МУРАВЕЙ). (478 слов-стимулов) / под ред. Н.Д. Голева. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. 536 с.
Голев Н.Д. Словарь обыденных толкований слов: концепция и опыт реализации // Вопросы лексикографии. 2013. № 2 (4). С. 48-64.
Голев Н.Д., Ким Л.Г., Стеванович С.В. Разноязычный словарь как отражение славянского ментально-языкового единства и межкультурных различий // Русин. 2015. № 3 (41). С. 39-54.
Словарь обыденных толкований политических терминов: лексикографический опыт: 50 слов-стимулов: [16+] / авт.-сост. Е.С. Беляева, М.Е. Воробьева, Н.Д. Голев, А.О. Закирова и др. Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2019. 142 с.
Кишина Е.В. Словарь обыденных толкований политических терминов: теоретическая концепция и лексикографическая реализация // Динамика языковых и культурных процессов в современной России. 2016. № 5. С. 270-275.
Блинова О.И. Диалектный словарь синонимов в зеркале лексикографической параметризации // Вопросы лексикографии. 2015. № 2 (8). С. 27-37.
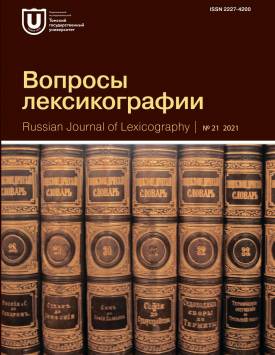

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью