Лингвокультурологический комментарий в полилингвальных словарях пословиц
Рассматривается содержание культурологически ориентированного комментария пословиц в полилингвальной паремиографии. Обосновывается специфика лингвокультурологического комментария как инструмента сопоставительного описания пословиц в словаре. На материале русских пословиц «о дураке» и их аналогов в отдельных славянских, балтийских, финно-угорских и тюркских языках показываются возможности лингвокультурологического комментария в выявлении и словарной репрезентации национальной специфики языковой и фоновой пословичной семантики. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Linguoculturological commentary in polylingual dictionaries of proverbs.pdf Лингвокультурологический комментарий как компонент словарного описания паремиологических единиц (пословиц) не имеет ни своего общепринятого понимания (назначения и содержания), ни устоявшихся правил применения (места и объёма в словарной статье) в современной отечественной и зарубежной паремиографии. Актуальным в этой связи является как разработка принципов и приёмов, так и выяснение значимости и направления лингвокультурологического комментария в паремиологических словарях различных типов. Цель настоящей статьи - рассмотреть возможности лингвокультурологического комментария как значимого компонента сопоставительного описания пословиц в полилингвальных паремиологических словарях. Методологической основой исследования являются отражённые в новейших публикациях положения теории пословиц как элементов языка [1-4] и как разновидности афористических единиц [5-7], теории пословичных образов, доминантных концептов и их номинаций [8, 9], лингвокультурологической теории пословиц [10, 11], теории 7 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research национальной специфичности/общности с другими языками [12-14] и её репрезентации в сопоставительной паремиографии [15, 16]. Также учитывались принципы и содержание культурологически ориентированного комментария пословиц в словарях различных типов [17-50]. Фактическим материалом для исследования послужили четыре пословицы «о дураке» в русском языке (Дураков работа любит; Дураков не сеют и не жнут, они сами родятся; Дурака и в алтаре бьют; Заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьёт) и их эквиваленты и соответствия в белорусском, польском, русинском, сербском, латгальском, латышском, литовском, финском, турецком языках. Следует отметить, что пословицы «о дураке» входят в состав паремиологи-ческого минимума и основного паремиологического фонда русского языка, что свидетельствует о высокой степени социокультурной актуальности этих пословиц в синхронии и диахронии [51. Р. 28-38, 85139]. Вместе с тем сам по себе выбор как данной группы пословиц, так и языков сопоставления является случайным, что существенно повышает репрезентативность исследования, делает его результаты заведомо объективными, поскольку в таком случае они могут быть распространены на любые группы пословицы любых языков. Глупость сама по себе, как известно, носит общечеловеческий характер, поэтому фоновая семантика пословиц «о дураках» вполне понятна как в родном, так и в чужих языках. Универсальность глупости и пословиц «о дураках» подчёркивается ещё и тем, что в них почти нет ярко этнически маркированных компонентов. Однако при сопоставительном анализе таких пословиц выявляются семантические нюансы, различия в образности, несовпадения в предметно-понятийном содержании, аксиологической окрашенности. Это делает значимым лингвокультурологический комментарий, который не только демонстрирует и истолковывает национально-культурную специфику пословиц, но и позволяет её установить, выявить тонкие межкультурные различия, недоступные без специального анализа, отражённого в культурологически ориентированном комментировании отдельных элементов плана содержания пословицы (и языковых средств их выражения) в проекции на другие культуры и языки. Так, широкоизвестная русская пословица Дураков работа любит и её вариант Дурака работа хвалит [20. C. 316, 314] обычно говорятся в ситуациях, когда кто-то проявляет излишнее неуместное усердие, делает ненужную или лишнюю работу. В пословице использован 8 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий приём олицетворения: работа, которая нуждается в существовании дурака, его любит и хвалит. Пословица говорится с неодобрением, поскольку её базовое значение сводится к тому, что ‘отсутствие продумывания, планирования, расчёта и организации ведёт к выполнению лишней бесполезной работы’. Здесь содержательно пословица пересекается с другой русской пословицей Дурная голова ногам покою не даёт [20. C. 188], полные смысловые аналоги которой имеются в разных языках мира (ср., например, русин. Дурна голова ногам покўв не дае или тур. Akilsiz ba§m zahmetini ayak geker - букв. «Голова без ума доставляет хлопоты ногам». У рассматриваемой пословицы есть и второе значение, согласно которому ‘много работают только не слишком умные люди, действительно умный человек избегает работы’. С таким значением пословица употребляется в ситуациях, когда кто-либо оправдывает своё праздное времяпрепровождение. Пословицу обычно используют люди хитрые и ленивые, не желающие выполнять какую-то работу, считающие себя умными, чтобы не утруждаться лишний раз, хотя работа может быть совсем нелишней. В русской лингвокультуре содержание понятия дурак оценивается довольно неоднозначно. Помимо общеизвестного значения этого слова ‘глупый человек, тупица, тупой, непонятливый, безрассудный’ имеются и другие смысловые оттенки. Так, в русском фольклоре образ дурака вызывает народную симпатию. Говоря о таком синониме слова дурак, как глупый, Н.М. Черкасова отмечает, что «глупый всегда дурак (не отличающийся большим умом), а дурак не всегда глупый, т.е. семантическое поле дурак гораздо шире и многослойнее» [52. C. 105]. Показательно, что в документах Древней Руси с 1495 г. фиксируется имя собственное Дуракъ, которое не было оскорбительным в своё время и от которого произошли такие фамилии, как Дуров, Дурново и пр. [52. C. 102]. В русской книжной традиции слово дуракъ впервые встречается в произведениях протопопа Аввакума. Уже в то время значение данного слова было бранным: «И я паки свѣту Богородицѣ докучать: “Владычице! уйми дурака того”»! [53. C. 10]; «Такъ они сѣли; я отшелъ ко дверямъ да на бокъ повалился: “посидите вы, а я полежу” - говорю имъ. Такъ они смѣются: “дуракъ де протопопъ и патріарховъ не почитаетъ”» [53. C. 20]. В пословице Дураков работа любит (или Дурака работа хвалит) слово дурак реализуется в значении ‘глупый, неумный’, т.е. главной характеристикой пословичного «дурака» является отсутствие ума. 9 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research В русинском языке семантическим аналогом русской паремии является пословица Робота любить дужого и дурного (букв. «Работа любит сильного и глупого»). Здесь русскому дурак соответствует русинское дурный, что означает ‘глупый’, хотя в русинском языке употребляются также синонимы дурак и дурош. Как видим, в русинском пословичном аналоге добавляется существенный нюанс - работа любит не только глупого, но и сильного, что позволяет говорить о его содержательной близости ещё одной русской пословице - Сила есть - ума не надо [42. C. 221]. Таким образом, значение русинской пословицы «о дураке» состоит в том, что ‘глупец, у которого достаточно сил, может выполнять много лишней работы’, а её фоновая семантика основана на устойчивой взаимосвязи в народном сознании русинов физической силы человека и его качеств как хорошего работника (т. е. содержание пословицы имеет не только отрицательную, но и ярко выраженную положительную коннотацию). Белорусский аналог пословицы сходен с русским вариантом по образности и семантике: Работа дурняў (дурня, дурных) любіць [39. С. 451]. Однако есть расхождение в ситуации употребления. Эту пословицу белорусы, как и русские, говорят тому, чьё старание не одобряют. Однако в белорусском языке есть также синонимичная пословица Работы век (ніколі) не пераробіш [39. С. 453]. Обе эти пословицы говорятся в ситуации, когда необходимо сделать перерыв в работе, тем самым образ пословичного «дурака» в белорусской народной культуре связывается не столько с глупостью, сколько с непрактичностью, наивностью (белорусский дурны - этот тот, кто работает тогда, когда можно отдохнуть), а пословичный аналог приобретает специфичный смысловой оттенок ‘не следует работать в неурочное время’. Польская пословица Glupiego robota lubi (букв. «Глупца работа любит») [50. S. 551] является полным семантическим эквивалентом русской пословицы. При этом в польском языке параллельно с пословицей функционирует фразеологизм glupiego robota или robota glupiego (букв. «работа глупца») со значением ‘работа, не приносящая результатов; бесцельная, бессмысленная работа’, синонимичный широко известному интернациональному обороту syzyfowа pracа (Сизифов труд). Пословица Glupiego robota lubi означает, что ‘любую работу надо делать планомерно и с умом’. Показательный пример современного употребления этой пословицы даёт Агнешка Машевска (Agnieszka Maszewska) в своём интернет-блоге «Улица прозы» [54]. 10 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий В коротком эссе «О том, что генетика - это сила» она вспоминает свою бабушку, которая постоянно говорила: «Всей работы не переделаешь» и «Глупого работа любит». При этом бабушка всегда была занята какими-то делами по дому или в огороде и никогда не отдыхала так, чтобы ничего не делать. Агнешка Машевская пишет: «У меня выдалось два с половиной свободных дня, впервые за долгое время, и не знаю, что с собой делать. Я не могу ничего не делать. Спасибо, бабушка». Сочетание пословиц Всей работы не переделаешь и Дурака работа любит создаёт фразеологически насыщенный контекст, который наводит на мысль о том, что работы всегда много, но её делать надо и выполнять максимально хорошо. В латгальском языке также имеется полный аналог русской пословицы о дураке и работе Dorbs duraku miloj (букв. «Работа дурака любит»). Латгальская пословица относится к числу заимствованных из русского языка с использованием лексического русизма duraks. Лат-галия находилась в составе Российской империи с 1772 по 1917 г. В Латгалии в начале XX в. заимствованные из русского языка слова duraks и burlaks считались оскорблением, унижающим достоинство человека. Согласно Уголовному уложению 1903 г., использование подобных слов считалось «оскорбительным поведением». Тем не менее в Латгалии в начале XX в. duraks широко использовалось и в быту, и в публичной сфере [55. L. 188]. Наряду с ним использовалось латгальское mulkis с тем же значением. Как и ранее в Древней Руси, где в конце XV в. существовало имя собственное Дуракъ, в Латгалии в 1738 г. была впервые зафиксирована фамилия Mules (от mulkis ‘дурак’). Эта фамилия была особенно распространена среди населения деревень Lieli Mulki (букв. «Большие Дураки») и Mazie Mulki (букв. «Малые Дураки») Краславского края, современные жители которых посчитали это обидным и ещё в 1980-х гг. высказывали идею о переименовании их населённых пунктов [55. L. 188]. Хотя латгальская пословица о работе и дураке по сей день остаётся употребительной, в современном латгальско-латышском словаре слово duraks отсутствует, но включены производные от него duraceiba (‘глупость’) и duracens (‘дурачок’) [46. L. 60]. Подобно русскому дурачок, само слово duracens (mulkeits, glupeits, sprostais) является весьма значимым для латгальской культуры, в особенности для фольклора. Часто duracens - это образ младшего сына в народных сказках, чьё поведение не соответствует стандартам, которые демонстрируют старшие 11 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research братья. При этом действия дурачка в латгальских сказках запрограммированы на успех, так как ему не свойственна корысть и он не замечает общепринятых преград [20. С. 187], что является весьма близким образу русского сказочного дурака. В латышских паремиологических сборниках полных смысловых аналогов русской пословице Дурака работа любит нет, хотя в интернет-коммуникации иногда можно встретить фразу Mulki darbs mil (букв. «Дурака работа любит»), что, по-видимому, является калькой русской пословицы (с аналогичным лексическим составом и грамматической организацией). Неполным семантическим эквивалентом можно считать латышскую пословицу Gudrais stav, mulkis strada (букв. «Умный стоит, дурак работает») [56], которая имеет общий смысловой компонент с русской пословицей ‘дурак работает, не думая’. Дурак здесь противопоставляется умному, которому не нужно много или вообще работать, потому что он прежде обдумает, как добиться своего без затрат времени и труда. Также в латышском языке есть пословица с олицетворением работы, которая имеет иное, чем в русском языке, содержание: Mili darbu, darbs tevi miles! (букв. «Люби работу, работа тебя полюбит!») [47. L. 233]. В литовском языке существует несколько аналогов русской пословице о дураке и работе: Darbas durnіц myli (букв. «Работа дурака любит»); Durnius darbq, darbas durnіц, ir abu kovoja (букв. «Дурак -работу, работа - дурака, и оба бьются»); Kvailys myli darbq, darbas -kvailj (букв. «Дурак любит работу, работа - дурака») [57]. Семантически литовские пословичные аналоги, в которых работа также олицетворяется, в двух случаях существенно расширены: в одном не только работа любит дурака, но и дурак любит работу, а во втором они ещё и противодействуют друг другу (т.е. из обоюдной любви дурака и работы ничего не выходит). Особенностью литовских пословиц о дураке и работе является использование двух синонимов для обозначения глупца - durnius, которое является восточнославянским заимствованием (бел. дуранъ, рус. дурень), и kvailys, которое имеет собственно литовское происхождение. Свойственный современным молодым литовцам языковой пуризм обусловливает вытеснение заимствованного durnius из литовского языка. Однако пословицы с durnius остаются широко употребительными и в настоящее время, что хорошо видно на примере интернет-дискурса. Так, в статье «Kaip darbas durni^ mylejo, o durnius meiles issizadejo» («Когда работа дурака любит, а дурак от 12 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий любви отказывается»), опубликованной в блоге Ремигиуса Венцкуса (Remigijus Venckus), отмечается, что пословица Darbas durniq myli сегодня остаётся такой же актуальной, как и пословица Kas veza, tam ir krauna (букв. «Кто везёт, тому и груз»), также широко распространённая в литовском и имеющая аналоги в разных славянских языках (например, рус. Кто везёт, на того и накладывают; Кто везёт, того и погоняют; бел. Хто цягне, на таго і навальваюць; укр. Хто тягне, того ще й б’ють; Хто тягне, того ще й поганяють; русин. Бють того вола, што тягне - букв. «Бьют того вола, который тянет»). Автор блога утверждает, что пословицы «о дураке и работе» и «о том, кто везёт» дополняют друг друга и их можно понимать одинаково [58]. В другой интернет-статье, озаглавленной “Dumius - darb^, darbas -durni^” («Дурак - работу, работа - дурака») и посвящённой современному литовскому рынку труда, психологическим проблемам занятости и работы в условиях кризиса и безработицы, также упоминаются литовские пословицы о работе. Автор статьи задаётся вопросом: «Если идеальной работы не существует, может быть, разумнее любить ту, которая у вас есть?» - и отмечает, что пословица Durnius - darbq, darbas - durniq предупреждает о необходимости хорошо осознавать свой выбор. По его мнению, при поиске профессионалов для текущей работы, или начиная с нуля, или при изменении направления всегда следует спрашивать себя, насколько то или иное решение соответствует личным ценностям, насколько оно близко душе, сколько энергии, силы духа и материальных ресурсов можно посвятить для его реализации [59]. Именно проблема выбора работы, проблема правильного решения приступить к той или иной работе, проблема остаться довольным своей работой и т.п. детерминирует национально-культурную специфику пословицы «о дураке и работе» в литовском языке. Финский аналог русской пословицы «о дураке и работе» лишён олицетворения работы, представляет прямую констатацию факта: Hullu paljon tyota tekee, viisas paasee vahammalla (букв. «Дурак много работы делает, умный отделывается малым») [40. C. 40]. Семантика финской пословицы близка русской в одном из значений - ‘шутливо или пренебрежительно в адрес того, чьё излишнее усердие не одобряют’, а также в своей второй части отражает национальное своеобразие противопоставления дурака умному в их отношении к работе: умный человек много думает, а мало делает, дурак думать не умеет, поэтому 13 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research работает много. Таким образом, финская пословица близка латышской, в которой дурак также противопоставляется умному. Ещё одна русская пословица Дураков не сеют и не жнут, они сами родятся [20. C. 316] впервые упоминается в широко известном памятнике русской литературы XIII в. «Моление Даниила Заточника», в котором автор обращается к переяславско-суздальскому князю Ярославу Всеволодовичу: «Не сей бо на бразнах жита, ни мудрости на сердци безумных. Безумных бо ни сеють, ни орють, ни в житницю собирают, но сами ся родят» [60. C. 166]. Использование компонента безумные объясняется тем, что слово дуракъ ещё не употреблялось. Как видим, смысл пословицы остался неизменным за последние восемьсот лет - ‘глупые родятся глупыми и останутся таковыми, не стоит тратить время на их вразумление’. То же значение у аналогов русинского Дурных не сівутъ, они самі сходятъ (букв. «Дураков не сеют, они сами всходят») и белорусского Дурняў не аруцъ, не сеюцъ, яны самі родзяцца (вырастаюцъ). Однако в белорусском языке пословица имеет национальную специфику в ситуации употребления - ‘говорится обычно в качестве оценки чьей-либо грубой ошибки, неуместного поступка и т.п.’ [39. С. 189], поскольку на семантику доминантного пословичного компонента дуранъ оказывает влияние одно из значений синонимичного ему бел. дурны - ‘наивный, недостаточно опытный (в чём-либо), недогадливый’. В польском языке есть аналогичная русской пословица Glupich nie orzq, nie siejq, sami siq rodzq (букв. «Глупцов не пашут, не сеют, сами родятся”) [45. S. 144], в которой, как и в белорусской пословице, сохранилось древнее славянское оратъ - ‘пахать’ (польск. orzq, бел. аруцъ - ‘пашут’) [32. С. 122]. Реалистичное и крайне негативное отношение к дураку в польской традиционной картине мира выражается в весьма близкой по смыслу и не менее популярной пословице Glupich siac nie trzeba, bo ich pelno wszqdzie (букв. «Глупцов сеять не надо, потому что их полно везде») [45. S. 144]. Сербский аналог русской пословицы Будале се не сеjу, оне саме ничу (букв. «Дураков не сеют, они сами прорастают») имеет формальный вариант Будалу не треба тражити, сама се jави (букв. «Дурака не надо искать, сам явится»). Фоновая семантика сербской пословицы основана на представлениях не о глупости, а о безумии, что детерминировано значением заимствованного из турецкого будала, которое толкуется в нормативном словаре сербского языка как луд 14 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий човек, лудак, луда, причём первыми значениями слов луд, лудак и луда являются ‘сумасшедший, умалишённый, безумный, полоумный’, что находит отражение и в фразеологизмах, например бити луд за нечим за неким (‘сходить с ума по чему-либо, кому-либо’) или луда среѣа (‘безумное, бешеное счастье’) [61. С. 295]. В латгальском языке пословичный аналог Durakus ni sej, ni plaun -ji posi aug (букв. «Дураков не сеют, не жнут, они сами растут») [48. L. 17] является результатом приграничного культурного трансфера. Это полная калька русской пословицы, о чём свидетельствует грамматическая организация и лексический состав, включая русизм duraks. Помимо русизма duraks, в пословице используется латгальское mulkis, которое представлено в её формальном варианте Mulkus ni sej, ni plaun - ji posi aug [48. L. 52]. Латышскому языку также известна аналогичная пословица Mulkus nekas ne sej, ne ecej, betpasi aug (букв. «Дураков никто не сеет, не боронит, а сами растут»), которая возникла на основе соответствующей русской пословицы [62. C. 139]. В латышскоязычном пространстве интернет-дискурса встречается также вариант этой пословицы с русизмом duraks (‘дурак’): Durakus ne sej, ne laista - pasi aug (букв. «Дураков не сеют, не жнут - сами растут») с добавлением ka saka latgaliesi («как говорят латгалы»), что маркирует чёткую дифференциацию в народном сознании латышей представлений о своём «латышском дураке» и о чужом «русском дураке». Литовская пословица Kvailіц nereikia nei seti, nei aketi, bet patys dygsta (букв. «Дураков не надо ни сеять, ни боронить, а сами растут») также восходит к своему русскому пословичному аналогу [62. C. 139]. Однако в литовском языке параллельно широко функционируют оригинальные синонимичные пословицы Durniaus nereik su zvake ieskoti -ir pats pasirodo (букв. «Дурака не надо искать со свечой - он сам появляется») и Neieskok kvailіц su ziburiu - rasi ir patamsy (букв. «Не ищи дураков с огнём - найдёшь и в темноте») [57], которые, несмотря на славянизм durnius и литовское kvailys, имеют общее значение ‘дураков везде много, они всегда в достатке’ и отражают национально специфический образ «дурака в темноте», основанный на народномифологических представлениях о тьме как вместилище чего-то страшного, таинственного, нечистого, неживого. Безумный, лишённый разума человек всегда считался принадлежащим миру тьмы, поэтому durnius/kvailys в литовских пословицах человек не столько глу-15 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research пый, неразумный, сколько сумасшедший, безрассудный, не считающийся с общепринятыми социальными и моральными нормами. Финская пословица Hulluja ei tarviste kyntaa eika kylvaa (букв. «Дураков не пашут, не сеют») [40. C. 41] употребляется в значении ‘глупых людей всегда и везде хватает’ и имеет схожий образ с русской пословицей («сеять дураков»), но характеризуется отсутствием содержательно значимой структурной части «дураки сами родятся», что составляет национально-специфическую часть фоновой семантики, указывает на присутствие в традиционном сознании финнов представления о «дураках от рождения», т.е. дураками не рождаются, ими становятся в тех или иных обстоятельствах по тем или иным причинам. Русская пословица Дурака (глупого) и в алтаре бьют имеет два формальных варианта Дураку и в алтаре (в олтаре) не спускают (нет спуску) и Дураков и в алтаре бьют [20. C. 17, 314-315] и основана на образе церковного алтаря. Алтарь - это святая святых христианского культа, он располагается в восточной части храма, в православных церквах алтарь отделяется от молельного зала иконостасом. В алтаре совершается таинство евхаристии. Согласно древним правилам православия, мирянам закрыт доступ в алтарь, войти туда могут только священники, алтарники и чтецы. В месте, где совершается величайшее таинство, должна царить обстановка благоговения. Религиозная значимость алтаря усиливает в пословице возмущение кощунственными действиями того, кто, вопреки запрету, проникает в алтарь, вызывая тем самым такой гнев, что праведные христиане не могут удержаться от рукоприкладства даже в таком святом месте. В аналогичной белорусской пословице Дурня і ў царкве б ’юць [39. С. 209] вместо образа алтаря используется образ церкви целиком, поскольку алтарь как место, в которое закрыт доступ, существует лишь в православных храмах. Фоновая семантика пословицы отражает исторически сложившуюся конфессиональную ситуацию в Беларуси, где органично сосуществуют православие и католицизм, а также униатство. В латгальском языке функционирует почти полная калька русской пословицы Duraku i bazneica stumda (букв. «Дурака и в церкви бьют»), в которой православный алтарь так же, как и в белорусской пословице, замещается нейтральным образом церкви. В Латгалии, как известно, сосуществуют римско-католическая, лютеранская и православная конфессии (включая старообрядцев). О русском происхождении пословицы свидетельствует русизм duraks, а также bazneica как 16 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий более раннее древнерусское заимствование в латгальском языке (др.-рус. божьница - ‘небольшая церковь, часовня’). Латышская пословица Mulki izper pat baznica (букв. «Дурака бьют даже в церкви») аналогична русской и имеет в своём составе древнерусское заимствование bazneica, что указывает на латгальский след в её происхождении. Вместе с тем в латышском языке широко употребляются синонимичные пословицы с близкой образностью: Mulkis ari baznica dabu pirienu, gudrs - ne uz tirgus (букв. «Дурак и в церкви получит взбучку/порку, а умный и на базаре - нет») [44. L. 176], Dumjs dabu pirienu pilna baznica un tuksa kroga (букв. «Глупец получает взбучку в полной церкви и в пустом кабаке»); Mulkis dabu pirienu pie baznicas, gudrs - ne pie tiesas (букв. Дурак получает взбучку/порку в церкви, а умный и в суде - нет») [47. L. 394]. Как можно видеть, в латышских пословицах противопоставляется поведение глупца и умного. Смысл такого противопоставления в том, что и в многолюдной церкви, где особенно следует соблюдать правила почтительного поведения, и даже в пустом кабаке, где пьяные драки - нередкое явление, глупец может навлечь на себя гнев присутствующих своим поведением. При этом умный ведёт себя правильно и благоразумно не только в церкви и на базаре, но и в суде, где особенно небезопасно. Общая фоновая семантика латышских пословиц отражает народное представление о дураке как не просто о глупом человеке, но и как о нарушителе общепринятых норм и правил, пренебрежительно относящимся к социальным и духовным ценностям. Литовские аналоги Durnq ir is baznycios vej, или Durniq ir baznycioje musa, или Kvailj ir baznycioj musa (букв. «Дурака и в церкви бьют») [57] имеют то же содержание, что и русская, латгальская и латышская пословицы «о дураке в алтаре / в церкви». Для обозначения дурака в них используются славянские заимствования durnas, durnius, а также собственно литовское kvailys. При этом baznycia означает ‘костёл’, поскольку подавляющее большинство литовцев -католики. Фоновая семантика литовских аналогов русской пословицы довольно ярко отражена в следующем веллеризме: Durnq ir baznycioj musa! - pasake kunigas biblija bedauzydamas klapciukui per galvq uz papiltq vynq (букв. «Дурака и в костёле бьют! - сказал ксёндз, ударив служку Библией по голове за разлитое вино») [63]. В польском аналоге русской пословицы Glupiego i w kosciole bijq (букв. «Глупца и в костёле бьют») речь идёт так же, как и в литовской 17 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research пословице, о костёле, прямо называемом в пословице (польск. koscid!) и выступающим этнолингвомаркёром, репрезентирующим национальную специфику польской культуры, в формировании и развитии которой огромную роль сыграл и продолжает играть в настоящее время католицизм. Так, согласно конкордату, заключённому между Ватиканом и Польшей и ратифицированному Сеймом в 1998 г., за польскими школами и дошкольными учреждениями закреплена возможность преподавания религии. В 2016 г. Иисус Христос был официально провозглашён королём Польши в результате церемонии интронизации, согласованной с польским правительством и при участии президента страны Анджея Дуды. Костёл в Польше - это не только культовое здание, это ещё и мощное католическое сообщество, оказывающее влияние на все сферы жизни поляков. Показательно, что аналог русской пословицы «о дураке в алтаре» существует и в немецком языке Ein Dummer kriegt in der Kirche Prugel (букв. «Глупого и в кирхе бьют») [18. C. 161], где так же, как и в польском пословичном аналоге, эксплицировано национальное наименование церкви Kirche, которое в своём оригинальном значении используется немцами в максимально широком смысле - церковь как таковая, и как сообщество, и как здание без конфессиональной дифференциации. Вместе с тем Kirche заимствовано в восточнославянские языки, в которых является германизмом (рус. кирха, бел. кірха, укр. кірха), обозначающим только лютеранское культовое сооружение. В данном случае межъязыковая омонимия при восприятии немецкой пословицы в проекции на её русский аналог может без нужного комментария способствовать возникновению эффекта «ошибочной номинации», результатом которой будет неверная интерпретация фоновой семантики немецкой пословицы как повествующей «о дураке в лютеранской кирхе» по образцу фоновой семантики польской пословицы, где речь действительно идёт «о дураке в костёле». Варьированию в межъязыковых пословичных аналогах может подвергаться и центральный лексический и предметно-смысловой компонент пословицы - дурак. Показательной в этом плане является русинская пословица, содержательно близкая русской пословице «о дураке в алтаре», в которой речь идёт вовсе не о глупом человеке: Нечесного и в церкви бють (букв. «Нечестного и в церкви бьют»). В русинском языке нечесный означает ‘нечестный, неправедный, зловредный’. Ещё один смысловой оттенок в русинском языке слова нече-18 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий сный как ‘не делающий другим вреда, смирный’ позволяет выделить его антоним чесный в устойчивом обороте Честный, коли спит (букв. «Смирный, когда спит»). Также в русинском языке честный применительно к ребёнку означает ‘послушный’. В пословице русинский нечестный, как и дурак в аналогичной русской пословице, провоцирует конфликт, делает что-то вопиюще противоречащее общепринятым нормам и правилам, демонстрирует свою непочтительность окружающим, что возмущает остальных, толкает их на решительные действия по пресечению безобразия даже в церкви. На этом основании русинскую пословицу можно рассматривать как содержательный аналог пословиц «о дураке в алтаре/церкви/костёле» в русском, белорусском, польском, латгальском, латышском, литовском и немецком языках. Ещё одна распространённая русская пословица про дурака - Заставь дурака Богу молиться - он и лоб разобьёт (расшибёт) [20. C. 314] - также имеет аналоги во многих языках в силу общности человеческого мышления и типичности ситуации, когда человек проявляет в каком-либо деле избыточное усердие, приносящее только вред. Дурак в этой пословице олицетворяет неуёмное усердие - ‘дурак всегда перестарается’. Полными аналогами являются белорусская и русинская пословицы: бел. Загадай дурню богу маліцца, дык ён i лоб разаб ’е (букв. «Заставь дурня Богу молиться, так он и лоб разобьёт») [39. С. 202]; русин. Застав дурного молитися, та чоло розобе (букв. «Заставь глупца молиться, так лоб разобьёт»). Литовские пословицы обладают той же образностью (дурак, молитва, лоб): Nuvaryk kvailj melstis, jis ir kaktq prasimus (букв. «Заставь дурака молиться, он и лоб расшибёт»); Nuejo durnius baznycion ir galvqprasidauze (букв. «Пошёл дурень в церковь и голову разбил») [57]. В польском языке употребляется как полный аналог Zmus glupca do modlitwy - czolo sobie rozbije / rozwali (букв. «Заставь глупца молиться - лоб себе расшибёт») [32. С. 122], так и аналогичная по смыслу пословица с иной образностью Poslij durnia na ryby, to on [ci] zab nalapie / zaby lapie (букв. «Пошли дурака за рыбой, так он [тебе] лягушек наловит / будет ловить лягушек») [50. S. 752]. Польский дурак может и не упоминаться в пословице, но результат его усердия налицо: Zbytnia gorliwosc, karmiqc, zqby wybija (букв. «Чрезмерное усердие при кормлении зубы выбивает») [50. S. 752, 861]. Финская пословица иллюстрирует чрезмерное усердие дурака ситуацией мытья в бане: Hullu niin kylpee, etta nahka lahtee (букв. «Дурак 19 Словари как источники исследований / Dictionaries as sources of research моется, пока кожа не сойдёт»). Фоновая специфика финской пословицы проявляется в том, что её доминантный лексический и предметносмысловой компонент hullu является многозначным, детерминируя тем или иным оттенком своего значения общий пословичный смысл. Финское hullu - это, во-первых, «сумасшедший, помешанный, умалишённый», а во-вторых, «безумец, безумный (безрассудный) человек, глупец, дурак, дурень» (ср. фин. hullu koira - ‘бешеная собака’) [40. C. 40]. Разнообразны и образы турецких пословиц с близкой семантикой: Deliye bal tattirmiqlar, garqida katran birakmamiq (букв. «Безумному сказали попробовать мёд, на базаре дёгтя не осталось»); Ig dedilerse, geqmeyi kurut demedediler ya (букв. «Сказали “пей!”», но ведь не говорили осушить весь источник»); Vur dedimse oldur demedim ya (букв. «Сказал “ударь”, но ведь не говорил “убей”») [35. С. 60, 235]. Национально-культурной спецификой турецких пословичных аналогов является характерная образность. В первой турецкой пословице используется deli - ‘безумный’, а не aptal или budala - ‘дурак’. Две другие обходятся без называния главного действующего лица - дурака, однако имеют форму диалога с глупцом, когда говорящий удивляется тому, что тот всё сделал не так, хотя ему объясняли правильно. Как видно из представленных примеров, ситуация с чрезмерным усердием вполне типична, но образы в различных языках могут быть самыми разными в зависимости от народного опыта и этнокультурной специфики. В этом случае целесообразно обращаться и к русским пословичным вариантам и синонимам (например, Дурака заставь горшки носить, а он рад разбить [20. С. 314] и т.п.), многие из которых будут содержательно коррелировать с аналогичными по смыслу и близкими по образности пословицами других языков. Таким образом, культурологически ориентированный комментарий пословиц в полилингвальной паремиографии позволяет не только дифференцировать фоновую семантику пословичных аналогов в разных языках, но и выступает в качестве инструмента для более широкого и глубокого сопоставительного описания пословиц, выявления в них неявных, национально-культурно детерминированных различий, а также обусловленных культурным трансфером или исторической близостью сходств. По результатам проведенного исследования можно сформулировать основные принципы лингвокультурологического комментария в 20 Бредис М.А., Иванов Е.Е. Лингвокультурологический комментарий многоязычном словаре: 1) пословицы как входного, так и выходного языка должны комментироваться одинаково; 2) комментарии пословиц на всех языках должны быть актуальными (это означает, что объем, структура, предметная направленность и глубина комментирования должны быть одинаковыми для каждого языка); 3) предметом комментирования должны стать наиболее значимые для межъязыкового сопоставления компоненты пословичного содержания и формы; 4) комментарии следует давать отдельно для каждой пословицы каждого языка, однако по содержанию они должны быть проецированы друг на друга. В то же время в многоязычных паремиологических словарях особое значение имеет межъязыковая лингвокультурная проекция. Безусловно, лингвокультурологический комментарий существенно увеличит объём многоязычного словаря пословиц, однако вместе с тем позволит значительно повысить его репрезентативность и познавательную ценность как в лингвистическом, так и в культурологическом плане. Перспективой исследования видится разработка структуры культурологически ориентированного комментария в полилингвальном словаре пословиц, способов коррелированного комментирования их языковой семантики и фоновой семантики, приёмов включения лингвокультурологического комментария в различные зоны словарной статьи, а также определение системы паравербальных средств его репрезентации в полилингвальной паремиографии.
Ключевые слова
пословица,
полилингвальный словарь,
языковая семантика,
фоновая семантика,
лингвокультурологический комментарийАвторы
| Бредис Михаил Алексеевич | Российский университет дружбы народов | канд. филол. наук, ведущий научный сотрудник кафедры иностранных языков | bredis-ma@rudn.ru |
| Иванов Евгений Евгеньевич | Могилёвский государственный университет имени А.А. Кулешова; Российский университет дружбы народов | д-р филол. наук, заведующий кафедрой теоретической и прикладной лингвистики; ведущий научный сотрудник кафедры иностранных языков | ivanov_ee@msu.by |
Всего: 2
Ссылки
Паремиология в дискурсе. М. : URSS : Ленанд, 2015. 294 с.
Паремиология без границ. М. : Изд-во РУДН, 2020. 244 с.
Паремиология на перекрёстках языков и культур. М. : Изд-во РУДН, 2021. 246 с.
Бредис М.А., Ломакина О.В., Мокиенко В.М. Пословица в современной лингвистике: определение, статус, функционирование // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2019. № 3. С. 34-43.
Иванов Е.Е. Афоризм как объект лингвистики: основные признаки // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2020. Т. 11. № 4. С. 659-706.
Иванов Е.Е. О рекуррентности афористических единиц в современном русском языке // Русистика. 2019. Т. 17. № 2. С. 157-170.
Иванов Е.Е. Функции афористических единиц в русском языке // Русистика. 2022. Т. 20. № 2. С. 167-185.
Иванов Е.Е., Ломакина О.В., Нелюбова Н.Ю. Семантический анализ тувинских пословиц: модели, образы, понятия (на европейском паремиологическом фоне) // Новые исследования Тувы. 2021. № 3. С. 220-233.
Иванов Е.Е., Марфина Ж.В., Шкуран О.В. Номинации животных в тувинских пословицах и поговорках: аспекты реализации и проблематика изучения // Новые исследования Тувы. 2022. № 1. С. 47-68.
Мокиенко В.М. Лингвокультурологическая паремиология в европейской ретроспективе // Перспективные направления современной лингвистики. М. : РУДН, 2020. С. 42-53.
Бредис М.А., Димогло М.С., Ломакина О.В. Паремии в современной лингвистике: подходы к изучению, текстообразующий и лингвокультурологический потенциал // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2020. Т. 11. № 2. С. С. 265-284.
Иванов Е.Е., Ломакина О.В., Петрушевская Ю.А. Национальная специфичность пословичного фонда (основные понятия и методика выявления) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2021. Т. 12. № 4. С. 993-1032.
Бредис М.А., Иванов Е.Е. Типология пословиц прибалтийско-финских народов России о богатстве и бедности (на европейском паремиологическом фоне) // Вестник угроведения. 2021. Т. 11. № 4. С. 607-615.
Петрушэўская Ю.А. Моўная спецыфічнасць і нацыянальная адметнасць прыказак беларускай мовы. Магшёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2021. 220 с.
Бредис М.А., Иванов Е.Е., Ломакина О.В., Нелюбова Н.Ю., Кужугет Ш. Ю. Лексикографическое описание тувинских пословиц: принципы, структура, этнолингвокультурологический комментарий (на европейском паремиологическом фоне) // Новые исследования Тувы. 2021. № 4. С. 143-160.
Бредис М.А., Иванов Е.Е. Провербиальные факторы перевода тувинских пословиц в аспекте нормативной и полилингвальной паремиографии (на фоне русского и английского языков) // Новые исследования Тувы. 2022. № 1. С. 17-36.
Англа-беларускі парэміялагічны слоунік = English-Belarusian Paremiological Dictionary. Магшёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2009. 240 с.
Петрушэўская Ю.А. Універсальны і інтэрнацыянальны кампаненты ў парэміялагічным складзе беларускай мовы: беларуска-іншамоуны слоунік. Магшёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2020. 312 с.
Іваноў Я.Я., Раманава Н.К. Беларуска-нямецкі парэміялагічны слоўнік = Belarussisches-Deutsch paremiologisches Wörterbuch. Магілёў : МДУ імя А.А. Куляшова, 2006. 108 с.
Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских пословиц. М. : ОЛМА Медиа Групп, 2010. 1024 с.
Большой фразеологический словарь русского языка: значение, употребление, культурологический комментарий. М. : Ридерз Дайджест, 2012. 781 с.
Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Словарь пословиц: краткий словарь-справочник. СПб. : Филологический факультет СПбГУ, 2006. 272 с.
Шведченко И.Е. Словарь пословиц. Итальянско-русский и русскоитальянский = Dizionario dei proverbi. Italiano-russo e russo-italiano. М. : Дрофа : Русский язык Медиа, 2009. 160 с.
Мокиенко В.М. Почему так говорят? От Авося до Ятя: историкоэтимологический справочник по русской фразеологии. СПб. : Норинт, 2003. 512 с.
Іваноў Я.Я. Крылатыя афарызмы ў беларускай мове: з іншамоуных літаратурных і фальклорных крыніц VIII ст. да н.э. - ХХ ст.: тлумачальны слоунік. Магшёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2011. 164 с.
Іванова С.Ф., Еаноў Я.Я. Польска-беларускі парэміялагічны слоунік = Polsko-bialoruski slownik paremiologiczny. Магшёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2007. 192 с.
Лакотка А.І., Кухаронак Т.І., Алфёрава А.Г. Прымаукі ды прыказкі -мудрай мовы прывязкі (з адвечнай мудрасці народнай) / пераклад на кітайскую мову Ван Цінфэш, А.В. Раманоўскай. Мінск : Беларуская навука, 2017. 135 с.
Ая У., Никитина Т.Г., Рогалёва Е.И. Пословицы в русской речи: учебный словарь с комментариями на эстонском языке. Псков : ЛОГОС Плюс, 2012. 123 с.
Маргулис А., Холодная А. Русско-английский словарь пословиц и поговорок = Russian-English Dictionary of Proverbs and Sayings. North Carolina & London : Publishers Jefferson, 2000. 487 с.
Иванов Е.Е., Мокиенко В.М. Русско-белорусский паремиологический словарь. Могилёв : МГУ имени А. А. Кулешова, 2007. 242 с.
Иванов Е.Е. Русско-белорусский словарь пословиц = Руска-беларускі слоунік прыказак : в 2 ч. Могилёв : Брама, 2001. Ч. 1. 144 с. ; Ч. 2. 164 с.
Walter H., Mokienko V., Komorowska E., Kusal K. Русско-немецко-польский словарь активных пословиц (с иноязычными параллелями и историкокультурологическими комментариями). Greifswald : E.M.A.-Universitat ; Szczecin : Volumina, 2014. 433 s.
Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь пословиц и поговорок = Sprichworter sprichwortliche redensarten russisch-deutsches worterbuch. М. : Русский язык Медиа, 2006. 214 с.
Фелицына В.П., Прохоров Ю.Е. Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения : лингвострановедческий словарь. М. : Русский язык, 1988. 272 с.
Епифанов А. Русские пословицы и поговорки и их турецкие аналоги = Türk atasözleri ve rus karşiliklari.. СПб. : КАРО, 2006. 352 с.
Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Русская фразеология: историко-этимологический словарь. М. : Астрель ; АСТ ; Люкс, 2005. 926 с.
Іванова С.Ф., Еаноў Я.Я. Слоунік беларускіх прыказак, прымавак і крылатых вьфазаў: лшгвакрашазнаўчъ дапаможнік. Мінск : БФС, 1997. 262 с.
Туровер Г. Я. Словарь пословиц. Испанско-русский и русско-испанский = Diccionario de refranes. Espanol-ruso y ruso-espanol. М. : Дрофа ; Русский язык Медиа, 2009. 208 с.
Лепешаў І.Я., Якалцэвіч М.А. Тлумачальны слоунік прыказак. Гродна : ГрДУ імя Янкі Купалы, 2011. 695 с.
Храмцова О.А. Финские пословицы и поговорки и их русские аналоги. Русские пословицы и поговорки и их финские аналоги. СПб. : КАРО, 2011. 240 с.
Гнездилова В.А. Французско-русский словарь пословиц и поговорок = Dictionnaire des proverbes franjais-russes. М. : Мирта-Принт, 2010. 71 с.
Мокиенко В.М. Школьный словарь живых русских пословиц. СПб. : Нева, 2002. 352 с.
Лепешаў І.Я. Этымалагічны слоунік прыказак. Мінск : Вышэйшая школа, 2014. 141 с.
Kokare E. Divu tautu dzlves gudriba: Latviesu un krievu sakamvardu krajums. Riga : Zinatne, 1967. 295 lpp.
Adalberg S. Księga przysłów porzypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Warszawa : Druk Emila Skiwskiego, 1894. 865 s.
Lukasevics V. Latgaliesu-latviesu vardnica. Vina cylvaka specvuorduojs. Daugavpils : Daugavpils Universitates Akademiskais apgads “Saule”, 2011. 232 lpp.
Latviesu tautas miklas, sakamvardi un parunas. Riga : Avots, 1998. 488 lpp.
Opincane B. Latgalu parunas un sokomvordi. Rezekne : LKCI, 2000. 86 lpp.
Mokienko V.M., Ruiz-Zorilla Cruzate M., Walter H., Zainouldinov A.Russisch-Deutsch-Spanisches Worterbuch aktueller Sprichworter mit europaischne Parallelen. Greifswald : E.M.A.-Universitat, 2009. 193 s.
Stypula R. Slownik przyslow i powiedzien rosyjsko-polski i polsko-rosyjski. Warszawa : Wiedza Powszechna, 2003. 999 s.
Ivanov E. Paremiological Minimum and Basic Paremiological Stock (Belarusian and Russian). Prague : RSS, 2002. 136 р.
Черкасова М.Н. Дурак фольклорный vs. «дурак полный»: к интерпретации оскорбления // Вестник Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова. Серия: Филологические науки. 2011. № 2. С. 98-108.
Аввакум. Жигіе протопопа Аввакума, написанное имъ самимъ. СПб. : Изданie А.Е. Бѣляева, 1904. 27 с.
Maszewska A. Ulica Prozy. Blog o ludziach, ksiqzkach i gorach. 2021. URL: http://ulicaprozy.pl/ludzie/glupiego-robota-lubi/ (дата обращения: 08.04.21).
Suplinska I. Latgales lingvoteritoriala vardnica. Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2012. 876 lpp.
Latviesu folkloras kratuve. 2021. URL: http://garamantas.lv (дата обращения: 08.04.2021).
Patarles. DainuTekstai. 2021. URL: http://patarles.dainutekstai.lt (дата обращения: 08.04.2021).
Venckus R. Kulturos kirtis. Platesnio poziurio kritikos straipsniai. 2021. URL: http://culture.venckus.eu/socialiniai-klausimai/kaip-darbas-durniu-mylejo-o-durnius-meiles-issizadejo/ (дата обращения: 08.04.2021).
Portalas tv3.lt. 2021. URL: https://www.tv3.lt/naujiena/zmones/durnius-darba-darbas-durniu-n370705 (дата обращения: 08.04.2021).
Литература Древней Руси : Хрестоматия. М. : Высшая школа, 1990. 554 с.
Речник српскохрватскога кшижевног jезика. Кшига прва. Друго фототипско издаше. Нови Сад : Матица српска, 1990. 872 с.
Инфантьев Б.Ф. Балто-славянские культурные связи. Лексика, мифология, фольклор. Рига : Веди, 2007. 312 с.
Barbarizmų žodynėlis. Jaunimo barbarizmų ir posakių žodynas. 2021. URL: http://www.barbarizmai.lt/zodis/durnius.html (дата обращения: 08.04.2021).
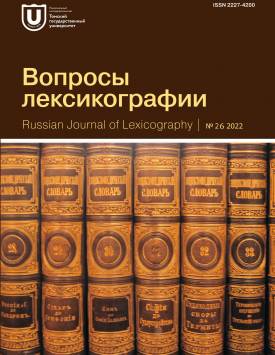

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью