Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта
Статья посвящена исследованию семантических единиц (не)вежливого общения, определяемых как эвфемизмы и дисфемизмы. Выдвигается гипотеза о том, что эвфемизмы и дисфемизмы являются способом языкового конструирования коммуникантами своего опыта в нестабильной динамике взаимодействий, определяющих постоянно меняющееся отношение к объекту внимания, которое невозможно определить заранее в виде словарной дефиниции. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Euphemisms and dysphemisms in experience construction.pdf 1. Эвфемизмы и дисфемизмы: история вопроса Термин «euphemism» имеет корни греческого и протоиндоевропейского происхождения. Префикс eu- означает ‘хорошо, благозвучно', а корень pheme - 'речь, высказывание, звучание' (восходит к phanai от корня *bha-'говорить, сказать') [1]. Любопытно, что корень *bha- можно проследить в таких словах современного английского языка, как ban, banish, banal, bandit, связанных со смыслами запрета, провозглашения или проклятия (напр., ban исторически означал 'проклинать') [2]. Именно поэтому значение морфемы pheme в большей степени ассоциируется не просто с актом говорения как таковым, а с религиозным, церковным контекстом (ср. blaspheme 'богохульствовать'). В греческом языке термин euphemismos был засвидетельствован в середине XVII в. в значении «употребление более благозвучного слова взамен зловещего наименования». Эвфемизация определяется как ритуальная практика религиозных церемоний, лежащая в основе суеверия избегать плохие приметы, которые несут с собой слова и их значения. 48 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта Несмотря на то, что термин вошел в обиход только в XVII в., сама практика эвфемизации была знакома еще жителям Древней Г реции. Византийский богослов и патриарх Константинопольский Фотий I в своем сочинении «Библиотека» цитирует историка Гелладиуса, писавшего в IV в., что «все древние люди, по большей части афиняне, были достаточно осторожны, чтобы не использовать слова, несущие зловещие знаки, поэтому называли тюрьму ‘комнатой' (chamber), палача - 'слугой народа' (public man), а фурий и эриний (богини ненависти и мести) - эвминидами (Милостивыми)» [3. Р. 365]. Такое понимание языковой семантики, названное Р. Харрисом «квазимистическим» и номенклатурным [4. Р. 8], основывается на признании языка божественным даром, данностью, которыми человек распоряжается под присмотром бога. Происхождение языка описывается в Книге Бытия следующим образом (2: 19): «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел (их) к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым». Тем самым библейская интерпретация языка, согласно которой изначально в Эдеме вещи были названы правильными именами (по воле Божьей), отражающими их истинную сущность, оказала сильное влияние на развитие многих лингвистических процессов, к числу которых относится эвфемизация. Использование имен, «не разрешенных» Богом, считалось недопустимым; необходимо было использовать только те имена, которые «разрешены» Богом, что бы под этими именами ни подразумевалось. Религиозный подтекст замены «плохих» и «дурных» наименований более наглядно прослеживается в практике табуирования. Термин «табу» был заимствован из языка народов Полинезии и означал «священно запретный» или «категорический запрет на религиозной основе» [5. С. 190]. Табуированная лексика, в некоторых исследованиях рассматриваемая на одном уровне с бранной лексикой (swear-taboo, или S-T words), охватывает «слова и понятия, которые нельзя озвучивать». Табуированность тесно связана с ритуализацией языка и восходит к религиозно-обрядовым запретам на совершение какого-либо действия под угрозой сверхъестественного наказания: считалось, что произнесенные слова либо отождествляются с запретными действиями, либо влекут их за собой. Именно поэтому большинство языковых табу представляют собой грубые или потенциально грубые, социально-порицаемые инвективы, а также языковые формы, значение которых связано с экскреторной функцией и с идеей продолжения рода [6. С. 25]. Ж. Варбот подытоживает, что в наши дни табу употребляется в двух значениях: 1) религиозный запрет у первобытных народов, налагаемый на определенные действия во избежание вредных проявлений сверхъестественных сил; 2) запрет на употребление определенных слов, обусловленный социально-политическими, историческими, культурными, этическими или эмоциональными факторами [7. С. 345]. 49 Лингвистика / Linguistics Вопрос религиозных и морально-нравственных коммуникативных запретов наиболее остро стал звучать в эпоху Просвещения, когда расцвет рационализма привел к переосмыслению многих считавшихся незыблемыми социальных норм и порядков. Идеи свободомыслия, свободы слова и независимости религии от морали активно пропагандировались в философских трудах многих ученых того времени. Однако ирландский философ и богослов Дж. Беркли выступал против таких идей и посвятил этой теме один из своих платоновских диалогов в книге «Алкифрон. Мелкий философ», ставшей апологетом христианской религии. Во втором диалоге Беркли в лице персонажа по имени Евфрон ведет дискуссию со свободомыслящим философом Люсиклом, олицетворяющим английского писателя и экономиста Б. Мандевиля. Люсикль приводит доводы в пользу того, что самые вредоносные и порицаемые обществом пороки имеют благие экономические последствия для самого же общества. Например, пьянство одних позволяет другим (пивоварам, винокурам, перегонщикам спирта и т.д.) иметь постоянную работу и получать доходы. Люсикль выступает против теологов и моралистов, осуждавших против всякого здравого смысла такие человеческие пороки и запрещавших их на религиозной основе. Однако, по словам Люсикля, некоторые «находчивые» и «ловкие» философы «изобрели особую изысканную манеру выражаться, весьма ослабевавшую предубеждение и отвращение к пороку». Такие философы приняли в расчет, что «люди обращают внимание не на вещи, а на слова». Далее он уточняет: «Например, человек порочный - это на нашем языке “любитель удовольствий”, шулер - “тот кто ведет крупную игру”; о леди мы скажем, что “у нее роман”, джентльмена назовем “галантным кавалером”, а жулика - “человеком, знающим жизнь”. Таким образом, среди особ, принадлежащих к beau monde, не бывает ни горьких пьяниц, ни мошенников, ни развратников, ни блудниц - светский человек может преспокойно наслаждаться своими пороками, не рискуя навлечь на себя неудобные названия» [8. С. 43-44]. Со времен эпохи Просвещения в теории языка стала активно развиваться концепция суррогационизма [9. Р. 113-114], согласно которой языковой знак замещает некое содержание и служит условной формой его выражения. Эта условность подобна игровому принципу и носит характер договоренности между участниками коммуникации и проявляет себя только в акте употребления языкового знака [10]. Согласно этой концепции эвфемизмы стали пониматься как замены, субституты неких антецедентов для решения различных коммуникативных целей, в частности соблюдения принятых в обществе правил и норм речевого поведения. В конце XVIII в. под эвфемизмом было принято понимать риторический прием, который заключается в использовании «менее неприятного слова или выражения, чем то, что подразумевается» [1]. В современном понимании эвфемизм - это более вежливое слово или выражение, выбранное взамен прямолинейного или оскорбительного, чтобы не обидеть и не задеть чьи-то чувства [11]. 50 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта Необходимо отметить, что в современном мире эвфемизация приобретает политический контекст в связи с развивающимися интеграционными процессами и нарастающей актуальностью кросскультурной коммуникации. В эпоху глобальной ассимиляции, когда представители различных национальных, этнических, религиозных групп и сообществ вынуждены находить общий язык для гармоничного сосуществования друг с другом, фактор толерантности и уважения к чувствам и убеждениям другого играет огромную роль. Гарантировать подобные идеалы межкультурной и межличностной коммуникации была призвана политкорректность. Согласно С.Г. Тер-Минасовой политическая корректность языка выражается в «стремлении найти новые способы языкового выражения взамен тех, которые... ущемляют его [индивидуума] человеческие права... языковой бестактностью и/или прямолинейностью...» [12. С. 216]. Первое упоминание слова «дисфемизм» (dys- «bad, abnormal, difficult») в качестве термина регистрируется 1927 г. Альбертом Карнуа, который определил его как «насмешливое, грубое издевательство, являющееся также реакцией на педантство, претенциозность и схолицизм в языке» [13. Р. 146]. В современных словарях английского языка фиксируется значение дисфемизма как «неприятное, оскорбительное или уничижительное слово или выражение взамен менее грубого или менее оскорбительного; противоположен эвфемизму» [1, 2]. Таким образом, в современной лингвистической науке принято считать, что эвфемизм и дисфемизм являются «противоположными полюсами на оси оценочного варьирования денотата» [14. С. 178; 15. С. 96]. Появление в научном обиходе термина «дисфемизм» вызвало необходимость проводить различие между эвфемизмами, дисфемизмами и нейтральными выражениями, потому что из определения дисфемизма следует, что заменяемое им выражение обязательно имеет смягчающий смысл только по сравнению с этим дисфемизмом. Чтобы решить такую терминологическую проблему, К. Аллан и К. Барридж ввели термин «ортофе-мизм», корни которого восходят к греческому «орто», т.е. «надлежащий, прямой, нормальный», как наименование нейтрального способа вербализации неприятного, отрицательного признака денотата [15. Р. 29-34]. Тем самым они определяют эвфемизмы как благозвучные и вежливые выражения, дисфемизмы - как выражения грубые и оскорбительные, ортофемиз-мы - как нейтральные обозначения; икс-фемия же выделяется ими как термин-гипероним, обобщающий все эти три явления и характеризующий их в диалектике номинативного варьирования. В данном исследовании будет использоваться термин «икс-фемизм», означающий эвфемизм и/или дисфемизм. 2. Противоречия и ограничения существующих теорий Исторический обзор и этимологический анализ свидетельствуют о том, что за много лет объяснительная модель эвфемизации и дисфемизации, 51 Лингвистика / Linguistics дополняемая научными описаниями их прагматических и семантических функций, существенным образом не изменились. Как и следует из самой этимологии терминов, это то, что лучше или хуже звучит вместо чего-то другого, по разным причинам не называемого. Однако такую объяснительную модель икс-фемизмов как явлений языка нельзя считать удовлетворительной в научном отношении, поскольку она обнаруживает в себе ряд логических противоречий. 1. С терминологической точки зрения существующие определения эв-фемизации и дисфемизации вступают в противоречие с тем пониманием процесса номинации, из которого эти определения исходят. Идея о существовании неких антецедентов «под оболочкой» субститутов (эвфемизмов и дисфемизмов) восходит к теории номинации, согласно которой языковой знак представляет собой суррогат, замещающий концептуальное или семантическое содержание. Суррогационизм стал популярен в учениях Ф. де Соссюра и Л. Витгенштейна, определившими природу такого процесса замещения как условность, проявляющую себя в самом акте употребления знака. Таким образом, утверждается, что эвфемизмы и дисфемизмы замещают другие наименования, однако эти самые наименования тоже замещают некое концептуальное содержание. В результате получается двойное замещение, о котором не говорили ни Соссюр, ни Витгенштейн, или, по крайней мере, остается неясным, что конкретно замещают эвфемизмы и дисфемизмы - свое собственное концептуальное содержание (которое, судя по определениям, у них отсутствует) или содержание другого языкового знака (а в таком случае второй знак останется без содержания?). Стоит отметить, что логика, взятая за основу определения терминов «эвфемизм» и «дисфемизм», циркулярна. Исходя из предположения, что эвфемизм - это менее оскорбительное слово взамен более оскорбительного, а дисфемизм - это более оскорбительное слово взамен менее оскорбительного, можно сделать вывод, что эвфемизм заменяет дисфемизм, который заменяет эвфемизм. Выход из этого логического тупика, предложенный К. Аллан и К. Барридж в виде термина «ортофемизм», не решает проблемы. Во-первых, не каждое концептуальное содержание возможно рассмотреть в том триединстве способов номинации, о котором говорят исследователи. Например, многие ругательные и бранные слова вряд ли могут иметь нейтральные и эвфемистические номинативные эквиваленты одновременно. Во-вторых, предположив, что ортофемизм - это неоскорбительное слово, но «более прямолинейное, буквальное и формальное, чем эвфемизм» [15. Р. 34], то все равно можно попасть в ту же самую логическую ловушку замкнутого круга: эвфемизм заменяет ортофемизм, который заменяет эвфемизм. Еще более парадоксальным кажутся определения икс-фемизмов по отношению к тому, как процесс коммуникации понимается на уровне здравого смысла. Трудно отрицать тот факт, что общение (даже в письменной форме) - это прежде всего выбор слов. Между тем икс-фемизмы опреде-52 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта ляются как замены неких других наименований. Возникает логическое противоречие, поскольку в отдельно взятый момент мы не можем выбирать и заменять слово одновременно: замена есть операция над уже сделанным выбором. 2. В стилистике и риторике называние плохих вещей хорошими и наоборот определяется как ирония (противоречие «явного» смысла «истинному»). Ирония же всегда связана с эффектом высмеивания, что, по сути, создает негативные оценочные коннотации. В результате эвфемизм как способ замены неприятного наименования более приятным логично определить как иронию, создающую дисфемистический эффект. Один из таких примеров - эвфемизм handi-capable, описывающий людей с «неограниченными возможностями» [16]. 3. Согласно прагматическому подходу, эвфемизмы могут служить коммуникантам средствами самооправдания, дезинформирвоания, манипулирования, «заретушевывания истинных значений» [14, 17]. Однако такая интерпретация функций эвфемизмов заключает в себе негативную оценку со стороны интерпретанта, что ставит под сомнение логичность изначального определения эвфемизации. Если известный эффект эвфемизма настолько негативный и при этом сам говорящий это осознает, совершая эвфемистические замены ради обмана кого-либо, каким образом такая замена может трактоваться как «более вежливая, приемлемая, приятная, менее обидная и оскорбительная»? 4. С этической и религиозной точек зрения функция эвфемизмов также противоречива. С одной стороны, они замещают «порочные» наименования, но с другой стороны, о чем писал Дж. Беркли, служат оправданием самих пороков. Данные логические противоречия, с которыми сталкиваются лингвистическая наука и смежные с ней дисциплины в попытке выстроить последовательную теорию икс-фемизмов, объясняются нарушением одного из законов логики, а именно принципа достаточного основания (закона логики, согласно которому каждое научное понятие или суждение может считаться достоверным, если были приведены достаточные основания, доказывающие его истинность). В частности, определение и описание эвфемизмов и дисфемизмов построено на таких характеристиках слов, как оскорбительность, чувство обиды и даже «(не)приятность». Однако не приводится никаких оснований или уточнений, помогающих понять, что может быть оскорбительным для одного человека и приятным для другого. Не будет преувеличением сказать, что обида, вызванная тем или иным словом, - это сугубо психологический феномен, который невозможно определить линейно и в абсолютном измерении. Это всегда индивидуальные переживания каждого конкретного человека, зависящие от множества психологических факторов. Даже близкое знакомство или родство с человеком зачастую не помогает нам предугадать, как он воспримет наш тот или иной выбор слова, более того, зачастую мы даже можем не знать и постфактум о том, как обидели наши слова кого-то другого просто потому, 53 Лингвистика / Linguistics что кто-то другой умело скрыл свои чувства от нас. Включая в свой научный аппарат понятия из области психологии, лингвисты не углубляются в саму теорию психологии, объясняющей эти понятия. Предполагается, что данную проблему можно решить, обратившись к междисциплинарному подходу к изучению коммуникационных явлений, интегрирующему знания из различных предметных областей, включая психологию и эпистемологию (в частности, философию науки). 3. Икс-фемизмы и относительность конструируемого опыта В этом исследовании мы выдвинем гипотезу о том, что эвфемизмы и дисфемизмы невозможно определить заранее, в виде словарно-списочной номенклатуры, и они не служат «пользователю языка» средством замены или уклонения от чего-то иного, неназываемого. На наш взгляд, икс-фемизмы являются способом конструирования опыта в нестабильной динамике коммуникативных взаимодействий, определяющих постоянно меняющееся отношение коммуниканта к объекту внимания. Приведем теоретико-методологические основания для выдвинутой гипотезы и впоследствии докажем ее путем анализа эмпирического материала. Идея о том, что между языком, опытом и миром человека существуют циркулярные, взаимно-каузальные связи, не позволяющие отделить одно от другого, восходит к учениям В. фон Гумбольдта, Л. Вайсгербера, неоднократно звучит в работах Э. Сепира и Б. Уорфа и находит свое развитие в современной философии конструктивизма и энактивизма (Х. фон Ферстер, Э. фон Глазерсфельд, П. Вацлавик, Г. Бейтсон, Дж. Келли, У. Матурана, Ф. Варела, Ж. Пиаже). В своих экспериментальных исследованиях Ж. Пиаже доказал, что развитие семиотических функций требует перестройки всего сенсомоторного интеллекта (опыта), которым человек оперировал раньше. Эта перестройка означает качественно новый уровень познавательной активности человека - вертикальный декалаж [18. Р. 148; 19. Р. 234], на котором все дооперациональные («доязыковые») концепты приобретают семантическую форму, а не дублируются ею. Язык становится онтогенетическим продолжением органов чувств [20; 21. Р. 122], и человеческий мозг начинает думать языком [22] ровно так же, как тело начинает чувствовать определяемые в языке ощущения. Восприятие, мышление, язык и эмоции взаимно обусловливают друг друга в формировании человеком своего познавательного опыта: если два разных человека произносят одно и то же слово, это не значит, что они воспринимают, осмысляют и чувствуют мир одинаково в соответствии с этим словом. Как заметил И. Кант, слепорожденный не знает, что такое тьма, потому что он не знает, что такое свет; «дикарь не представляет себе бедности, потому что не знает благосостояния» [23. С. 455]. Конструктивизм и теория семантической относительности отнюдь не чужды науке о языке. Популярный в современной теории языка термин «языковая картина мира», принадлежащий гумбольдтианцу Л. Вайсгербе-54 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта ру, служит тому подтверждением. В это понятие немецкий лингвист вкладывал не столько значение отражательной способности языка по отношению к миру и реальности, сколько мировоззрение, миропонимание, образ мышления и способ восприятия мира, конституирующие человеческое сознание. Вайсгербер называет картиной мира «энергетический» процесс «интеллектуальной переработки человеком его окружающего мира» [24. S. 600], духовного воссоздания мира посредством слова и процесс языкового миросозидания в целом [25. С. 235], сравнивая ее с гумбольдтовской внутренней формой языка как созидающим принципом, как «непрерывным процессом духовного преобразования и устроения» [26. S. 131]. Впоследствии в своей логико-позитивистской философии языка Л. Витгенштейн введет понятие «карта мира», подразумевая под этим изобразительную репрезентацию реальности, что в какой-то степени исказит конструктивистское толкование термина «картина мира» в теории языка. Так или иначе, понятие Weltbild трудно ассоциировать с метафорой изоморфного копирования «объективной действительности», особенно учитывая этимологию слова Bild (от «bilden») и дословный перевод немецкоязычного термина («строить мир»). Л. Витгенштейн не признавал, что индивидуальный опыт - это и есть язык в коммуникативной динамике. Он верил, что общение строится на общественной условности (правилах игры), которую изменить нельзя, т. е. нельзя сказать «Мне холодно» и иметь в виду «Мне тепло» без нарочного нарушения неких правил игры [10. § 510]. В ответ на это конструктивизм имеет ряд веских контрдоводов. Если исходить из утверждения, что использование знаков является предметом договорённости между пользователями языка, возникает логический парадокс. Согласия о правильном словоупотреблении нельзя достигнуть без сравнения между правильным и неправильным словоупотреблением. Откуда возникает правильность и неправильность словоупотребления, прежде чем стать объектом сравнения пользователей языка с целью их будущей договоренности о правильном словоупотреблении? Аналогия между коммуникацией и игрой, полюбившаяся Ф. де Соссю-ру, Л. Витгенштейну и их последователям, также логически противоречива. Причина противоречивости заключается в игнорировании теории сложности динамических систем, к которым относится человеческий организм. Называя коммуникативную динамику игрой, философы пренебрегают важной биологической и психологической функцией общения как социального взаимодействия - взаимной адаптацией и сохранением внутреннего порядка. По сути, игра - это линейный процесс перехода от состояния большей упорядоченности к состоянию меньшей упорядоченности в заранее предписанных условиях окружающей среды. Игра неизменно начинается с «нулевой» позиции, где баланс сил между участниками равен, и главный смысл игры - это максимальное нарушение этого равновесия. Коммуникация же, напротив, всегда направлена на достижение когнитивного баланса и единогласия после ранее существовавшего дисбаланса и 55 Лингвистика / Linguistics разногласия. Коммуникация происходит не благодаря, а вопреки договоренностям и конвенциям: «непонимание становится триггером немедленного поиска значения и порядка» [27. Р. 22]. «Если бы оба человека все время говорили логически, они никогда ни к чему бы не пришли. Они только повторяли бы как попугаи старые клише, которые все повторяли столетиями» [28. Р. 15]. Иными словами, в основе коммуникативного взаимодействия лежит стремление восстановить нарушенное тем или иным образом когнитивно-эмоциональное равновесие, в то время как игровое взаимодействие подчинено прямо противоположной цели. Именно поэтому для коммуникации вполне естественно такое нарушение правил языковой игры, как неправильная интерпретация, а вернее, возникновение разных и порой прямо противоположных интерпретаций одного и того же слова, особенно если речь идет о конфликте или споре. Возвращаясь к рассуждениям Л. Витгенштейна о противоположных значениях слов, скажем, что противоположность нередко проявляется в коммуникативных взаимодействиях, когда коммуниканты имеют разный предшествующий опыт и разные ожидания друг от друга. Именно противоположности такого рода, которые и следует назвать икс-фемизмами, мы проанализируем в следующем разделе статьи. 4. Икс-фемизмы в коммуникативных взаимодействиях Метод. Как известно, методологическими приоритетами в научном познании считаются не только логическая последовательность и обоснованность концепций, но и объяснимость теоретических представлений их эмпирическими следствиями, возвратно-поступательное движение научной рефлексии от теории к наблюдению, и наоборот. Любое несоответствие между теорией и наблюдением рождает концептуальное противоречие, дискредитирующее всю теоретическую модель, поэтому противоречие в науке игнорировать нельзя [29. Р. 23]. Научный метод подразумевает подкрепление логического рассуждения эмпирическими данными для того, чтобы верифицировать результаты дедуктивных умозаключений относительно наблюдаемых явлений окружающего мира. Представляется, что лингвистическая методология не должна составлять исключение: исследование языка не может обходиться без свидетельства опыта, потому что язык - это и есть составная часть человеческого опыта, если не весь опыт вообще [30]. Традиционная практика лингвистического анализа полагается на логико-интерпретационный метод, с помощью которого создаются аналитикотеоретические конструкты, используемые для объяснения и описания друг друга. В роли объекта такого логико-интерпретационного анализа выступают различные абстрактные модели коммуникативных явлений, как, например, понятия «эвфемизм» и «дисфемизм». Материалом для такого исследования может служить только текст как упорядоченная идеализация коммуникативных явлений. 56 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта Однако что в исследовании языка можно подвергнуть эмпирическому наблюдению? Эвфемизмы и дисфемизмы - это понятия еще более высокого уровня генерализации, чем понятие «слово». Ни эвфемизмы, ни дисфемизмы наблюдать нельзя, поэтому они не могут стать объектами эмпирического анализа. Но, как заметил Р. Харрис, «языковой универсум населен не загадочным образом скрытыми от наблюдения объектами под названием “языки”, а наблюдаемыми человеческими существами, которые каким-то образом иногда умудряются общаться друг с другом» [31. Р. 16]. Соответственно, икс-фемизмы увидеть воочию нельзя, но можно наблюдать поведение тех, кто ими (как предполагается) пользуется в своей речи. В качестве такого поведения мы подразумеваем (негативные или положительные) эмоциональные реакции коммуниканта на исследуемую языковую единицу в отдельно взятой ситуации, а также его опыт пережитых жизненных ситуаций, который обусловил данную эмоциональную реакцию и специфическое понимание значения языковой единицы. Признавая важность диалектического единства текстологического и эмпирического подходов к изучению языка и коммуникации, в данном исследовании мы совместим эти два научных метода - логической интерпретации текстовых фрагментов и наблюдения за коммуникативным поведением - с целью построения синтетической, лингво-психологической модели икс-фемии в противовес аналитико-текстологической. 5. Эмпирический материал и логико-методологическая процедура В качестве первичных источников данных об икс-фемизмах были выбраны кинофильмы как видеодемонстрации эмпирических феноменов, поддающихся интерпретации. Наш выбор материала обусловлен следующими причинами: во-первых, поведение коммуникантов, запечатленное на пленке, доступно для непосредственного наблюдения, потому что можно видеть эмоциональные реакции, жесты и любые другие проявления оценочного отношения к объекту внимания (впрочем, сам объект внимания коммуниканта тоже наблюдаем); во-вторых, благодаря фильмам оказывается доступным для наблюдения предшествующий (и даже последующий) опыт взаимодействий коммуникантов, что позволяет глубже понять контекст коммуникации, включая такие психологические факторы, как мотивы, эмоциональное и физическое состояние коммуниканта. Источником данных для исследования послужил культовый американский сериал «Отчаянные домохозяйки» (2004-2012 гг.), созданный в жанре трагикомедии. Данные, отобранные на основе анализа этого телесериала, мы считаем репрезентативными, поскольку сюжетные линии в фильме охватывают широкий спектр коммуникативных взаимодействий (взаимоотношения в семье, между друзьями, соседями, в преступной среде, в политической, медицинской, деловой и других сферах). Фактор жанровой характеристики подчеркивает тот факт, что все эти ситуации существуют или гипотетически могут возникнуть в реальной жизни. К тому же попу-57 Лингвистика / Linguistics лярность телесериала во всем мире (по официальным данным, аудитория сериала составляет более 120 млн телезрителей) обосновывает актуальность историй, положенных в основу сюжета, для современного зрителя вне зависимости от национальной принадлежности. В более широком научном смысле использование кинофильма как источника эмпирических данных может встретить возражения со стороны критиков. Подытожим доводы тех ученых, которые считают кино эмпирически неестественным и «скудным» явлением [32. Р. 83]: 1) фильмы - это вымысел, художественное произведение; 2) в фильмах нет спонтанной каузации; 3) вымышленное поведение не может быть наблюдаемо; 4) фильмы ограничены воображением своих создателей; 5) фильмы - это совокупность интерпретаций тех, кто участвует в их создании. Приведем соответствующие контраргументы, доказывающие надежность кинофильма как эмпирического материала. В аргументе (1) фильмы рассматриваются в известной дихотомии реализма «факт - фикция» («быль - небылица», «правда - вымысел»), согласно которой фильмы - это произведение кинематографического искусства, художественный вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью, и поэтому они не могут считаться эмпирическим обоснованием научной гипотезы. Однако не совсем справедливо называть кино вымышленной реальностью, поскольку вымышленным и «нереальным» можно назвать лишь сюжет кинофильма, но не то, как этот сюжет выстраивается и разворачивается в динамике видеоряда. Вымышленность - это интерпретационная характеристика прослушанной или прочитанной истории, видеодемонстрация этой истории никогда не бывает вымышленной, потому что наблюдаемость истории относится к перцептуальной, а не к интерпретационной характеристике опыта кинозрителя. Тот факт, что историю можно увидеть в игровой картине, не является вымыслом. Кино позволяет нам конструировать связную последовательность зрительных образов, в которой мы обнаруживаем следы собственного опыта, потому что наше тело двигается, а сознание связывает эти движения в такой же последовательности [33. Р. 97]. Поэтому нет никаких оснований утверждать, что наблюдение за такой последовательностью не принесет «реально» эмпирические результаты. По словам Э. Морена, фильмы - это реальность движения и форм: «Сочетание реальности движения и видимости форм создает впечатление действительной жизни и восприятие объективной реальности. Формы отдают свою видимую материальность движению, а движение реализует формы» [34. Р. 118]. Понятие спонтанной каузации в утверждении (2) лежит в основе осмысления причинно-следственных связей как структурных компонентов внешнего мира, существующих и реализующихся независимо от наблюдателя. Возникает парадокс, потому что наблюдение - это важнейший эмпирический метод научного познания, без которого науке не обойтись. При этом наблюдение, как известно, невозможно осуществить без наблюдателя. 58 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта В кино, которое по определению ориентировано на наблюдение и на наблюдателя, каузация всегда спонтанна с точки зрения этого наблюдателя: несмотря на наши ожидания, мы как зрители никогда не можем знать наверняка, что произойдет дальше и как поведут себя герои. Заявление (3) о невозможности наблюдения вымышленного поведения [32. Р. 83] противоречит определению слова «наблюдать», означающего в первую очередь «быть доступным чувственному восприятию». Аудио- и видеозапись человеческого поведения предназначена для того, чтобы быть наблюдаемой, а вымышленность, как было отмечено выше, логически не отменяет факт наблюдаемости. Ограниченность фильмов когнитивными границами чьего-либо воображения (например, сценариста), о которой говорится в аргументе (4), напротив, доказывает, а не опровергает изначальный тезис. Границы воображения, по сути, и становятся объектом лингвистического исследования, цель которого - проверить гипотезы о когнитивных механизмах конструирования человеческого опыта в языке [35]. Если мы сможем наблюдать, как человек создает мир в своем воображении, осмысляя не только логические, но и психологические связи и отношения между субъектами и объектами, то получим реальные эмпирические данные, позволяющие проверить теории о том, как человек использует языковые знаки в своем мышлении, общении и эмоциональном самовыражении. Аналогичным образом утверждение (5) о совместном участии нескольких лиц в создании фильма [36. Р. 84] не только доказывает наш главный тезис, но и подтверждает репрезентативность данных, которые можно получить с помощью кинематографического наблюдения. Лингвистическое исследование коммуникативных фрагментов подразделяется на два этапа: текстологический и эмпирический. Текстологический анализ подразумевает логическую интерпретацию текстового фрагмента, в роли которого выступает скрипт коммуникативного взаимодействия, изображенного в кино. Логико-интерпретационный анализ икс-фемизмов, используемых в тексте, осуществляется с опорой на лексикографические данные и логико-семантические параметры контекста, в рамках которых дис-фемизмом считается слово с «однозначно» оскорбительной и неодобрительной эмоциональной коннотацией, а эвфемизм определяется как «однозначно» благозвучное и вежливое слово или выражение, заменяющее дисфемизм или нейтральное, ортофемистическое именование. Эмпирический анализ основан на методе наблюдения и интерпретации экспериенциальной ситуации, в которой предполагаемые словарные или логико-семантические икс-фемизмы реализуются на практике: в поведении коммуникантов и их отношении к объекту внимания, обусловленных специфическим жизненным опытом. Результаты текстологического и эмпирического анализа каждого фрагмента позволят сделать синтетическое суждение о коммуникативной и прагматической природе исследуемых икс-фемизмов. Логико-методологическая процедура исследования основана на принципе доказательства «от противного». Мы обоснуем тезис о том, что от-59 Лингвистика / Linguistics ношение человека к тому или иному объекту внимания, в качестве которого выступает имя, не может быть зафиксировано в языковой семантике априори (согласно гипотезе о словарно-списочном, или номенклатурном, статусе эвфемизмов и дисфемизмов как вежливых и оскорбительных замен иных наименований), а всегда меняется в зависимости от контекста коммуникации, мотивов и эмоциональных состояний коммуниканта. 6. Исследование Приведем пример ситуации, в которой функционирование словарного эвфемизма признается противоречивым самими участниками коммуникации. Коммуникативное взаимодействие происходит между супругами Бри и Орсоном, которые обсуждают соседку по улице Энджи Болен: Bree. I'm not a fan of Angie Bolen. She can be very forward. Orson. I like her. She's earthy, takes a real interest in people. Bree. Yes. Last week she asked me how much my dress cost, and did I still get visits from my Aunt Flo. Orson. I believe that's a euphemism for... Bree. I know what it means1. Уже на этапе текстологического анализа выявляется ряд логических противоречий между лексикографическим статусом эвфемизма и его контекстуально-семантическим функционированием. Согласно словарю идиоматических выражений, фразеологизм Aunt Flo маркируется как эвфемизм и считается шутливым способом обозначения менструального периода у женщин [37]. На это указывает Орсон, используя непосредственно термин «эвфемизм» и убеждая жену в том, что Энджи Болен таким образом проявляет неравнодушное отношение к другим людям. Однако сама Бри не разделяет энтузиазма мужа, пресекая его попытки объяснить значение эвфемизма. Возникает противоречие: с одной стороны, в теории языка эвфемизм считается непрямым обозначением [38], с другой стороны, Бри называет «автора» эвфемизма прямолинейной, явно обижаясь на вопрос о приходе Тетушки Фло. Более широкий, эмпирический ракурс на дискурсивное взаимодействие помогает понять причины противоречий, возникших на логикоинтерпретационном этапе анализа. Зритель телесериала как наблюдатель коммуникативных взаимодействий героев легко может реконструировать экспериенциальный контекст обидного для Бри эвфемизма. Бри Ходж пытается всегда быть во всем идеальной и примерной: у нее репутация образцовой домохозяйки и светской леди, она владеет кулинарным бизнесом и непревзойденно готовит разнообразные блюда. Однако при первой же встрече с недавно переехавшей в пригород Энджи Болен Бри испытывает 1 Desperate Housewives. Season 6. Episode 7. 2009. Scenarist M. Cherry. URL: https://watchdesperatehousewives.com/ (дата обращения: 10.04.2020). 60 Дружинин А. С., Фомина Т.А. Эвфемизмы и дисфемизмы в конструировании опыта явную неприязнь к соседке, которая связана, как сама признается Бри, с разницей в воспитании. Энджи, итальянка по происхождению, родом из простой семьи и ведет себя в обществе свободно и непринужденно, позволяя себе экспрессивную жестикуляцию и откро
Ключевые слова
икс-фемизмы,
табу,
экспериенциальная область,
коммуникативное взаимодействие,
контекстуальная амбивалентностьАвторы
| Дружинин Андрей Сергеевич | Московский государственный университет международных отношений | канд. филол. наук, доцент кафедры английского языка № 3 | andrey.druzhinin.89@mail.ru |
| Фомина Татьяна Анатольевна | Московский государственный университет международных отношений | преподаватель кафедры английского языка № 1 | wesna85@bk.ru |
Всего: 2
Ссылки
Online Etymology Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/(дата обращения: 3.09.2021).
Merriam Webster’s Unabridged Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/(дата обращения: 03.09.2021).
Frazer J.G. (ed.) Pausanias's Description of Greece. Vol. 2 / ed. and transl. by J.G. Frazer. N.Y. : Cambridge Univ. Press, 2012. 626 p.
Harris R. Language, Saussure and Wittgenstein. How to play games with words. London ; New York : Routledge, 1996. 152 p.
Фрезер Дж.Дж. Золотая ветвь. М. : Политиздат, 1980. 832 с.
Блумфилд Л. Язык. М. : Прогресс, 1968. 608 с.
Варбот Ж.Ж. Табу. Русский язык : энцикл. М. : Сов. энцикл., 1979. С. 345-346.
Беркли Дж. Алкифрон, или Мелкий философ: работы разных лет / под общ. ред. В.П. Сальникова, А.П. Альбова, Д.П. Масленникова; пер. с англ. А.А. Васильева. СПб. : Алетейя, 2000. 428 c.
Harris R. Three Models of Signification.Integrational Linguistics: A First Reader / eds by Roy Harris, George Wolf. Oxford : Pergamon, 1998. P. 113-126.
Wittgenstein L. Philosophical Investigations. 2nd ed / eds by G.E.M. Anscombe, R. Rheeds; trans. G.E.M. Anscombe. Oxford : Blackwell, 1958. 250 p.
Longman Dictionary of Contemporary English Online. URL: https://www.ldoceonline.com/(дата обращения: 03.09.2021).
Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М. : Слово, 2000. 146 с.
Hughes G. An Encyclopedia of Swearing. New York ; London : ME Sharpe, 2006. 573 p.
Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. М. : Гнозис, 2004. 326 с.
Allan K., Burridge K. Forbidden Words: Taboo and the Censoring of Language. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 303 p.
Urban Dictionary. URL: https://www.urbandictionary.com/(дата обращения: 03.09.2021).
Попова Я.В., Куликова Л.В. Табуированные речесмыслы в дискурсивных практиках институционального общения. М. : Гнозис, 2019. 264 с.
Piaget J. The psychology of intelligence. Totowa, NJ : Littlefield, Adams & Co, 1976. 202 p.
Bibok M.B., Muller U., Carpendale J.I.M., Smith L. Childhood // The Cambridge companion to Piaget / eds by U. Muller, J.I.M. Carpendale, L. Smith. Cambridge : Cambridge University Press, 2009. P. 229-254.
Morris C. W. Foundations of the theory of signs // International Encyclopedia of Unified Science / eds by O. Neurath, R. Carnap, C.W. Morris. Chicago : Chicago University Press, 1938. Vol. 1, pt 2. P. 1-59.
Kravchenko A.V. A critique of Barbieri’s code biology // Constructivist Foundations. 2020. Vol. 15 (2). P. 122-134.
Maturana H.R., Mpodozis J., Letelier J.C. Brain, language, and the origin of human mental functions // Biological Research. 1995. Vol. 28. P. 15-26.
Кант И. Критика чистого разума / пер. с нем. Н.О. Лосского. М. : Наука, 1999. 655 с.
WeisgerberL. Sprache // Handbuch der Soziologie. Stuttgart : Enke, 1931. S. 592-608.
Радченко О.А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства. М. : Едиториал УРСС, 2005. 312 с.
Weisgerber L. Vom Weltbild der Deutschen Sprache. I. die Inhaltbezogene Grammatik. Dusseldorf : Schwann, 1953. 267 s.
Watzlawick P. How Real is Real? N.Y. : Vintage Book, 1976. 266 p.
Bateson G. Steps to an Ecology of Mind. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 2000. 542 p.
Kosso P. A summary of scientific method. New York : Springer, 2011. 41 p.
Дружинин А.С. Язык и реальность: до или после, вместо или вместе? // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2021. № 69. С. 67-93.
Harris R. The Integrationsist Critique of Orthodox Linguistics / Integrational Linguistics: A First Reader / eds by R. Harris, G. Wolf. Oxford : Pergamon, 1998. P. 15-26.
Fultot M. Impoverished fiction // Constructivist Foundations. 2020. Vol. 16 (1). P. 83-84.
Druzhinin A.S. Author’s response: Counterfactuals: Multiple realities or an observable world? // Constructivist Foundations. 2020. Vol. 16 (1). P. 96-100.
Morin E. The cinema, or the imaginary man / L. Mortime (transl.). Minneapolis : University of Minnesota Press, 2005. 292 p.
Druzhinin A.S. Construction of irreality: An enactive-constructivist stance on counterfactuals // Constructivist Foundations. 2020. Vol. 16 (1). P. 69-80.
Bunnell P. Stories and alternative stories // Constructivist Foundations. 2020. Vol. 16 (1). P. 84-87.
Farlex Dictionary of Idioms. URL: https://idioms.thefreedictionary.com/(дата обращения: 03.09.2021).
Oxford Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/(дата обращения: 03.09.2021).
Macmillan Dictionary Online. URL: https://www.macmillandictionary.com/(дата обращения: 03.09.2021).
American Heritage Dictionary. 5th ed. URL: https://ahdictionary.com/(дата обращения: 3.09.2021).
Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org/(дата обращения: 03.09.2021).
Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. URL: https://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-termmy/?q=484 (дата обращения: 03.09.2021).
Collins Dictionary Online. URL: https://www.collinsdictionary.com/(дата обращения: 03.09.2021).
Duda B. Euphemisms and dysphemisms: in search of a boundary line // Circulo de linguistica aplicada a la comunicacion. 2011. № 45. Р. 9-11.
Фомина Т.А. Икс-фемия, или О трудностях разграничения эвфемии и дисфемии // Вестник СПбГу. 2020. № 17 (1). С. 122-134.
Jay T. Cursing in America: A psycholinguistic study of dirty language in the courts, in the movies, in the schoolyards, and on the streets. Philadelphia; Amsterdam : John Benjamins, 1992. 272 p.
Bailey L.A., Tim A.L. More on women’s and men’s expletives // Anthropol. Linguist. 1976. Vol. 18. P. 438-449.
Mehl M.R., Pennebaker J.W. The sounds of social life: a psychometric analysis of students’ daily social environments and natural conversations //j. Personal. Soc. Psychol. 2003. Vol. 84. P. 857-870.
Mulac A., Lundell T.L. Linguistic contributors to the gender-linked language effect //j. Lang. Soc. Psychol. 1986. Vol. 5. P. 81-101.
Jay T.B. What to Do When Your Students Talk Dirty. San Jose : Resource Publications, Inc, 1996. 212 p.
McEnery T. Swearing in English: Bad Language, Purity and Power from 1586 to the Present. London : Routledge, 2005. 296 p.
Жельвис В.И. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М. : Ладомир, 1997. 330 с.
Saussure F. de. Course in General Linguistics / eds by Ch. Bally, A. Sechehaye ; W. Baskin (transl.). New York : Philosophical Library, 1959. 242 p.
Kelly G.A. The psychology of personal constructs: Vol. 1: Theory and personality. New York : Norton, 1955. 422 p.
Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ: Лингвистика языкового существования. М. : Новое литературное обозрение, 1996. 352 с.
Foerster H. von. Understanding understanding: Essays on cybernetics and cognition. New York : Springer, 2003. 362 p.
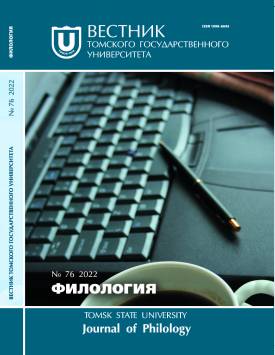

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью