Статья посвящена имагологическому изучению дискурса о Горном Алтае и его аборигенном населении в бийской газете «Алтай» в течение 1917 г., когда происходило разрушение имперского нарратива, а советский еще не был создан. Рассматриваются ранее не публиковавшиеся тексты о Горном Алтае, которые позволяют представить эволюцию образов «детей гор» как «внутренних Других» в период между Февральской и Октябрьской революциями. Статья ставит вопрос о роли газеты «Алтай» в формировании ориенталистского дискурса об инородцах в алтайской периодике периода крушения Российской империи. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Discourse about Gorny Altai in the newspaper Altai during 1917.pdf С момента официального присоединения к Российской империи в 1756 г. территорий, называемых Горный Алтай, существовал устойчивый круг концептов, определяющих ключевые имагологические характеристики этого пространства и его аборигенного населения: страна незнаемая, граница, периферия, Эльдорадо, медвежий угол, дикая земля (населенная диким народом), Беловодье, земной рай [1. С. 109]. Как можно заметить, эти концепты легко формируют две основные группы, условно разделяемые на позитивные и негативные характеристики: в каждом конкретном случае в зависимости от точки зрения и идеологических предпочтений автора актуализировался тот или иной блок смыслов, предлагающий повествовательные стратегии формирования «алтайского дискурса». Еще один важный фактор, влиявший на особенность текстовой репрезентации горно-248 Алексеев П.В., Алексеева А.А. Дискурс о Горном Алтае в газете «Алтай» го фронтира Сибири в художественных и публицистических дискурсах Российской империи, связан с проблемой «обзорного пункта» - из какого домашнего пространства обозревается Алтай: из-за границы, из российских столиц, из культурных и административных центров Сибири или автор живет в непосредственной близости от алтайских инородцев (или даже среди них). Изучение дискурсивной стороны исторических процессов, происходящих внутри империй, реконструируемых на разных материалах от художественных текстов и публицистики до эгодокументов - одно из самых перспективных направлений междисциплинарных исследований современной гуманитарной науки: в этой связи необходимо вспомнить книгу «Черная кожа, белые маски» Ф. Фанона в части рассмотрения связи между языком и культурой колониализма [2], книгу Т. Мартина о роли языка и культуры в конструировании национальной политики 1923-1939 гг. [3], монографию Ю. Слезкина о взаимодействии Российской империи с народами Севера [4], книгу А. Эткинда о внутренней колонизации и изобретении языка внутренних колониальных практик [5], работы Д. Уффельмана и др. по проблемам ориентализма и внутренней колонизации [6], а также большое количество работ по «конструированию Другого» (в англоязычной литературе - othering). В контексте подобных работ, реконструирующих большие исторические процессы, крайне важно обратиться к локальным примерам формирования и эволюции дискурсов инаковости, ускользнувшим от их внимания. Обращение к таким темам, как формирование дискурса об Алтае, призвано не только уточнить и наполнить более подробным фактическим содержанием уже существующие представления о дискурсах инако-вости в разных уголках Российской империи, но также способствовать де-табуированию колониальных и постколониальных проблематик региональных исследований, формируя перспективные области междисциплинарности. Горный Алтай в этих контекстах интересен также тем, что это одна из тех территорий Российской империи, которые испытали на себе мощное воздействие как стихийных, так и целенаправленных процессов мифологизации со стороны представителей культуры и администрации российской метрополии: идея о русской копии Швейцарии с индигенным тюркским населением, описываемым как «дети гор», и в начале XXI в. все еще является важным фактором культурных и политических дискурсов. Дискурсивные стратегии репрезентации Горного Алтая в литературе и публицистике за последние годы не раз становились объектом изучения -перечень статей таких исследователей, как Т.П. Шастина, Т.А. Богумил, А.И. Куляпин, А.Ю. Горбенко и др., может составить весьма внушительный список [7-15], однако фундаментальные труды все еще отсутствуют. К тому же авторы, как правило, сконцентрированы на двух основных исторических периодах: со второй половины XIX в. до 1917 г., и с 1920-х гг. до наших дней: было удобно различать имперский, постимперский советский и постсоветский дискурсы, а также противопоставлять «централист-скую» и «областническую» стратегии описания [8. С. 53]. В периоды позд-249 Литературоведение /Literature Studies ней империи изучался, главным образом, внешний взгляд путешественника или областника, поскольку о существовании сколько-нибудь ценной словесности Алтая было говорить еще рано. В нашем распоряжении также имеются фундаментальные исследования по периодике Сибири [16-18] и по вопросам рецепции русско-инородческих отношений на страницах сибирских дореволюционных изданий [19]. В настоящей статье делается попытка дополнить эту область новым художественно-публицистическим материалом с точки зрения авторов, включенных в дискурсивные практики города Бийска, расположенного в непосредственной близости от места компактного проживания алтайских инородцев, в период крушения Российской империи в 1917 г. 1917 год - переломный в жизни разнородного населения Российской империи. В течение этого года, кроме боевых действий на фронтах Первой мировой войны, произошли Февральская революция, последовавшее затем отречение императора Николая II от власти, глубокий политический кризис двоевластия, Корниловский мятеж и, наконец, Октябрьская революция, в результате которой к власти пришли большевики. Эти и другие события отразились и на жизни Томской губернии: с марта в городах, а затем и в сельской местности существовало двоевластие (параллельно с органами, представлявшими Временное правительство, получавшими самую широкую поддержку местного населения, действовали структуры Советов, которые, впрочем, не пользовались авторитетом ни у русского, ни у инородческого населения в течение 1917 г.), шли активные процессы суверенизации [20]. Постановлением Временного правительства 17 июня 1917 г. была создана Алтайская губерния с центром в Барнауле, в состав которой вошла вся южная часть бывшей Томской губернии. Кара-Корумский уезд с центром в Улале (нынешний Горно-Алтайск) будет выделен только в марте 1918 г. из состава Бийского уезда. В это бурное время экономическая, культурная и политическая жизнь на юге Западной Сибири продолжалась. Выходили многочисленные газеты, книги, на театральной сцене ставились спектакли, сибирские промышленники продолжали торговые отношения с инородцами и строили планы по разработке многочисленных месторождений полезных ископаемых, развивалось просветительское движение. Для более глубокого понимания процессов формирования образа Горного Алтая в отечественной словесности позднеимперского и раннесоветского периодов необходим анализ не только художественного, но и публицистического материала, особенно в контексте стремительно меняющихся обстоятельств революционного 1917 г. Инородческий вопрос как социальная проблема поднимался во многих периодических изданиях Сибири: «Сибирская жизнь» (1897-1919), «Восточное обозрение» (1882-1906), «Сибирь» (1875-1887), «Сибирская газета» (1881-1888), «Сибирские вопросы» (1905-1913) и др. - Е.А. Сенина в общей сложности насчитала 2569 публикаций, из которых самое большое число приходится на «Восточное обозрение» (1045 публикаций) [21. С. 14]. Один из источников, ускользнувших от внимания Е.А. Сениной, -250 Алексеев П.В., Алексеева А.А. Дискурс о Горном Алтае в газете «Алтай» это небольшая по объему провинциальная газета «Алтай», которая издавалась в Бийске в период с 1911 по 1919 г. Газета определяла себя как издание «внепартийное, прогрессивное», которое «выходит ежедневно, за исключением дней после праздничных». Печаталось издание в типографии «Товарищество» г. Бийска, принадлежавшей Владимиру Александровичу Шпунтовичу (о неоднозначности этой личности можно прочитать в статье «Его обеляют», опубликованной в № 88 газеты «Жизнь Алтая» за 1918 г. [22]). Издателем и редактором «Алтая» являлся надворный советник и мировой судья Петр Васильевич Орнатский. Он не пользовался репутацией «благонадежного» в полицейских кругах [23. С. 19], как и большинство прогрессивных издателей Томской губернии, хотя и явных поводов к закрытию до 1917 г. он не давал. П.В. Орнатский имел либеральные взгляды, поэтому совершенно понятна антибольшевистская направленность политических и информационных материалов его газеты - именно такие взгляды пользовались широкой поддержкой в течение весны - лета 1917 г. Подобный уклон газеты вполне объясняет и то, почему вскоре (в 1919 г.) газета прекратила свое существование. По содержанию газета «Алтай», несмотря на сравнительно небольшие размеры, была весьма информативной. На первой странице, кроме рекламных объявлений, содержалась разнообразная культурная информация (анонсы выставок, театральных постановок и т.д.), а также оперативные новости. В годы Первой мировой войны центральным содержанием первых двух (временами даже трех) страниц газеты была разнообразная политикоэкономическая информация о ходе боевых действий на разных фронтах (например, информация из штаба Верховного главнокомандующего), о политической жизни России, Европы и Азии: известия из Петрограда, Рима, Лондона, Парижа, Стокгольма, Вены, Стамбула, Тифлиса и других городов, так или иначе значимых в контексте происходящих событий. Традиционные новостные рубрики - «Внутренние», «Иностранные», «Последние известия», «Хроника», «Театральная хроника», а также «Корреспонденция» -письма из разных населенных пунктов уезда, а также из дальних уголков империи (например, можно найти письма с Дальнего Востока [24. С. 3]). Упоминания Горного Алтая встречаются редко, специальная рубрика, которая повторялась бы от номера к номеру, отсутствует - можно с уверенностью сказать, что редактор газеты не имел постоянного интереса к инородческому вопросу. В большинстве своем инородцы Алтая фигурируют в криминальной хронике, являясь, как правило, пострадавшими, реже - преступниками. Например, в одном выпуске сообщается о том, что русские крестьяне совершили кражу на сумму 1 150 рублей с пасеки инородца Поликарпа Козлова [25. С. 3], в другом говорится, что в селе Ула-линском «среди улицы поднят со слабыми признаками жизни инородец Егор Макдаяков, позднее скончавшийся от полученных травм». Далее сообщается, что в убийстве «подозревается его жена и два односельчанина, крестьяне Черепанов и Соколов» [26. С. 3]. Русские фамилии обвиняемых, разумеется, не являются гарантией того, что они не были инородцами, но 251 Литературоведение /Literature Studies структура сообщения скорее склоняет читателя к представлению о том, что двое русских крестьян осуществили очередной акт насилия в отношении несчастного народа. В роли преступников из числа нерусского населения также выступают киргизы (казахи), которые, согласно «Хронике», совершают набеги в Кош-Агаче, разбойные нападения, похищения скота и людей [27. С. 4]. В то же время фронтальный просмотр 285 номеров, вышедших в течение 1917 г., позволил обнаружить более крупные тексты, содержащие самый разнообразный имагологический материал: аналитику русско инородческих отношений, а также особенности культуры, быта и психологии алтайских инородцев, живших в горах к югу от Бийска, с точки зрения прогрессивных, но скрытых за псевдонимами или инициалами авторов - к настоящему моменту нам не удалось атрибутировать ни одного текста. Рассмотрим самые значимые из этих публикаций, расположив материал по хронологическому принципу и выделив основные концепты, в динамике составляющие основу образа Горного Алтая и его инородческого населения в передовой газете Бийска. В январском номере автор, подписавшийся псевдонимом «Житель», опубликовал письмо в разделе «Корреспонденция», основная мысль которого заключается в том, что отец-настоятель приходской школы с. Паспаул (около 47 км к востоку от с. Улала - нынешний Горно-Алтайск), является препятствием к просвещению жителей: они жаждут народных чтений, которые так распространены в других населенных пунктах, но настоятель далек от этих проблем, проводя свободное время в «Кредите» (вероятно, это название увеселительного заведения), а учительницы боятся проявлять энтузиазм в страхе перед ним. Важно отметить, что с. Паспаул с 1858 г. было одним из пяти опорных миссионерских селений (Кабыжак, Ташта, Макарьевск, Кылташ, Паспаул), через которые Алтайская духовная миссия начала во второй половине 1850-х гг. осуществлять системную целенаправленную политику христианизации инородческого населения (в Таште и Макарьевске миссии начали работать с 1854 г., в Паспауле - с 1858 г.) [28. С. 329]. Церковно-приходская школа для детей крещеных инородцев в Паспауле и Таште была открыта в 1883 г. Главная мысль статьи легко реконструируется - за обстановкой интеллектуальной темноты небольшого села, почти половину века служившего одним из опорных пунктов христианизации аборигенного населения, скрывается безнадежное положение всего Алтая: «Все притаилось, затихло. Занесло его [Алтай] снегом глубоким. Вокруг - куда ни взглянешь, поднялись высокие горы, снова надевшие царственные белоснежные шапки, да вдали стоит темный лес, мрачный угрюмый» [29. С. 3]. Эти мрачные картины отчасти подкрепляли готический дискурс об Алтае, сложившийся благодаря английскому путешественнику Томасу Аткинсону [30. С. 193]. В конце февраля, через полтора месяца после первого письма, была опубликована новая корреспонденция из Паспаула, на этот раз подписанная псевдонимом «Алтаец». Стилистически и интонационно этот текст 252 Алексеев П.В., Алексеева А.А. Дискурс о Горном Алтае в газете «Алтай» очень близок январской публикации, поэтому можно предположить, что оба текста написаны одним автором (либо подверглись существенной переработке и приобрели стилистические характеристики Орнатского). Однако тема этого письма - позитивная: за месяц в селе произошли изменения и наконец в школе для детей был проведен вечер, в результате которого автор наблюдал, «какою радостью, счастьем горели глазенки ребят-алтайчат ведь для них это ново. Ведь они дети гор Алтая и ничего никогда не видели, кроме этих высоких, гордо возвышающихся исполинов гор, темного, темного леса» [31. С. 3]. Тем не менее культурную отсталость всего региона автор фиксирует при помощи того же готического кода «мрачного Алтая»: «И наше небольшое, окруженное со всех сторон громадами гор, темным, угрюмым лесом, бурными, неспокойными речушками, село начинает просыпаться от сна Спасибо вам, труженицы, на ниве народной, делайте хорошее, доброе дело, сейте семена в глуши красивого могучего, но все еще первобытного Алтая!» [31. С. 3]. Первобытность «детей гор» автор связывает с отсутствием систематической просветительской работы среди инородческого населения: крещеные дети инородческих семей, проживавших в Паспауле, видимо, мало интересовали миссионеров, от которых ждали работу по обращению новых язычников. Очень важен для формирования образа Алтая текст из июньского номера в разделе «Корреспонденция», написанный неким «С.Ш.» и названный «В горах Алтая»1. Проблематика этого текста также связана с вопросом просвещения «темного» населения Алтая, прозябающего в глуши, и направлена на защиту рядовой учительницы от грозного церковного чиновника «отца наблюдателя», который вместо помощи полуразвалившейся школе (населенный пункт не указан) кричит на учительницу и требует чистоты и «отличных знаний от учеников» [33. С. 3]. Как и в материале из Паспаула, здесь формируется контраст между величественной природой гор и первобытным уровнем просветительского движения: «Красив Алтай! Величественны горы его! Сколько красоты, поэзии вокруг. Вот высоко, высоко поднялась к небесам гора «Чаптыган». Стоит она красивая, спокойная, величественная. А у подножия ее, словно гнездышко маленькой птички, приютилось небольшое селеньице Кругом же горы, лес и снова горы, тянутся они далеко вокруг тесным кольцом и пропадают где-то там, вдали в голубоватой дымке. Тихо, спокойно кругом. Разве только слышится заунывная, грустная, щемящая душу тоской, песня алтайца (у 1 Согласно гипотезе Т.П. Шастиной, обнаружившей это словосочетание в многочисленных названиях публицистических и художественных текстов XIX-XX вв. у П. Авилова, П. Бенедиктова, М. Васильева-Потанина, Г. Вяткина, А Коптелова, П. Ку-чияка, П. Нихового и др., это не просто популярное словосочетание, а семиотически значимая «литературная формула пространства иного / другого, моделируемое как экзотическое замкнутое мифогенное пространство временного пребывания Синонимичная формула - “в глуши Алтая”» [32. С. 66]. Статья С.Ш. вполне подтверждает эту мысль. 253 Литературоведение /Literature Studies алтайцев нет веселых песен - грустны они как осенние дни) и... и опять все тихо, спокойно Бедная учительница дрожит, трепещет перед грозным начальником. И много, много по ущельям, трущобам Алтая, разброшено таких жалких, - лачужек школ, где томятся, мучаются, терзаются душой бедные миссионерские учителя. Хочется думать, что это был тяжелый сон, который больше не повторится» [33. С. 3]. В соседнем столбце со статьей «В горах Алтая» абсолютным контрастом была расположена новость «Макарий и инородцы», представляющая просветительское движение в комическом свете как бывших угнетателей, а алтайцев в виде новой силы, уже способной за себя постоять: «На общем собрании представителей селений Чемальской волости 1 июня была заслушана просьба Макария (бывш. Митрополита Московского) о разрешении ему прожить остаток жизни в Чемальском монастыре. Макарий “не верит” в то, что Алтайцы, для которых он когда-то сделал “много доброго” (?) откажут ему в нужном покое. Чемальское волостное народное собрание просьбу бывш. своего миссионера “просветителя” - отклонило» [33. С. 3]. Для понимания исторического контекста этой новости необходимо вспомнить, что 21 марта 1917 г. на епархиальном съезде в Москве Макарий (Михаил Андреевич) Невский был смещен с должности московского митрополита. Активно противодействуя этому «неканоническому», как он полагал, решению Святейшего синода, в апреле 1917 г. он предпринял безуспешные попытки закрепиться в Троице-Сергиевой Лавре, в Смоленской Пустыни, попытался столь же безуспешно сохранить за собой статус председателя Православного миссионерского общества, участвовать в Поместном соборе [34. С. 200-202], на котором патриархом вскоре был избран его «неканонический» преемник по московской кафедре. Заочная просьба Макария о проживании в Чемальском монастыре, отвергнутая алтайскими крещеными инородцами, должна быть рассмотрена в таком широком контексте: с одной стороны, на Алтае не хотели связываться с опальным архиереем, с другой стороны, это был шанс обозначить пробуждавшуюся национальную идентичность и подвести в контексте февральских событий итоги многолетнему союзу алтаря и трона на Алтае1. Тема «несчастных» алтайцев была углублена в июльском номере в статье «Инородческая революция Горного Алтая в 1904 году» и новостном сюжете об инородческом съезде. Статья об инородческой революции расположена вне традиционных рубрик как самостоятельный материал, претендующий на историко-культурный обзор, и подписана фамилией «Тан-гаков». Общий тон статьи Тангакова - антиклерикальный. В основе - противопоставление национального пробуждения инородцев союзу имперских и церковных властей: «В 1757 году инородцы Горного Алтая, перейдя в подданство русского государства со своими землями, жили под давлением русского царизма, ровно сто шестьдесят лет, находясь постоянно в страхе 1 «Возвращение» миссионера на Алтай все-таки состоялось. В 2016 г. останки Макария Невского были перевезены в Горно-Алтайск патриархом Кириллом. 254 Алексеев П.В., Алексеева А.А. Дискурс о Горном Алтае в газете «Алтай» пред п р е с т у п н о й властью прошлого дома Романовых, как и весь русский народ нашего государства. Все инородческое население было загнано в неприступные горы и леса, болота и топи Горного Алтая, причем едва не было прогнано в пределы Монголии и Китая и только лишь благодаря тому, что с них можно было кое-что взять, инородцы задержались в пределах России, ублаготворяя дарами чиновников в виде лошадей, дорогих мехов, денег, так как эти чиновники были падки на взяточничество. Инородцы народ боязливый, а потому чиновники всегда старались находить причины к запугиванию беззащитных инородцев. Не отставали от чиновников и духовные просветители-миссионеры, которые разнообразными принудительными мерами приводили инородцев-язычников в православие, употребляя самые строгие полицейские ухищрения» [35. С. 3]. Далее Тангаков приводит любопытный случай из миссионерской практики: «Один из инородцев - Черной был крещен за кражу галош у так называвшегося в то время Алтайского отдельного заседателя Лан-дышева, причем при крещении Черноя, когда миссионер стал погружать его в купель, то Черной при первом погружении сказал “это за один галош”, при втором “это за другой”, при третьем - “это за то, что воровал калоши”» [35. С. 3]. Возможно, пострадавшим от рук незадачливого инородца был И. Ландышев, который в 1885 г. в качестве помощника алтайского отдельного заседателя проводил по поручению бийской полиции подробное изучение русско-китайской границы [36. С. 181], так что за кражу калош у такого полезного для империи человека Черной еще легко отделался. Действительно, в архивах фиксируются случаи насильственной христианизации в контексте уголовных преступлений, особенно когда инородцы «сами соглашались на крещение, опасаясь наказания» [28. С. 332]. Далее Тангаков замечает, что были и такие просветители, «которые считали возможным делать всяческие придирки к инородцам, чтобы затем взять их на духовно-полицейский крючок и спустить их в купель возрождения духовного, дабы затем заслужить себе скуфью, камилаву, орден и др. награды за успешность в проповеди слова Божия» [35. С. 3]. Подобный образ угнетенных инородцев необходим автору, чтобы затем провозгласить мысль о том, что еще в 1904 г., за год до Первой русской революции, инородческое население (причем в лице туземной аристократии), потеряв «всякое терпение», оформило социальный протест в форму религиозного движения, названного в отчетах православных миссионеров «бурханизм»: инородцы изгнали шарлатанов-шаманов, объявили, что «им царя Романова не надо, не надо и русских чиновников» [35. С. 3]. Таким образом, зарождение бурханизма представляется автору прогрессивным началом, направленным на пробуждение национального духа, угнетаемого царизмом, миссионерами и шаманистами, вместе взятыми. Судя по всему, этот эмоциональный экскурс в историю выступал необходимым контекстом для новости, опубликованной на той же странице, об инородческом съезде 1917 г., где председателем был избран художник 255 Литературоведение /Literature Studies Г.И. Гуркин. Автору важно продемонстрировать, что революционные события Центральной России не просто эхом отозвались в глухих уголках империи - они были исторически ожидаемы там. Действительно, формировался очень положительный образ пробудившихся инородцев, которые взялись за дело фундаментально: поскольку политика Кабинета «внесла в хозяйственную жизнь алтайцев полную разруху, толкнула их на путь вымирания и культурного застоя» [36. С. 3], отныне часть налоговых поступлений с алтайских земель, с дохода граждан, с промысловой деятельности, должна идти на «культурно-просветительские цели» [36. С. 3]. Автор статьи, очевидно, сочувственно относился к идеям областников (в частности, Г.Н. Потанина) о создании инородческой автономии, которая бы объединила земли Русского Алтая и примыкающих к нему областей Монголии. Два дня спустя, в 144-м номере от 7 июля 1917 г. вышла статья за подписью «А.Н.Л.» под названием «Шаманисты и революция», где вновь ставятся вопросы национальной идентичности алтайцев, их архаического мировоззрения и роли русского населения в их просвещении. Автор прославляет революционные события, освободившие народ Алтая, «этих детей природы», от «ненавистного ига, тяжкими тучами висевшего над царственными вершинами Хан Алтая» [37. С. 3]. В тексте формируется противопоставление старого и нового статуса шамана и шаманского культа в жизни алтайцев. В прежние времена, считает автор, камлание было показным представлением «на посмешище толпы» [37. С. 3], и приводит пример С.И. Гуркина1, православного по вероисповеданию, который возил с собой 1 Имеется в виду Степан Иванович Гуркин, брат алтайского художника Г.И. Гуркина. Подробное описание шаманского камлания в Политехническом музее Москвы описано в статье «Сибиряки в Москве», опубликованной в 66-м номере газеты «Сибирская жизнь» за 1914 г.: Пульс сибирской жизни порой в Москве бьется сильно. 8-го марта, кажется, впервые в Москве произведен был обряд камлания настоящим шаманом. В Москву приехал с Алтая С.И. Гуркин. Г. Гуркин привез с Алтая шамана, калмыка Болчок. Первое демонстрирование камлания шамана перед москвичами состоялось в политехническом музее, в соединенном заседании общества любителей естествознания, антропологии и этнографии. В переполненной аудитории г. Гуркин прочел доклад «Алтай и алтайцы» с демонстрацией многочисленных прекрасно выполненных, часто художественно раскрашенных видов и типов Алтая. Лекция продолжалась около 2 часов, и москвичи с напряженным вниманием следили за красотами Алтая, восхищаясь им и удивляясь им. По окончании доклада на эстраду вышел шаман Болчок в полном шаманском костюме, символизирующем броню для борьбы со злыми духами и украшенном колокольцами, куклами, лентами-змеями и т.п., с традиционным бубном и колотушкой в руках... По мере того, как движения шамана, вначале вялые и нерешительные, становились быстрыми и все более нервными, и сама публика заражалась его нервозностью, вздрагивала при свисте, криках и, затаив дыхание, слушала песню светлому Ульгеню-хану. Сеанс продолжался минут 8 и, по просьбе Д.Н. Анучина, видевшего волнение публики, г. Гуркин вышел на эстраду и пытался прекратить сеанс. Но шаман не обращал на г. Гуркина внимания, и ему пришлось силой отнять бубен. Таким образом, в Москве начались своего рода «шаманские» дни, вызывающие большой интерес в москвичах [38. С. 3]. 256 Алексеев П.В., Алексеева А.А. Дискурс о Горном Алтае в газете «Алтай» по всей России от Томска до Москвы шамана Болчока, чтобы тот выступал перед публикой и получал за это «разовые» выплаты. И уже казалось, пишет автор, первобытная религия из древних горных алтайских долин и ущелий переходит навсегда в историю, «тем более, что на смену ему уже давно принесли и силой, зачастую, прививали христианство» [37. С. 3], а в 1904 г. появляется и бурханизм, «нечто похожее на ламаизм Монголии, но ошаманившееся» [37. С. 3], но после революции все существенно изменилось. Шаманисты внезапно осознали, что в послереволюционном свободном Алтае эта религия «ведь тоже религия и, как всякое убеждение человека, должна быть свободной» [37. С. 3]. Далее автор рисует яркую картину демократического собрания инородцев: Меня обступили алтайцы и засыпали целым рядом вопросов: - Правда ли, что теперь каждый может верить, как и кому хочется? - И молиться ли может, как ему хочется? - И в училищах, какую захочет веру будет учить? Но главное и, кажется важнейшее для этих людей: - В школе наших детей [шаман] может учить? [37. С. 3]. Завершается текст довольно эмоционально: Странный, неожиданный вопрос, но как понятен он! Ведь, какой насмешкой звучит: шаманизм - и автономия, широкое самоуправление на основах государственности высшего порядка! Какая злая ирония в сочетаниях этих двух понятий! Сколько света, яркого, ослепительного света знания надо пролить в эти мрачные ущелья Хан Алтая! Какую широкую густую сеть школ надо раскинуть по его горам и долам. Не забывайте и этого вы, творцы новой России! Не забывайте тех, перед которыми так много виноваты, которых держали в черном теле, которых не считали даже за людей! Помните и о них!.. [37. С. 3]. Столь резкое заявление, появившееся в сибирской печати в потоке революционных событий 1917 г., ставит перед бийскими читателями важный вопрос об ответственности не только властей, но также просветительских кругов перед аборигенным населением: если коренные жители «царственного Алтая» из всех достижений свободы после крушения царской власти выбирают возвращение самых диких пережитков прошлого, значит что-то в русско-инородческих отношениях идет не так. Во второй половине XX в. подобные аспекты общественных дискурсов будут именовать «постколониальными», однако в отношении материалов бийской газеты 1917 г. лучше говорить о развитии дискурса деконструкции имперских практик в провинциальной печати. В течение года, в августе, сентябре и начале октября 1917 г., А.Н.Л. опубликовал еще несколько материалов подобной тематики: публицистические статьи «Миссионеры и Алтайская школа», «Русский язык в алтайской школе» и две части художественного очерка «Сын Алтая» (к сожалению, незаконченного). Из этих материалов можно заключить, что автор имел определенное отношение к государственным вопросам взаимодействия с алтайскими инородцами, скорее всего, в сфере образования 257 Литературоведение /Literature Studies (например, он ссылается на протоколы Алтайской секции Учительского съезда), был хорошо образован и имел скорее либеральные взгляды на проблемы развития образовательной и просветительской деятельности на Алтае. К алтайской культуре он относился уважительно, но при этом позволял себе высказывать резкие характеристики в отношении тех крайностей, которые, по его мнению, влекут народы к конфликтам и деградации. Например, в статье «Миссионеры и Алтайская школа» А.Н.Л. с антиклерикальных позиций оценил миссионерскую активность в деле распространения религиозного образования вопреки протестам алтайской общественности: «Если бы вожделения отцов-миссионеров ограничились школами какого-нибудь одного типа, ну хотя бы миссионерского, не распространяясь на общегосударственную школу - это было бы понятно. Беда же в том, что п р и т я з а н и я эти довольно широки, вплоть до обязательного преподавания закона Божьего в общей школе. Но помимо того, что обязательность является лишней, едва ли морально полезной для кого бы то ни было из православных, в отношении алтайцев - она не допустима» [39. С. 3]. Далее он призывает читателей «снять маску», отбросить насильственную христианизацию, из-за которой алтайцы сознательно не пускают своих детей в школу: «Пора осознать, что почти все алтайцы, именующиеся по паспорту православными, не принадлежат к церкви, а продолжают молиться Эрлику и Ульгеню, или Учь-Курбустану» [39. С. 3]. Очевидно, что неудержимая миссионерская деятельность церкви вызывала тревогу автора исключительно по причине того, что приобщение алтайцев к цивилизации в таком случае ставилось под угрозу. Еще одной угрозой просвещения алтайцев А.Н.Л. называет стремление националистически настроенной Алтайской горной думы ввести практику обязательного преподавания в национальных школах на алтайском языке, переведя русский в разряд необязательных. Это невиданное ранее нововведение представляется автору неверным и крайне вредным: «Я далёк от мысли возражать против обучения алтайцев на их родном языке», но «несомненно, благодаря некультурности алтайцев и антагонизму к русским, слишком немногие родители пожелают обучать своих детей русскому языку» [39. С. 3]. В его представлении алтайцы крайне нуждаются в целостном просвещении на русском языке: «...народность, еще не переставшая “камлать”, имеющая самые примитивные понятия о земледелии и вообще стоящая на очень низкой ступени развития - не должна замыкаться в узкий круг своего местообитания и своего языка, а особенно тогда, когда она живет бок о бок с народом, составляющим государство, частью которого является данная антропогеографическая область для школ Алтая русский язык как общегосударственный -должен быть обязательным, хотя бы уже потому, что Алтайская школа открывается и содержится за счет государства» [39. С. 3]. Таким образом, можно заключить, что в период с января по октябрь 1917 г. в бийской газете «Алтай» образ Горного Алтая и его инородческого населения становился все более политизированным, при этом сохраняя все 258 Алексеев П.В., Алексеева А.А. Дискурс о Горном Алтае в газете «Алтай» традиционные черты одновременно мрачного и возвышенного пространства Южной Сибири. Наряду с первоначальными редкими сообщениями криминального характера после Февральской революции появляются критические материалы о крайне низком уровне просветительской работы, которую более полувека осуществляли функционеры Алтайской духовной миссии (на примере с. Паспаул). Весной и в начале лета 1917 г. тема просвещения среди алтайских инородцев стала основной в материалах о Горном Алтае. По контрасту с величественным экзотическим пространством Хан-Алтая инородцы изображаются в крайне угнетенном состоянии. При этом в роли угнетателей определены царская власть, православная миссия и шаманы. К концу августа публикации по теме просвещения среди инородцев приобрели более решительный характер, определяющий, что православная миссия должна умерить свои притязания на общее образование, а алтайские националисты, в свою очередь, должны забыть об исключении русского языка из образовательной практики национальных школ, которых вообще требуется довольно много для того, чтобы «дети гор» наконец перешли в цивилизованное состояние. Подобный просветительский (и отчасти уже постколониальный) взгляд в дискурсе бийской газеты в течение 1917 г. отнюдь не разрушал, а, наоборот, подтверждал основные концепты сложившегося в течение предыдущего XIX в. в общественном сознании России (и Европы - благодаря, например, травелогу Е.П. Демидова [40]) дискурса об Алтае как прекраснейшем поэтическом месте, населенном диким, угнетенным народом, который русские никак не могут (или не хотят) привести к цивилизации.
Шастина Т.П. Горный Алтай: бренд национальной окраины в раннесоветском и постсоветском иллюстрированном журнале // Журналистский ежегодник. 2015. № 4. С. 109-114.
Fanon F. Peau noire, Masques blancs. Paris : Editions du Seuil, 1952. 239 p.
Martin T. An Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca : Cornell University Press, 2001. 496 p.
Slezkine Yu. Arctic Mirrors: Russia and the Small Peoples of the North. Ithaca : Cornell University Press, 1994. 456 p.
Etkind A.Internal Colonization: Russia's Imperial Experience. Cambridge : Polity Press, 2011. IX, 289 р.
Уффельман Д. Подводные камни внутренней (де)колонизации России // Политическая концептология. 2013. № 2. С. 57-84.
Шастина Т.П. Ойротия на страницах журнала «Сибирские огни»: начальный этап формирования образа советской национальной окраины // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 4 (30). С. 158-172.
Шастина Т.П. Об идеологической и художественной стратегиях репрезентации Горного Алтая в русской литературе 1920-х годов // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 378. С. 53-65.
Шастина Т.П. Английская леди в “wild space” Сибири (по книге Mrs. L. Atkinson “Recollections of Tartar Steppes and Their Inhabitants”) // Studia Litterarum. 2018. Т. 3, № 3. С. 64-81.
Горбенко А.Ю. Жизнестроительство Г.Д. Гребенщикова: генезис, механизмы, семантика, контекст : дис.. канд. филол. наук. Красноярск, 2016. 206 с.
Слезкин Ю. СССР как коммунальная квартира, или Каким образом социалистическое государство поощряло этническую обособленность // Американская русистика: Вехи историографии последних лет : антология. Советский период. Самара, 2001. С. 329-374.
Куляпин А.И. Образ Алтая в рассказе В. Бианки «Она» // Филология и человек. 2019. № 2. С. 45-56.
Куляпин А.И. Образ Алтая в литературе 1920-1940-х годов // Филология и человек. 2013. № 1. С. 168-178.
Богумил Т.А. Алтай в биографии и творчестве В.Я. Шишкова («Алые сугробы») // Имагология и компаративистика. 2020. № 13. С. 128-140.
Богумил Т.А. Семантика Чуйского тракта в русской литературе // Проблемы исторической поэтики. 2018. Т. 16, № 3. С. 200-221.
Жилякова Н.В. Журналистика дореволюционной Томской губернии: идея областничества. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. 288 с.
Жилякова Н.В., Шевцов В.В., Евдокимова Е.В. Периодическая печать Томской губернии (1857-1916 гг.): становление журналистики и формирование регионального самосознания : учеб. пособие. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. Т. 1. 292 с.
Крутовский Вс. Периодическая печать в Томске // Город Томск. Томск, 1912. С. 279-309.
Жилякова Н.В. Диалог русской и инородческой культур на страницах периодической печати Томской губернии (конец XIX начало ХХ века) // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 6. С. 19-25.
Сушко А.В. Процессы суверенизации в Сибири (февраль 1917-1923 г.) : автореф. дис.. д-ра ист. наук. Тюмень, 2011. 40 с.
Сенина Е.А. «Инородческий» вопрос на страницах сибирской периодической печати во второй половине XIX - начале XX века : автореф. дис.. канд. ист. наук. Иркутск, 2005. 29 с.
[Б/а]. Его обеляют // Жизнь Алтая. 1918. № 88. 12 окт.
Книжная культура Томска (XIX - начало XX в.) / под общ. ред. В.А. Есиповой, Т.Л. Воробьевой. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2014. 416 с.
С.Ж. Письма с Дальнего Востока // Алтай. 1917. № 15. 19 янв.
[Б/а]. Хроника // Алтай. 1917. № 14. 18 янв.
[Б/а]. Хроника // Алтай. 1917. № 23. 28 янв.
[Б/а]. Хроника // Алтай. 1917. № 144. 7 июля.
Николаев В.В. Алтайская духовная миссия и «инородцы» предгорий Северного Алтая // Проблемы истории, филологии, культуры. 2010. № 4. С. 329-335.
[Б/а]. Житель. Село Паспаул, Бийск. у. // Алтай. 1917. № 8. 11 янв.
Мароши В.В. Глазами художника: Горный Алтай в травелоге Т.У. Аткинсона // Культура и текст. 2018. № 4 (35). С. 181-198.
[Б/а]. Хроника // Алтай. 1917. № 42. 23 февр.
Шастина Т.П. «В горах Алтая» - формула представления пространства в текстах XIX - начала XX веков // Материалы Первого Международного алтаистического форума «Тюрко-монгольский мир большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Барнаул - Горно-Алтайск, 12-14 сент. 2019 г. Барнаул, 2019. С. 65-66.
С.Ш. В горах Алтая // Алтай. 1917. № 121. 9 июня.
Расова Н.В. Судьба иерарха Русской Православной Церкви Макария Невского через призму революционных событий 1917 года // Макарьевские чтения : сб. науч. ст. Горно-Алтайск, 2002. С. 14-17.
Тангаков. Инородческая революция Горного Алтая в 1904 году // Алтай. 1917. № 142. 5 июля.
Дацышен В.Г. Очерки истории Монголии в XIX - первой четверти XX вв. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 232 с.
А.Н.Л. Шаманисты и революция // Алтай. 1917. № 144. 7 июля.
[Б/а]. Сибиряки в Москве // Сибирская жизнь. 1914. № 66. 28 марта.
А.Н.Л. Миссионеры и Алтайская школа // Алтай. 1917. № 170. 6 авг.
Алексеев П.В., Алексеева А.А., Брекман Ф. "Tartars" and "Kalmuks" in Prince San Donato’s Siberian Travelogue // Мир науки, культуры, образования. 2020. № 3 (82). С. 555-557.
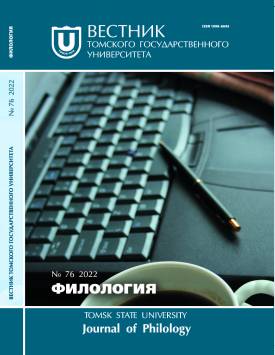

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью