На материале нефикциональной прозы (статьи, очерки, мемуары и т.д.) и эпистолярия Г.Д. Гребенщикова исследуются стратегии его литературной самоканонизации. Обосновывается, что она строилась на ряде инвариантных приемов, главным из которых стали разноплановые самопроекции на фигуры классиков - прежде всего А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого. Такая практика стала для Гребенщикова одновременно способом формирования его персональной писательской мифологии, важным жизнетворческим ресурсом и инструментом институционального строительства. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
“The Heir in a Straight Line”: Mechanisms and functions of George Grebenstchikov’s literary self-canonizaton.pdf В этой статье мы ставим целью рассмотреть механизмы и прагматику разножанровых вербальных текстов и поведенческих жестов Г.Д. Гребенщикова, направленных на решение задачи его литературной автоканонизации. При этом мы будем различать риторическую активность (автомифотворчество) и пересечение границы между реальностью и искусством в области повседневного (или «бытового», по Ю.И. Лотману) поведения (жизнетворчество). Для достижения этой цели сначала необходимо описать концептуальную рамку, в которую мы поместим исследуемый материал. Проблема апелляции к идее классики или к отдельным представителям литературного канона в целях легитимации собственных позиций подробно разработана в гуманитарной науке последних десятилетий на разном материале. Позиции исследователей, как правило, различаются в зависимости от понимания канона либо как «инструмента социальной доминации» («социоло-283 Литературоведение /Literature Studies гическое направление»), либо как корпуса произведений, которым имманентно присущ набор эталонных этических и эстетических качеств, которых лишены другие произведения («аксиологическое направление») [1. С. 11-15] (ср.: [2. С. 8-9]). Мы, вслед за представителями «социологического направления», будем понимать литературный канон как инструмент идеологической борьбы, обладающий существенным потенциалом не только внутри литературного поля, но и за его пределами - в поле власти, поскольку такой подход более всего соответствует специфике жестов Гребенщикова, направленных на решение задачи литературной самоканонизации. По словам С.Н. Зенкина, «[п]ретендуя на тотальный контроль культурного пространства, классика служит институтом власти, и априори ясно, что борьба за канонизацию того или иного литературного факта или за интерпретацию уже освященных традицией “классических” текстов всегда представляет собой более или менее скрытую идеологическую борьбу» [3. С. 32-33]. Такая ситуация предполагает, что литературным «авторитетом назначают его конструируют» [4. С. 324]. Иначе говоря, для создания классики «необходима санкция публичной власти» [5. С. 134]. Наконец, мы согласны с тем, что одна из главных социальных функций идеи классики состоит в «апелляци[и] к образцам и авторитетам “прошлого”, с которыми устанавливались отношения “наследования” » [6. С. 10]. В такой перспективе становится ясно, что конструирование связей преемственности по отношению к классике может приобретать характер насущной потребности для начинающего автора, тем более для представителя социальных низов, не обладающего достаточным для достижения поставленных целей символическим капиталом. Подобное понимание литературного канона не исключает попыток его «присвоения» какими-либо социальными или литературными группами1 или даже отдельными людьми. Именно таков случай Гребенщикова, обсуждая который следует говорить об автоканонизации, понимаемой нами как совокупность усилий автора, направленных на самостоятельное вхождение в литературный пантеон, т. е. своего рода «узурпацию» статуса классики. Исходя из «социологического» подхода, следует признать, что автоканонизация едва ли возможна как таковая (это отличает его, например, от влиятельного подхода Х. Блума2). Однако констатация теоретической не- 1 Среди работ, выполненных на отечественном материале и посвященных конструированию канона или его отдельных фрагментов литературными группами с целью самоопределения, самоописания, автолегитимации внутри литературного и - шире -культурного поля, укажем те, в которых исследуются различные как в хронологическом, так и в социокультурном отношении фигуры и практики: [7. С. 531-599; 8. С. 6473; 9. С. 180-2731. 2 Правда, Блум, утверждавший, что «всякая сильная литературная самобытность становится канонической» [10. С. 38], постулировал не возможность «узурпации» классического статуса в результате автомифотворческой и/или жизнетворческой работы, а 284 Горбенко А.Ю. Литературная автоканонизация Г.Д. Гребенщикова возможности самоканонизации изнутри определенной теоретической рамки никак не исключает попыток достижения этой задачи на практике. Если добавить к сказанному идею о каноничности как «мер[е] повторяемости, воспроизводимости в культуре» [12. С. 68], то процесс автоканонизации можно рассматривать как сочетание двух компонентов: 1) всесторонняя популяризация собственной фигуры, в широком смысле самореклама; 2) конструирование (или, при их реальном наличии, систематическое акцентирование и мифологизация) родственных связей с классиками и/или символического наследования им, продолжения их «традиций». Мы сосредоточимся на втором аспекте (хотя полностью отделить их друг от друга едва ли возможно), поскольку анализ гребенщиковской саморекламы требует отдельного исследования. Обсуждение этого аспекта необходимо начать с реконструкции литературной позиции Гребенщикова и его версии канона национальной словесности. Сразу оговоримся, что ключевые автомифотворческие и жизнетворческие стратегии Гребенщикова, как и его эстетические взгляды, можно без всякого насилия над материалом описать как систему, состоящую из констант и в общем виде сложившуюся и оформившуюся уже в 1910-е гг. Постараемся проследить этот набор инвариантов, всякий раз акцентируя внимание на динамике отдельных аспектов, которая становится тем важнее, чем стабильнее система в целом. Гребенщиков неизменно позиционировал себя как литературного «кон-серватора»1. Так, в программном письме к М. Горькому от 17 апреля 1928 г. он утверждал: «Я люблю действие упорное и люблю свою скромную роль в литературе. У меня тоже есть своя правда, несколько консервативная, но прочная» [14. Т. 4. С. 478]. Заявляя о решительном неприятии современных ему экспериментов в области поэтики и эстетики, Гребенщиков связывал с этим свою «роль в литературе» - «скромную», но особую. «Меня ни с какой стороны не соблазнила “новизна” выдвинутых револю-циею форм письма. Я становлюсь еще более упрямым в смысле простоты изложения моих мыслей и поэтому думаю, что меня “новая” литера-неизбежность классикализации литературы высокого эстетического уровня. Концептуальную и эвристически ценную критику построений Блума, в частности его размышлений о самоканонизации «сильного» автора, см.: [11]. Ямпольский подчеркивает, что «сколь бы “оригинальным” в блумовском понимании ни был тот или иной исторический роман, как бы ни владел его автор фигуративным языком и прочими атрибутами “сильного автора”, социальный консенсус, связанный с системой жанров, будет препятствовать его канонизации» [11. С. 216]. Разумеется, сказанное касается не только жанра исторического романа. 1 Такое самоопределение соответствует разграничению «консерватизма» и «традиционализма», предпринятому К. Мангеймом. См.: [13. С. 593-597]. Согласно Мангейму, «традиционалистское поведение представляет собой практически чистую серию реакций на раздражители». Консервативное же поведение, напротив, «осмысленно, вдобавок осмыслено по отношению к изменяющимся от эпохи к эпохе обстоятельствам» [13. С. 596]. 285 Литературоведение /Literature Studies тура исключит из списка нужных литераторов», - писал он Горькому в марте 1922 г. [14. Т. 3. С. 482], демонстрируя заключением в кавычки слов «новизна» и «новая» иронически-снисходительное отношение к модернистским и авангардным способам письма. Определяя свое место в литературном процессе эпохи, Гребенщиков активно использовал биолого-органицистскую метафорику (к которой прибегал с самых ранних эпистолярных самоописаний сибирского периода). Зачастую он эксплуатировал этот метафорический арсенал, характеризуя литературные течения как «здоровые» или «больные». Так, в статье «Певун-размыка-чародей» (1915), посвященной поэзии Н.А. Клюева, он утверждал, что «песни» последнего «благоухают ароматом неувядших полевых цветов, ладаном, искуряемым соснами и елями, они озарены пурпуром предрассветных зорь, обвеяны освежающей прохладою глубокой мудрости и согреты незакатным солнцем пантеизма» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]. По мнению Гребенщикова, «[п]оэзия Клюева - нечаянная радость для издерганного, переутомленного русского читателя», уставшего от «изящны[х], но холодны[х] и бездушны[х]» стихов «ярко[го] созвездии[я] русской поэзии под буквой “Б”» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]1. Имелись в виду Брюсов, Бунин, Блок и Бальмонт, которые «часто создают изумительно изящные, но холодные и бездушные изваяния своей музы» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]2. Принципиально значимо здесь то, что Гребенщиков принимал стилизованность модернистской поэзии Клюева3 за «народную» простоту, а его самого характеризовал как «пришельц[а] из просторов полей и лесов Олонецкой губернии, просто[го] пахар[я] и мужик[а] с “огнекрылою душой” и “просветленным взором”» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]. Схожее непонимание встречается и в описании Есенина, данном Гребенщиковым в очерке «Сережа Есенин» (1926), где автор называет поэта «братом моим крестьянином» и утверждает, что «богатыри-москвичи, разодевши обоих поэтов (Есенина и Клюева. - А.Г.) в шелковые рубахи и сафьяновые сапоги, носились с ними» [14. Т. 4. С. 448, 446]4. Лишая, таким образом, Клюева и Есе- 1 В финале статьи Гребенщиков называет «песни Клюева» «чисты[м] воздух[ом] для читателя, отравленного и оскорбленного “футуристическими” кривляньями нашего времени...» [15. Ед. хр. 467/1. Л. 1]. 2 Вскоре Гребенщиков изменил отношение к этим поэтам. Так, подружившись с Бальмонтом во Франции, в очерке «Бальмонт» (1921) Гребенщиков ставил его в один ряд с Пушкиным и Л.Н. Толстым: «Благодаря Бальмонту, как и благодаря Пушкину, и Льву Толстому, и еще целому ряду божественных гостей земли, я делаю тот необходимый для моего земного существования вывод, который делает все мои скорби, все унижения и человеческие несправедливости ничтожными и легко переносимыми, а именно: раз существовали Пушкин и Толстой, и существует Бальмонт, и непрерывная, хотя и нежно-тонкая цепь воплощенных в грешную землю плоть ангелов, - значит есть Бог» [16. С. 179]. 3 См. об этом, например: [17. С. 5-88]. 4 Факты свидетельствуют о прямо противоположном - Клюев и Есенин целенаправленно «разодевали» себя сами, заказав, например, для московских выступлений начала 1916 г. «концертные костюмы и сапоги» [18. С. 102]. 286 Горбенко А.Ю. Литературная автоканонизация Г.Д. Гребенщикова нина субъектности, Гребенщиков игнорирует сознательную театрализацию поведения «новокрестьянских» поэтов, «стро[ивших] на приверженности» к одному из «извод[ов] “национального творчества” свой литературный успех» и взявшихся «ввести в литературный мейнстрим модернизма голос современной деревни» [19. С. 185]. Очевидно, что и в случае Клюева и Есенина, и в случае самого Г ребен-щикова аудитории предлагались жизнетворческие перформансы, с той разницей, что Гребенщиков, одевавшийся подчеркнуто «по-городскому», не использовал семиотические возможности костюма как инструмента презентации собственного «крестьянского» мифа. Эти перформансы программировали рецепцию «искусственного», стилизованного поведения литераторов в качестве «естественного» и «природного»1. В этой же перспективе важна приводимая Гребенщиковым характеристика, которая, по его словам, была дана ему Есениным. Если верить Гребенщикову, Есенин, встретив выходца из Сибири в Берлине, «тоном мудрого старца» укорял его: «Почему вы не в России? Что, у вас голубая кровь? Ведь вы же наш брат, Ерема!..» и «даже братски хлопнул меня по плечу» [14. Т. 4. С. 447, 448]. Семиотически эта ситуация прочитывается как легитимация искомого Гребенщиковым статуса писателя «из народа». При этом легитимирующей инстанцией является Есенин - поэт, чья «народность», как уже говорилось, была остро проблематической, «сконструированной», т. е. явилась результатом жизнетворческой активности, как и в случае Гребенщикова, что было очевидно уже многим современникам2. Вернемся к эстетическим декларациям Гребенщикова. В программной (пусть и оставшейся неопубликованной) статье середины 1920-х гг. «О судьбе русской литературы» Гребенщиков продолжал размышлять о «здоровой» и «больной» литературе, подчеркивая, что «ни одного футуриста, ни имажиниста, ни другого иста нѣтъ там (в России. - А.Г.) изъ народа» [15. Ед. хр. 699/7. Л. 4]. В этой статье (как и во многих других своих эмигрантских сочинениях - как фикциональных, так и нефикциональных) Гребенщиков демонстративно использовал и для машинописи, и для рукописной правки дореволюционный алфавит, что создавало гомологию консервативного содержания его трудов и их формы в самом буквальном, графическом, смысле (именно поэтому мы считаем необходимым сохранить графику, орфографию и пунктуацию Гребенщикова во всех случаях). Показательно, что и спустя десятилетия, 19 апреля 1956 г., в письме, адресованном жившей в США старообрядке Вассе Колесниковой и иллюстрирующем неизменность декларируемого Гребенщиковым предпочтения «реалистического» «модерному», писатель вновь прибегает к сходному метафорическому арсеналу. Поблагодарив свою корреспондентку за приложенное ею письмо «матушки Аполлинарии», Гребенщиков заключает: 1 Об основанных на автомифологизации литературных стратегиях Есенина см.: [20, 21]. 2 Специально о жизнетворческих «переодеваниях» Есенина и Клюева и реакции на них современников см., например: [18. С. 102-134]. 287 Литературоведение /Literature Studies «Теперь не только так писать не умеют, но и мыслить так не способны», после чего формулирует парадигмальный для своего мировоззрения тезис: «Все это модерное при самом всходе сгнивает и пошлостью своей не нахвалится» [22. С. 89]. В этой перспективе вполне логичны и закономерны разноплановые самопроекции Гребенщикова на тех классиков русской литературы, которых он считал реалистами. Пожалуй, наиболее упорядоченная и развернутая гребенщиковская версия национального литературного канона содержится в его письме к Горькому от 17 апреля 1928 г., приуроченном к 60-летию последнего. Здесь А. С. Пушкин, открывающий классический канон, назван «мо[им] Богом, как бы ни сложилось будущее безбожие», а И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой и сам Горький охарактеризованы как «три великие ступени Русской Литературы» [14. Т. 4. С. 478-479]1. Включение в канон Горького в адресованном ему письме может быть интерпретировано и как часть «юбилейной» риторики всего текста (особенно если учесть, что Гребенщиков придавал большое значение разного рода юбилеям и юбилейным ритуалам), и как попытка восстановить эпистолярный диалог между литераторами, прерывание которого, судя по самым разным свидетельствам, тяжело переживалось Гребенщиковым. Так или иначе, Г орький имел для автора «Чураевых» меньший символический вес, нежели Толстой и тем более Пушкин, и его фигура не была окружена таким сакральным ореолом. Тургенев же, насколько можно судить по обширному наследию Гребенщикова, не стал объектом его автомифотворческих и жизнестроительных самопроекций. Гребенщиков всячески акцентировал момент «учебы» у классиков и их благотворное влияние на собственное творчество. В этом же письме Горькому «три великие ступени Русской Литературы» названы «тр[емя] мои[ми] литературны[ми] учителями]» и «моими как бы спутниками в жизни» [14. Т. 4. С. 478-479]. Едва ли случайно, что контуры канона были наиболее четко обрисованы Гребенщиковым уже в эмиграции - нужно учесть принципиальную важность жизнетворческого самоопределения литераторов-эмигрантов «первой волны», в среде которых зародилась мифологема Серебряного века, с помощью сопоставления собственного творчества и биографий со случаями классиков - представителей века золотого . Самыми многочисленными оказались примеры ориентации сибирского литератора на фигуру Л.Н. Толстого. Нам уже приходилось писать о «тол- 1 Ср. принципиально иной перечень, включавший исключительно современников, с характерным уверением в отсутствии амбиций встать с ними в один ряд, в наброске «О писателе, редакторе и читателе» (1952): « я никогда не ставил себя в иконостас больших писателей, начиная по алфавиту: Алданов, Бунин, Зайцев, Ремизов и ещё кто?..» [15. Ед. хр. 56739/149. Л. 4]. 2 Анализ механизмов и прагматических задач рецепции творческого наследия и биографических образов классиков (на примерах рецепции наследия «первого русского романтика» В. А. Жуковского) отечественными писателями, прежде всего представителями русской эмиграции, см.: [8]. 288 Горбенко А.Ю. Литературная автоканонизация Г.Д. Гребенщикова стовском» компоненте жизнетворчества Гребенщикова (см.: [23, 24]). Поэтому здесь мы вкратце напомним об этой составляющей стратегий автора «Чураевых», но в несколько иной теоретико-методологической перспективе, рассматривая «толстовский» субстрат как факт не только жизнестроительной, но и автомифотворческой активности писателя1. Кроме того, мы привлекаем ряд новых материалов, в том числе архивных (некоторые из них вводятся в научный оборот). Все это в совокупности с новыми аналитическими наблюдениями позволит, как нам представляется, существенно 2 расширить и уточнить уже имеющуюся картину . Принципиально важна оговорка, с которой Гребенщиков начал свой очерк «У Льва Толстого» (1925), фактически декларируя недопустимость практики, которую мы называем автоканонизацией: Лучшие традиции русской литературы не позволяют кому бы то ни было говорить или писать о себе. В особенности это недопустимо тогда, когда речь идет о каком-либо великом человеке. Но бывают исключения, в особенности для людей с открытою совестью, когда им хочется публично каяться и в покаянии своем найти особую радость не только для себя, но и для других. Я почти никогда не рассказывал и не писал о моей встрече с Львом Толстым, потому что мне трудно отделить огромную фигуру Льва Толстого от собственной персоны. Ибо рассказ о Толстом - это рассказ о нем в моих переживаниях [14. Т. 4. С. 418]. Однако к 1925 г. Гребенщикову уже несколько раз довелось рассказывать о встрече с Толстым, прежде всего в двух очерках («В Ясной Поляне» 1910 г., «Памяти Великого» 1915 г.) и «Автобиографической заметке 1922 года». В поздние годы Гребенщиков с разной степенью подробности возвращался к этой истории - в заметке «Волнуемся, как море-океан...» (1956), очерках, письмах, используя для этого самые разные поводы3. 1 Помимо всего прочего, во время написания указанных работ мы стремились теоретически разграничить понятия «жизнетворчество» и «жизнестроительство», применяя к случаю Гребенщикова последнее. Сейчас же мы используем эти понятия как синонимические. 2 Далее, рассматривая самопроекции Гребенщикова на наследие и биографию Толстого, мы частично опираемся на работу [23]. 3 Например, уже подзаголовок упомянутой заметки «Волнуемся, как мореокеан.» - «По поводу все того же фильма “Война и мир” Толстого» - свидетельствует о том, что фильм стал лишь поводом в очередной раз рассказать о своей поездке в Ясную Поляну, в ходе этого рассказа с неизбежностью переходя к «письму о себе». Судя по датировке машинописного текста (26 октября 1956 г.), речь идет о фильме К. Видора «Война и мир», вышедшем на экраны в том же году. Любопытно, что для названия «толстовской» заметки Гребенщиков использует искаженную цитату из «Бориса Годунова». Несколько иначе эта же цитата искажена в очерке «В гостях у Пушкина», который будет рассматриваться в качестве другого значимого примера автоканонизации Гребенщикова. Там она вложена в уста говорящего с рассказчиком поэта: «Представь себе, чего только я не насмотрелся в одной только Москве, на Тверском бульваре, с тех пор как там меня поставили!.. Шестьдесят семь лет я там стою и день и ночь и смотрю, как мимо меня проходит время, “событий полно, волнуется, как море-океан”.» [14. Т. 6. С. 377]. 289 Литературоведение /Literature Studies И всякий раз, рассказывая о встрече с Толстым, он «говорил или писал о себе». Единственная встреча Гребенщикова с Толстым произошла на раннем этапе писательской карьеры сибиряка. В марте 1909 г., после болезненно воспринятой им критики омской премьеры его дебютной пьесы «Сын народа», Гребенщиков предпринял решительный шаг - поездку в Ясную Поляну к Толстому, который, по замечанию Джеффри Брукса, к началу XX в. «олицетворял классическое наследие», что пытались использовать в своих интересах различные группы русского общества [25. P. 323]. Целью поездки, которую Гребенщиков описывал как литературное «паломничество»1, было получение «благословения» на писательство2. Эта цель была достигнута, что дало Гребенщикову возможность отвести Толстому в своем мифо-биографическом нарративе о писателе «из народа» целый набор ролей, так или иначе варьирующих образ символического предка. Что касается собственно литературы, то работа над opus magnum Гребенщикова - многотомным романом «Чураевы» - шла в перспективе сопоставления его с «Войной и миром». Эти сравнения образовали довольно широкий спектр - от полного риторического отождествления двух книг в письме к Горькому, датированном февралем 1918 г. [14. Т. 3. С. 468]3, до характеристики своего романа как более «народного», нежели «Война и мир»4. Параллельно с этим Гребенщиков не раз писал о «Войне и мире» как о сакральной книге, «”Святая Святых”5 нашей отечественной классической литературы» [15. Ед. хр. 56739/144. Л. 1]. Как в таком случае можно объяснить гребенщиковское соперничество с Толстым, доходившее до полного отождествления «Чураевых» с «Войной и миром»? Как нам представляется, эта на первый взгляд парадоксальная ситуация объясняется тем, что задача написать «”Войну и мир” лучше Толстого» стала важнейшей частью процесса самоканонизации Гребенщикова в статусе писателя «из народа», который одновременно наследует классике и негативно само- 1 О сакрализации Гребенщиковым Толстого и Ясной Поляны см.: [26. С. 68-89]. Ср.: [23. С. 102]. 2 См. об этом прежде всего: [26]. Об этой поездке в связи с репрезентациями биографической «травмы» в ранних произведениях Гребенщикова см.: [27. С. 347-348, 354]. 3 В нем Гребенщиков писал, что «испытыва[ет] такую любовь к земле и солнцу, к животным и растениям, что, кажется, суме[ет] написать “Войну и мир” - лучше Толстого - вот до чего доходит дерзость после или в момент отчаяния!..» [14. Т. 3. С. 468]. 4 В марте 1957 г. Гребенщиков писал своему старинному сибирскому другу И.Г. Савченко, в то время жившему во Франции: « перечитываю “Войну и мир” и как я горд, что и сам написал восемь томов нечто вроде “Войны и мира”, - только не о высшем свете Москвы и Петербурга, а о простом народе, и не об одном Каратаеве, а о сотнях их, и эта параллель когда-то будущим судьям нашей литературы БУДЕТ исторической летописью, хотя не такого размаха, как Льва Толстого» [22. С. 151-152]. 5 Изначально в машинописи оба образующих эту конструкцию слова начинались со строчной буквы и не были закавычены. 290 Горбенко А.Ю. Литературная автоканонизация Г.Д. Гребенщикова определяется по отношению к ней, стараясь расширить рамки литературного канона, чтобы внести туда собственное имя. 11 апреля 1957 г. Гребенщиков сообщал об обдумываемом желании назвать всю свою «эпопею» «ВОЙНА И БУНТ, чтобы это никак не было похоже на “Войну и мир”» [22. С. 163]1. Очевидно, однако, что стремление прозаика подобрать название, которое бы «никак не было похоже на “Войну и мир”», едва ли могло быть реализовано в полной мере, поскольку он по-прежнему мыслил в рамках «толстовской» парадигмы. Вместе с тем вторую часть этого потенциального заглавия, призванную снять толстовскую дихотомию, можно интерпретировать как сигнал «бунта» против Толстого, а не только того, что «русский бунт» является объектом репрезентации в «Чураевых». Более того, Гребенщиков неоднократно прибегал к риторической дискредитации Толстого. В письме к В.Ф. Булгакову от 21 сентября 1938 г. он объяснял, что перестал писать литературные обозрения потому, что они не приносят заработка, и довольно резко подчеркивал, что «стал плотником и каменщиком буквально ради хлеба насущного, а литература - что останется». В этом, по мнению Гребенщикова, состояло его отличие от Толстого, который «после работы на земле, выбирает повкуснее грибки и проч... Наше дело - закон борьбы “взаболь”, а не от избытка философского величия» [22. С. 75-76]. Схожий, хотя и смягченный, акцент на «аристократизме» Толстого, который, по Гребенщикову, почти автоматически исключает возможность принадлежать к истинно «народной» среде, позднее появится в заметке «Волнуемся, как море-океан.». В ней Гребенщиков вновь описывает, как сидел рядом с Толстым и «чувствовал не только теплоту его тела, но и повышенную температуру»: « эти руки с голубыми прожилками, не тонкие, аристократические 2 3 руки, хотя и державшие соху и шившие сапоги » [15. Ед. хр. 56739/144. Л. 2]4. Наконец, в написанной в 1950-е гг. и неопубликованной статье «Нормально ли современное человечество?» Гребенщиков пренебрежительно отзывался об «упрощенчестве Льва Толстого» [15. Ед. хр. 56739/223. Л. 8] и критиковал автора «Севастопольских рассказов» за то, что тот, по его мнению, не был в состоянии понять «совершенно пророчески[х] вещ[ей]» Л. Андреева «Царь Голод» и «Красный 1 Любопытно, что в этом же письме Гребенщиков сравнил И.Г. Савченко, в предыдущем письме которого к нему содержался короткий мемуарный военный очерк, с автором «Войны и мира»: «Картина самого наступления и боя написана тобой немножко лучше Толстого, это - ФАКТ » [22. С. 164]. 2 Вписано над строкой. 3 Далее зачеркнуто: «себе». В контексте предпринятой Гребенщиковым дискредитации толстовского физического труда как своеобразной эгоистической аристократической «причуды» это зачеркивание можно интерпретировать как снижение градуса критики. 4 О «подчеркивании» Гребенщиковым «противоречии[й] в образе жизни Толстого» см.: [26. С. 62-64]. 291 Литературоведение /Literature Studies смех» и лишь «огрызнулся» знаменитой репликой «Он пугает, а мне не страшно!» [15. Ед. хр. 56739/223. Л. 7]. Разные варианты дискурсивного «бунта» Гребенщикова против Толстого можно объяснить тем, что его не удовлетворяла роль эпигона классической традиции, создающего обреченную на вторичность «вариацию» толстовской книги. Как справедливо отмечает С.Н. Зенкин, «[к]лассический канон образует устойчивое и в принципе неизменное ядро культурной памяти, по отношению к которому все вновь создаваемые тексты культуры являются пояснениями и вариациями» [28. С. 281-282]. Сопоставляя очерки «В Ясной Поляне», «Памяти Великого» и «У Льва Толстого», Т.Г. Черняева писала, что гребенщиковское «отношение к Толстому было одновременно притяжением и отталкиванием, подражанием и попыткой соперничества» [26. С. 60]. Примеры, оставшиеся за пределами внимания исследовательницы, показывают, что автомифотворческая и жизнестроительная стратегии Гребенщикова, включавшие самопроекции на фигуру Толстого, оставались амбивалентными до конца его литературной карьеры. Подход Гребенщикова предполагал то следование толстовской модели, то полемику с ней или даже использование фигуры Толстого в качестве «конституирующего Другого» (И. Нойманн). «Попытка соперничества» с Толстым и критика его «аристократизма» давали Гребенщикову возможность дополнительной легитимации в статусе писателя «из народа», создателя «народной» эпопеи, написанной одновременно «по следам» «Войны и мира» и в процессе полемического отталкивания от книги Толстого. Менее разработанными, но на разных этапах не менее значимыми стали «пушкинские» автопроекции Гребенщикова. Уже в раннем стихотворении «Моя отчизна» (1906) сибирский литератор использовал аллюзии на пушкинскую поэзию, принципиально важные для манифестации его биографического мифа. Вторая строфа стихотворения («И рос угрюмым я, и все берег / Для жизни рабское терпенье: / Я жил бесцветно, как и все мы - / Без ропота, без сожаленья...» [29. С. 2]) содержала одновременно прозрачную ритмико-семантическую аллюзию на пушкинское «без божества, без вдохновенья» из стихотворения «К ***» («Я помню чудное мгновенье.») и полемику с призывом лирического субъекта знакового для Гребенщикова стихотворения Пушкина «Во глубине сибирских руд» - «Храните гордое терпенье». Этим апелляции Гребенщикова к наследию, а затем и к мифологизированной биографии Пушкина не ограничились. В самом начале 1920-х гг., оказавшись в эмиграции, он концептуализировал свой опыт с помощью самопроекции на фигуру Овидия, адаптируя миф о римском поэте-изгнаннике «под себя» не только напрямую. Опосредующим звеном для Гребенщикова стал случай Пушкина, который, как хорошо известно, в «южной» ссылке использовал Овидия в качестве жизнетворческой модели1. 1 Подробнее об этой многоступенчатой жизнестроительной операции Гребенщикова см.: [30]. 292 Горбенко А.Ю. Литературная автоканонизация Г.Д. Гребенщикова 20 января 1937 г. Гребенщиков прочел лекцию о Пушкине в чикагском Northwestern University, «по-пушкински» облачившись во фрак и цилиндр1. В этой лекции Гребенщиков характеризовал поэта и свою мать как «самых любимых путеводных товарищей»2. Вспоминая о виденных в парижской студии эскизах «кистей соломоновых рук», выполненных художником, который «посвяти[л] свою жизнь воссозданию облика» библейского царя, Гребенщиков говорил: Если бы я мог сделать набросок хотя бы даже одной руки Пушкина, которая однажды была обращена к Сибири с его бессмертным и пробуждающим посланием к сибирским узникам! Моя мать, жена простого рудокопа, уловила это послание много лет спустя после смерти Пушкина, поскольку его поэзия бесконечно проникновенна. И если я сегодня стою перед вами, то это благодаря Пушкину и моей матери. Пушкин и моя мать3 всегда были для меня самыми любимыми путеводными товарищами. Пушкин и моя родина Россия, Пушкин и свет мировой культуры -все это единый, непоколебимый идеал моей жизни. Когда я покинул Россию, то не взял ничего, кроме Библии, портрета матери и книг Пушкина [31. С. 164-165]4. Такая сакрализация фигуры Пушкина коррелирует с функцией «небесного покровителя» литературного alter ego Г ребенщикова Егорки, которой автор наделяет Пушкина в книге «Егоркина жизнь», итоговой манифестации гребенщиковского персонального мифа о писателе «из народа». В одной из сцен Пушкин (не названный прямо) контаминируется в воображении героя с его матерью, которая в «буранливую ночь» читает в избе «Буря 1 Фотографию, зафиксировавшую этот жизнетворческий жест, см.: [31. С. 162]. На следующий день Гребенщиков сообщал В.Ф. Булгакову о том, что «был главным докладчиком на Пушкинских торжествах», подчеркивая, что считает свою лекцию значимым событием, «не менее важным для русской культуры, нежели выпуск 6-го тома эпопеи» (речь идет о романе “Лобзание змия”, одном из томов “Чураевых”. - А.Г.) [22. С. 70]. 11 марта Гребенщиков написал Булгакову еще одно письмо, к которому приложил «ряд университетских программ о моих лекциях о Пушкине, по Америке просто для коллекции» [22. С. 72]. По всей вероятности, речь шла о коллекции Русского культурно-исторического музея, созданного по инициативе жившего в то время в Праге Булгакова и открытого в Збраславе в сентябре 1935 г. 2 Ср. характеристику Тургенева, Толстого и Горького как «мои[х] как бы спутников] в жизни» в цитированном письме к М. Горькому от 17 апреля 1928 г. 3 Обратим внимание на символически значимый в данном случае порядок слов: Гребенщиков два раза подряд сначала называет Пушкина, а уже затем мать. 4 В другом месте этой лекции Гребенщиков снова помещал Пушкина в христианский контекст, характеризуя строенный «пушкинский» том «Литературного наследства» (16/18) (ошибочно названный им «Литературным наследием Пушкина»), вышедший в свет в 1934 г., «Евангелие[м], новы[м] советски[м] молитвенник[ом], посвящен-ны[м] Пушкину» [31. С. 166]. 293 Литературоведение /Literature Studies мглою небо кроет...»: « постучался кто-то столь родной и близкий и столь великий, столь все понимающий и знающий все подробности их жизни, что он никогда-никогда их не оставит, а Егорку поведет через тернистые пути его будущей жизни и поможет, поможет все перенести, все вытерпеть» [14. Т. 6. С. 141]1. Вообще говоря, мотив пушкинского благословения впервые возник в сочинениях Гребенщикова еще до эмиграции. Об этом, например, идет речь в дневнике 1918-1920 гг., названном автором «Мемуарами Георгія Гребенщикова». В записи, сделанной в Крыму 30 декабря 1918 г. (12 января 1919 г.), читаем: «Как передала Людм. Серг. Елпатьевская-Врангель, мой рассказъ “Родник в Пустыне” она послала в Лондон для перевода на английскій языкъ - Діанео (Шкловскому) через поехавшую в Лондонъ англичанку внучки А. С. Пушкина. Эта внучка и взяла пакетъ с рукописью для передачи на пароходъ англичанке. Какое милое и трогательное совпаденіе, как будто через руки своей внучки Пушкин дает мне свое благословленіе» [14. Ед. хр. 64792. Л. 13-13 об.]2. В чикагской лекции Гребенщиков говорил об аристократизме Пушкина, однако подчеркивание аристократического происхождения поэта не становилось, в отличие от того, как это было в случае с Толстым, инструментом стигматизации классика: «И хотя Пушкин был аристократом с головы до пят, он никогда: ни в озарении славы, ни во мраке суровых дней - не забывал о народе, который терпеливо и безропотно нес свою рабскую ношу», поскольку Пушкин, по словам Гребенщиков, был «сын[ом] своего народа, взращенны[м] народом и преданны[м] народу» [31. С. 167], а «[р]усский народ, русская почва и особенно русская история служили ему тем садом, где росли цветы его поэзии» [31. С. 168]3. В 1948 г. Гребенщиков создал очерк «В гостях у Пушкина», который, с одной стороны, образует своеобразную дилогию с очерком «На фарме толстовского фонда» (1947)4, с другой же - коррелирует с корпусом текстов, рассказывающих о поездке автора в Ясную Поляну. В этом очерке описано 1 Текст «Егоркиной жизни» апеллирует к пушкинскому наследию и на уровне поэтики: Гребенщиков помещает в стихотворное «Посвящение» аллюзию на «Евгения Онегина» - вполне «пушкинскую» характеристику своей книги как «плода». Стоит оговориться, что в «Егоркиной жизни» эта метафора погружена в совсем иной, нежели в первоисточнике, патриотически-серьезный, контекст: «Сей плод любви к родной стране я посвящаю » [14. Т. 6. С. 9]. Кроме того, в поэтической форме посвящения, предпосланного прозаической книге, тоже можно усмотреть прямое пушкинское влияние. 2 В чикагской лекции Гребенщиков вспоминал о крымской встрече с внуками Пушкина. См.: [31. С. 1651. 3 Здесь Гребенщиков в очередной раз активизирует свой биолого-органицистский метафорический арсенал. В этой же лекции он назвал сочинения Пушкина «плодоносными» [31. С. 166]. 4 В нем содержится короткое напоминание о посещении Ясной Поляны, которое понадобилось автору, чтобы побудить дочь Толстого «Александр[у] Львовн[у] рассказать] что-либо о себе и об отце » [14. Т. 6. С. 370]. 294 Горбенко А.Ю. Литературная автоканонизация Г.Д. Гребенщикова другое «литературное паломничество», предпринятое Гребенщиковым через сорок лет после посещения Ясной Поляны, в 1947 г., - поездка на ферму Русского объединенного общества взаимопомощи Америки (РООВА)1. Эта поездка Гребенщикова носила, разумеется, менее принципиальный характер по сравнению с «паломничеством» к Толстому. Перед литератором в 1948 г. не стояло задачи легитимации собственного литературного статуса, сопоставимой с той, что имела место в 1909 г., когда он отправился в Ясную Поляну. Кроме того, ферма РООВА, в отличие от Ясной Поляны, центральной «святыни» толстовского мифа, никоим образом не относилась к числу «пушкинских» мест. Поездка была предпринята Гребенщиковым по деловой необходимости, но практическая мотивировка уже в начале очерка заменяется символической - необходимостью «поклониться» Пушкину, осознанной при виде памятника поэту. Подчеркнем, что речь идет о поклоне не памятнику Пушкину, а самому Пушкину, который «прозревается» за монументом. В очерке «У Льва Толстого» Гребенщиков писал о своем намерении поехать на открытие памятника Гоголю, которое изменил в пользу поездки в Ясную Поляну, «прочитав о болезни Толстого» [14. Т. 4. С. 419]. В случае с Пушкиным выбор между поездкой к живому классику и посещением памятника уже почившему был по очевидным причинам невозможен. Вполне вероятно, что прием «оживления» памятника Пушкину в этом очерке стал своего рода компенсацией отсутствия возможности побеседовать с живым классиком, которая была у начинающего литературный путь сибиряка в 1909 г. Описывая свой приезд и посещение памятника, Гребенщиков использует топику пушкинского «Памятника». Он расширяет географию претекста, включая в нее родной для себя Алтай и американское пространство, в котором происходит инициированная его воображением символическая «встреча» поэта-классика и современного литератора, претендующего на статус его «наследника» и «потомка»: «Вот и я, с алтайских гор, древней родины калмыков пришел на эту незарастающую тропу, чтобы п
Гронас М. Диссенсус: Война за канон в американской академии 80-90-х годов // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 11-15.
Вдовин А., Лейбов Р. Хрестоматийные тексты : русская поэзия и школьная практика XIX столетия // Acta Slavica Estonica IV. Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение, IX. Хрестоматийные тексты: русская педагогическая практика XIX в. и поэтический канон / под. ред. А. Вдовина, Р. Лейбова. Тарту, 2013. С. 7-34.
Зенкин С. «Классика» и «современность» // Литературный пантеон: национальный и зарубежный. М., 1999. С. 32-44.
Дубин Б.В. Классик - звезда - модное имя - культовая фигура: О стратегиях легитимации культурного авторитета // Культ как феномен литературного процесса : Автор, текст, читатель. М., 2011. С. 324-330.
Зенкин С.Н. От текста к культу // Культ как феномен литературного процесса: Автор, текст, читатель. М., 2011. С. 133-140.
Дубин Б.[, Зоркая Н.] Идея «классики» и ее социальные функции // Дубин Б. Классика, после и рядом : Социологические очерки о литературе и культуре. М. : Новое литературное обозрение, 2010. С. 9-42.
Майофис М. Воззвание к Европе: Литературное общество «Арзамас» и российский модернизационный проект 1815-1818 годов. М. : Новое литературное обозрение, 2008. 800 с.
Анисимова Е.Е. Творчество В.А. Жуковского в рецептивном сознании русской литературы первой половины XX века. Красноярск : СФУ, 2016. 468 с.
Разувалова А. Писатели-«деревенщики» : литература и консервативная идеология 1970-х годов. М. : Новое литературное обозрение, 2015. 616 с.
Блум Г. Западный канон. Книги и школа всех времен / пер. с англ. Д. Харитонова. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 672 с.
Ямпольский М. Литературный канон и теория «сильного» автора // Иностранная литература. 1998. № 12. С. 214-221.
Гронас М. Безымянное узнаваемое, или Канон под микроскопом // Новое литературное обозрение. 2001. № 51. С. 68-88.
Манхейм К. Консервативная мысль / пер. с англ. А.И. Миллера, Т.И. Студеникиной // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 572-668.
Гребенщиков Г.Д. Собрание сочинений : в 6 т. / сост., подг. текста, вступ. ст. Т.Г. Черняевой. Барнаул : Издательский Дом «Барнаул», 2013.
ГМИЛИКА. ОФ.
Гребенщиков Г. Бальмонт: Очерк / публ. В. Росова // Алтай. 2017. № 3. С. 172-181.
Азадовский К.М. «Гагарья судьбина» Николая Клюева. СПб. : Инапресс, 2004. 199 с.
Лекманов О., Свердлов М. Сергей Есенин : биография. М. : Астрель : CORPUS, 2011. 624 с.
Шевеленко И.Д. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 336 с.
МагомедоваД.М. «Я один.. и разбитое зеркало..» : литературные маски Сергея Есенина: (Статья первая) // Новый филологический вестник. 2005. № 1. URL : http://cyberleninka.ru/article/n/ya-odin-i-razbitoe-zerkalo-literatumye-maski-sergeya-esenina-statya-pervaya (дата обращения: 20.07.2021).
Магомедова Д.М. «Я один.. и разбитое зеркало.»: Литературные маски Сергея Есенина: (Статья вторая) // Новый филологический вестник. 2006. № 2. URL: http://slovorggu.ru/nfv2006_1_2_pdf/07Magomedova.pdf (дата обращения: 20.07.2021).
Георгий Гребенщиков. Из эпистолярного наследия (1924-1957) / сост. В.К. Корниенко. Барнаул : ГМИЛИКА : Алтайский Дом Печати, 2008. 172 с.
Горбенко А.Ю. Георгий Гребенщиков как Лев Толстой: «толстовский текст» жизнестроительства Г. Д. Гребенщикова // Алтайский текст в русской культуре : сб. ст. / под ред. М.П. Гребневой. Барнаул, 2015. Вып. 6. С. 99-113.
Горбенко А.Ю. Чураевка и Ясная Поляна : рецепция толстовской модели в жизнестроительстве Г.Д. Гребенщикова // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2017. № 1 (39). С. 150-155.
Brooks J.Russian Nationalism and Russian Literature : The Canonization of the Classics // Nation and Ideology. Essays in honor of Wayne S. Vucinich / ed. by I. Banac, J. Ackerman, and R. Szporluk. N.Y. : Columbia University Press, 1981. P. 315-330.
Черняева Т.Г. Гребенщиков о Льве Толстом // Алтайский текст в русской культуре: материалы второго научного семинара «Алтайский текст в русской культуре» / под. ред. Т.Г. Черняевой. Барнаул, 2004. Вып. 2. С. 60-73.
Толстоноженко О.А. Провинциальный интеллигент в столице : рефлексия травмы в раннем творчестве Г.Д. Гребенщикова // Алтайский текст в русской культуре: сборник статей / под. ред. М.П. Гребневой. Барнаул, 2015. Вып. 6. С. 342-357.
Зенкин С. Гуманитарная классика: между наукой и литературой // Классика и классики в социальном и гуманитарном знании. М., 2009. С. 281-293.
Гребенщиков Г.Д. Моя отчизна // Семипалатинский листок. 1906. № 16. 13 июня. С. 2.
Горбенко А.Ю. Овидии с провинциальных берегов: автомифотворчество сибирских литераторов конца XIX - первой трети XX в. // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020. № 65. С. 180-192.
Гребенщиков Г. Пушкин: Лекция / пер. с англ. О. Кудзоевой // Алтай. 2017. № 3. С. 162-171.
Воробьева О.В. Культурно-просветительская деятельность общественных объединений Русской Америки XX века // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. 2010. № 2. URL: http://jurnal.org/articles/2010/hist7.html (дата обращения: 20.07.2021).
Якобсон Р.О. Статуя в поэтической мифологии Пушкина // Якобсон Р.О. Работы по поэтике. М., 1987. С. 145-181.
Платт Дж.Б. Здравствуй, Пушкин! : сталинская культурная политика и русский национальный поэт / пер. с англ. Я. Подольного. СПб. : Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2017. 352 с.
Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2004. 308 с.
Левитт М. Пушкин в 1899 году / пер. с англ. М.Б. Кутеевой // Современное американское пушкиноведение : сб. ст. / ред. У.М. Тодд Ш. СПб., 1999. С. 21-41.
Варшавский В.С. Незамеченное поколение / предисл. О.А. Коростелева ; сост., коммент. О.А. Коростелева, М.А. Васильевой ; подгот. текста Т.Г. Варшавской, О.А. Коростелева, М.А. Васильевой ; подгот. текста приложения, послесл. М.А. Васильевой. М. : Дом русского зарубежья им. Александра Солженицына : Русский путь, 2010. 544 с.
Росов В. «Исповедь царя» длиной в целый век: Из переписки Г. Д. Гребенщикова и И.И. Сикорского // Алтай. 2018. № 4. С. 157-185.
Горбенко А. «Самый неизвестный классик» : механизмы несостоявшейся литературной канонизации Георгия Гребенщикова в 1990-е-2010-е годы // Новое литературное обозрение. 2020. № 164. С. 109-122.
Росов В.А. Георгий Гребенщиков: Сын Белухи. Барнаул ; Новосибирск : Экселент, 2021. 544 с.
Анисимов К.В. Сибирская литература и проблема авторского самоопределения // Материалы научно-практической конференции преподавателей, аспирантов и студентов филологического факультета. Красноярск, 1997. С. 11-19.
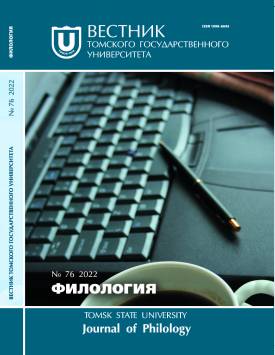

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью