«Американский дискурс» Ф.М. Достоевского
Рассматривается «американский дискурс» Достоевского в его художественных произведениях и публицистике. Достоевский известен не только как один из основателей концепта «русской идеи», писатель-почвенник, выступивший за сохранение национальных ценностей в условиях возможных западных интервенций. Наряду с Западом он видел в качестве важнейшего оппонента русской самобытности Америку. Америка становится метафорой для проявления страдающего сознания, феноменологический анализ которого наиболее связан в дискурсе Достоевского с образом беспочвенной интеллигенции, сознанием-болезнью подпольного человека. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The “American discourse” of Dostoevsky.pdf Образ современной России во многом сформирован ее литературоведческой и философской репрезентацией в мировой славистке. 50 лет назад (1971 г.) было официально учреждено Международное общество Достоевского (International Dostoevsky Society) с огромным количеством представительств в разных странах, в том числе в США (The North American Dostoevsky Society) и России. «Годом основания Общества считается 1971: именно в этом году с 1 по 5 сентября 60 ученых из 14 стран съехались в Бад-Эмс (Германия) на первый учредительный симпозиум» [1. С. 176]. Само по себе знаменательное явление. Вот уже 50 лет, как мировая интеллектуальная мысль организованно исследует наследие Ф.М. Достоевского, и с каждым годом все яснее, что этот ресурс - фактически неисчерпаем. Редкий случай, когда практически все самое современное в изучении наследия великого русского писателя отражено в разных сериях, бюллетенях, монографических сборниках данного общества [2]. Рецепция наследия Достоевского в мире чрезвычайно важна не только как удачный пример межкультурного диалога и международной научной коммуникации, но и как способ самоидентичности - посмотреть на свою культуру, литературу, самих себя сквозь призму оценок и восприятия со стороны других. Достоевский - один из немногих наших великих символов; русский писатель, политический мыслитель и искренне верующий человек, он напоминает всем нам о значимости русского языка в мире, о нашем духовном, а не только идеолого-политическом присутствии в мировом культурном пространстве. Безусловно, важно понять, как же мы выглядим в чужих «зеркалах»: с точки зрения Другого - мира, культуры, сознания, менталитета. Достоевский - это особые «очки», которые мир надевает, чтобы разглядеть современных русских людей и русскую душу. Но не менее значимо и другое: Достоевский оказывается нашими «очками», благодаря которым мы также пытаемся посмотреть на мир в себе и вокруг себя, преодолевая стереотипизацию самовосприятия и оценочных суждений со стороны других. В этом отношении очень любопытен образ «Америки» в художественном творчестве и публицистике Достоевского. Американская тема широко обсуждается в русской литературе. Исторически интерес к США в русской литературе начался еще со времен А.Н. Радищева, был продолжен в политических проектах декабристов, имел огромный резонанс в кружке М.В. Петрашевского, к которому принадлежал Достоевский. Есть сведения о том, что в кружке читалась книга А. Токвиля «Демократия в Америке» (1831), имевшая огромный резонанс в России. 101 Климова С.М. «Американский дискурс» Ф.М. Достоевского Во второй половине XIX в. этот интерес возрос с развитием важных политических событий, связанных с гражданской войной между Севером и Югом. В 1861-1865 гг. в США шла война за освобождение чернокожего населения. Это событие коррелировало с темой отмены крепостного права в России в 1861 г. Вместе с тем в России образ Америки не был однозначно позитивным. В учебнике уголовного права В.Д. Спасовича (1863) говорилось, что в Англии, например, отправкой в Америку «государство избавлялось разом от всех мазуриков, бродяг, отъявленных злодеев и людей подозрительных» (см.: [3. С. 196]). Для консервативной интеллигенции Америка и представляла собой такое негативное место для «отбросов» общества. «Американский дискурс» Достоевского существует как в его художественных текстах, так и в «Дневнике писателя» [4. С. 245]. Т.В. Коротченко дает классификацию восприятия образа Америки у Достоевского: 1) Америка в его художественных произведениях описана как место, «куда все бегут» в желании найти лучшее; 2) Америка - это негативный образец нарастающего финансового (капиталистического) государства, с претензией на мировое лидерство; 3) открытие Америки - это важнейшее событие для Европы (добавим, что и для России, безусловно, тоже); 4) Америка - родина «новой религии» (скорее, ее извращенной формы) - спиритизма, особенно ненавистного Достоевскому. Для полноты картины необходимо, конечно, диалектически соединить образ Америки в его «Дневнике» и в художественном наследии; мы ограничимся лишь конкретным философско-феноменологическим срезом анализа. Безусловно, «американская тема» не столь важна для Достоевского / его мировоззрения как извечная оппозиция Россия-Запад и ее осмысление в русском интеллектуальном пространстве. Если Запад - это всегда метафорическое обращение к своему иному основанию в русском менталитете, связано ли это со славянофильскими нападками на «западное» разрушение чистоты славянского мира или, напротив, с западническим поиском в нем исконного источника для русского развития и преображения, то Америка чаще всего -объект мифологизации; она, как правило, оказывалась маркером какого-то неведомого (заповедного), притягательного, но и опасного мира. Ее архетипическими метками становилась дорога, перепутье, бегство, уход, «тот свет», «край земли» (парафраз «нового света» или «инобытия»), в итоге - потусторонний мир, где можно найти лишь смерть. Начало такой архетипизации Америки было положено еще «дорожной темой» Печорина, который, объясняя Максиму Максимовичу специфику своего несчастного скучающего сознания, указал на путешествие как на единственный способ развлечения, а Америку (наряду с Аравией и Индией) - как на то место, куда он, возможно, поедет... умирать. Не Запад, но Америка и Восток обретают статус особого локуса - загадочного, мифически страшного, как смерть - в литературе 40-х гг. Чуть позже Н.В. Гоголь недвусмысленно в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1846-1847) напишет известную фразу о «мертвой земле»: «А что такое Соединенные Штаты? Мертвечина; человек в них выветрился до того, что и выеденного яйца не стоит» [5. С. 219]. Итак, Америка - зачастую лишь мифосимволическое название нездешней реальности. Русская литературная традиция связывает образ Америки с 102 История философии /History of philosophy образом внеисторической и внекультурной (практически мифологической) инстанции, куда стремятся герои-изгои из собственного отечества. Выражение «уехать/убежать в Америку» кодирует мысль о смерти, умирании или самоубийстве. Смерть/Америка и оказывается трагически-иронической инверсией понятия лучшей доли в литературном нарративе. Беспочвенные герои Достоевского также все время убегают от себя, от обстоятельств, от других, в том числе и в Америку. Несмотря на всю утопичность места, они не хотят там разбогатеть или сделать карьеру, они даже не ищут в Америке лучшего политического строя, демократии или самой свободы. Зачастую это бегство от обстоятельств, но это лишь внешняя мотивация. Главное, что они бегут от самих себя, потерянных и обесцененных, в поисках возвращения себя и себе настоящего мира. В итоге они бегут в никуда, чтобы, закрывшись от жизни-деятельности, оказаться в герметичном пространстве своего внутреннего мира для выработки новых идей («Бесы» Достоевского). В экзистенциальном прочтении Америка становится локусом ничто -квинтэссенцией абсурдистского сознания. В русской литературе, безусловно, есть и положительные образы Америки. Например, в романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?», который использовал это пространство для вполне позитивных решений в жизни его героев. Однако и он развивает в какой-то мере «русскую» линию Америки как «того света». Событие реального отъезда одного из главных персонажей романа Лопухова «туда» автор маскирует под его фиктивное самоубийство. Как известно, Лопухов вернулся «оттуда» новым человеком, и это событие в романе приравнивается к Христовому Воскресению - Пасхе. Вера Павловна, узнав Лопухова в американском предпринимателе Чарлзе Бьюмонте, произносит: «Ныне Пасха, Саша; говори же Катеньке: воистину воскресе» [6. С. 104]. Это воскресение у Чернышевского переплетается с утопической конструкцией счастливого мира Америки - райского локуса спасения и будущей социальной гармонии. А. Эткинд, однако, не только подмечает нетрадиционный для русских оптимизм Чернышевского, нарисовавшего картину счастливого возвращения героя, обогащенного американской деловитостью, сноровкой и знанием разумного смысла жизни, домой. Он выдвигает версию о том, что знаменитый четвертый сон Веры Павловны, в котором описана совершенная земля для счастливой жизни и мировой гармонии, также символизирует пространство Америки как «землю обетованную». «Чернышевский перенес обетованную землю из старого ее места, Ближнего Востока, в новое место, Америку. Так, вероятно, он понимал свое расставание с христианской архаикой во имя современности» [7. С. 57]. Более того, он выдвигает идею своеобразного двой-ничества героев «Бесов» и «Что делать?», сопоставляя Шатова с Лопуховым, а Кириллова - с Рахметовым [7. С. 82-83]. Достоевский был известным оппонентом теории разумного эгоизма и утилитаристского оптимизма Чернышевского. На каждый его позитивный образ или символ он создавал противоположный, опрокидывая оптимистические прогнозы русского бунтаря аргументами, почерпнутыми не столько из плоскости рациональных конструкций, сколько из религиозно-экзистенциальных переживаний. Подобно Чернышевскому, который, наряду с Лопуховым, отправил и другого своего «особенного человека» - революционера 103 Климова С.М. «Американский дискурс» Ф.М. Достоевского Рахметова, в Америку, известно для чего, Достоевский также отправляет Кириллова и Шатова туда же. Только интересно, зачем? Сюжет пребывания героев «Бесов» в Америке проанализирован многими известными филологами: А.С. Долининым, Н.Э. Фаликовой, А.Л. Ренанским и др. В статье Л.И. Сараскиной, которая, обобщили различные мотивы-порывы поведения бегущих в Америку «революционеров», сюжет связан с бегством за «либеральным мифом, распространяющимся в русской среде, как пожар» [3. С. 200]. В критическом ключе в ее статье рассматриваются не только темы либерализма, но и связанные с ней индивидуализм, эгоизм, а также многообразие субъективных представлений о свободе и воле личности. Рассмотрим американский дискурс подробнее. Очевидно, что для Достоевского Америка - не географическое понятие и не военный (читай - либеральный) полигон для подготовки «захватчиков русской земли». Образ Америки методологически вписывается в его почвенническую концепцию дифференциации России и Европы. Несмотря на то что образ Америки для него в большей мере был лишь вариацией критического восприятия Запада в целом, он вряд ли бы (гипотетически) согласился с утверждением М. Хайдеггера о том, что «большевизм - это всего лишь вариант американизма» [8. P. 30]. Эта мысль скорее была бы ближе Чернышевскому - ведь именно в Америке его Рахметов должен научиться практике революционной борьбы. Правда, не ясно, чему же он научился в итоге, так как его явление в романе обрывается лишь на начальной точке знакомства и события отъезда. Достоевский же, как и Н.А. Бердяев, истоки грядущих катастроф, связанных с появлением групп революционеров-бесов, зараженных «нигиляти-ной» этического релятивизма, видит в искажении христианского миросозерцания, европейского, по сути, которое и провоцирует гибель мира и само гибнет под гнетом подобного утопизма. Истоки возможной русской катастрофы Достоевский находит, конечно, в Европе с ее либерализмом, нигилизмом и откровенной секуляризацией. Об истоках большевизма, описанного в традиционных терминах нигилизма, революционерства, бесовщины Достоевский написал достаточно много, и американского следа в его логике обличения не наблюдается. Опасность Америки в разы меньше; при этом мифологизация и архети-пизация ее образа достаточно серьезно закреплена в писательском мировоззрении. Отправляя своих героев - Кириллова и Шатова в Америку, Достоевский, как мне кажется, не только следует за русской мифологической традицией, но и занимается особой философской рефлексией. Остановимся на этом срезе анализа подробнее: поговорим о философской проблеме разрыва сознания и бытия человека на примере «Бесов». Внешняя цель поездки названных героев абсолютно надумана: «личным опытом проверить на себе состояние человека в самом тяжелом его общественном положении» (курсив Ф. Достоевского. - С.К.) [9. Т. 10. С. 111]. Надумана эта мысль, скорее всего, под влиянием увлечения героев марксистскими идеями, так как не жизнь русского крестьянина, но жизнь рабочего класса их неожиданно взволновала. Этот личный опыт, однако, на практике ничего не дает нашим героям. В Америку они ехали, как антропологи в поле: с помощью включенного наблюдения изучать жизнь американцев, которые «ходят вниз головой» (как выразился один из героев «Записок из Мертвого дома»). 104 История философии /History of philosophy Однако они не были учеными-антропологами, не умели ни работать, ни размышлять в логике реальных событий; не имели ни классового, ни революционного чутья. Они априори приняли тип американской эксплуатации и поведения за нечто превосходное в экономической сфере, по сравнению с русским типом крестьянской деятельности и коллективистского отношения людей друг к другу. В этом приятии чужого Достоевский высмеивает ненавистную ему идею западнического проекта развития капиталистической цивилизации. Он неоднократно категорически высказывался против страны Ротшильдов, насаждающей чуждые России ценности. В этом аспекте его герои выбрали чужой мир в качестве эталонного, до всякого опыта и знания, а любого американца назначали человеком, во много раз превосходящим русских. Достоевский не проговаривает, но подразумевает, что данное бегство в Америку было бегством за условиями возможности «мысль думать». Это Шатов и Кирилов и называют свободой. Безусловно, этот выбор Америки как синонима свободы был умственным, абстрактным, а мир, в который они погрузились, - вымышленным. В него они и вписали практику жизни на манер героя из Подполья, готовые унизиться и принять все, что им предложат свободные американцы: обман, оскорбление, насмешки, даже колотушки и т.д. «Мы, русские, пред американцами маленькие ребятишки, и нужно родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцами, чтобы стать с ними в уровень. ...Раз мы едем, а человек полез в мой карман, вынул мою головную щетку и стал причесываться; мы только переглянулись с Кирилловым и решили, что это хорошо и что это нам очень нравится...» [9. Т. 10. С. 111-112]. Эта логика не нова в творчестве Достоевского. Точно так же воспринимает мир вне себя герой «Записок из Подполья». Разница лишь в том, что герои «Бесов» в Америке видят пример полноты бытия для восполнения собственного мыслящего Я, а Подпольный видит мир вне себя лишь как негативное бытие, которое своим фактом существования отрицает его собственное Я. При этом формула бытия вне субъекта и головной жизни мыслящего Я вне бытия сохраняет свой универсальный схематизм и там и здесь. Мне кажется, что, несмотря на свои заявления, Кириллов и Шатов вовсе не собирались испытывать себя трудом в Америке. Достоевский, описывая их бесконечное лежание на полу (в маленьком американском городе)1, несколько раз повторяет это идейное собирание в одной горизонтальной точке лежащих в бездействии тел-субъектов («в Америке себе належал» [9. Т. 10. С. 111]). Невольно глагол лежать ассоциируется с пограничным пространством пола/подполья, в котором пребывает его другой, «бумажный» (головной, выдуманный) герой. Этот штрих подчеркивает внепространственность и вневременность локуса, в котором они находятся и той «деятельности», которой они «занимались в Америке». Америка Достоевского - это метафора абстрактного мышления человека, поглощающего самого себя в бесконечной, все разъедающей рефлексии. Эту мысль прекрасно иллюстрирует цитата из «Подростка»: «Прощайте, Крафт! Зачем лезть к людям, которые вас не хотят? Не лучше ли все порвать, - а? -А потом куда?.. - К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе! - В Америку? - 1 Этот мотив лежать на полу - належать себе мысль - повторяется в романе не менее пяти раз. 105 Климова С.М. «Американский дискурс» Ф.М. Достоевского В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся „моя идея“, Крафт! - сказал я восторженно. Он как-то любопытно посмотрел на меня. - А у вас есть это место: „к себе“? - Есть. До свиданья, Крафт; благодарю вас и жалею, что вас утрудил!» [9. Т. 13. С. 60]. В данном контексте американское бытие Шатова и Кириллова - это и было «место к себе» «бумажных людей», и оно ничем не отличалась от мыслительного бытия Подпольного, который называл себя «усиленно сознающей мышью», а не человеком, обладающим полноценным бытием. Все герои головного типа свое сознание воспринимают как страдающее в силу его автономности от бытия и одновременно погружение в особое мысленное бытие, заключающее остальной мир «за скобки». Наблюдаются, однако, и различия: если Подпольный занимается авто-креацией (само-творением) за счет уничтожения внешнего мира, то для героев «Бесов» отсутствие внешнего мира является обязательным априорным условием, без которого подобной автокреации и выдумывания «будущего рая на земле» не может быть. Физически они находятся в Америке. Но при этом «Америка» для них (да и для Достоевского) - не большая реальность, чем ветхозаветные гора Арарат или мифический Эдем. Живя в вымышленном головном мире своих идей и фантазий, они сами представляют из себя фантом человека, лишь его идеологическую или схематическую оболочку. Недаром мы так и не знаем, в каком штате и городе они пребывали. Америка -это другое название состояние страдающего сознания беспочвенной интеллигенции. На этом примере Достоевский еще раз подчеркивает страшную силу головного страдания и идеологических утопий, которые не сообразуются ни с какой реальностью, не вытекают ни из каких противоречий жизни. Сознание Шатова и Кириллова, как и сознание Подпольного или Ивана Карамазова, «не определяется существованием или несуществованием реальных предметов, сознание содержит в себе предметно-смысловой образ, смысловой слепок предмета, но сам предмет может не существовать, может быть иллюзорным» [10. С. 12]. Таким слепком (смысловым образом в головах) и была для героев Достоевского Америка (как, впрочем, и Россия, и Запад), в описании которой ни они, ни он не находят ни географического, ни культурного содержания. Америка - образ с «нулевым денотатом», иллюзорное место для автономно мыслящего - и такого же иллюзорного - субъекта1. В этом контексте выражение «уехать в Америку» - синоним абсурдного существования мира в абсурдистском сознании человека. Фактически эта фраза в русском почвенническом восприятии Достоевского, почти по Камю, означает либо осуществление логического убийства мира, либо физическое самоуничтожение (пример Свидригайлова, «уехавшего в Америку», т.е. застрелившегося). Здесь нет ничего, кроме рефлексии ни о чем. Мир сужен (схлопнут) до точки мышления не силу его непонятности, а в силу его бессмысленности. А отсутствие смысла связано с тем, что герои не присутствуют в этом мире, они ему посторонние. Это делает их абсолютно свободными, позволяет брать на себя как функции судьи мира, так и функции его подсудимого. Все происходит в голове, идейно, а то, что результатом становится нарушение границ чуждого им мира - 1 Отсюда неудивительно, что для Достоевского русский интеллигент - это тоже образ с «нулевым денотатом». 106 История философии /History of philosophy убийства или самоубийства, это не имеет значение для «жителей Америки» -«жителей других планет», как сказал бы Н.Н. Страхов. Возвращение героев в Россию («Бесы»), по Достоевскому, пусть и подлой ценой (получение денег от Ставрогина), - это реальный шанс на восстановление смыслов, не головных, не фактических, но ценностных, имманентно связанных не только с пространством, но и онтологией русского мира, событием с другими людьми, которые появляются не в воспаленном воображении, но во внешней реальности, о которой герои не могли даже помыслить. Встреча с другими и возвращение себе смысла жизни как ценности, а не головной прагматической цели с необходимостью требует изменения сознания - не рациональной, но духовной метанойи (религиозной по своему напряжению), которая и случилась с Иваном Шатовым. Расплатой за обретение полноты бытия (восстановление с семьей) стало его ритуальное убийство. Сакральность и жертвенность его смерти позволяют Достоевскому сохранить нового человека Шатова во всей полноте духовного перерождения той жалкой копии, каковой он был в Америке. Смерть на русских просторах для писателя - не синоним гибели - того света, которая ждет человека в Америке. Его смерть - подтверждение величия целостного человека, который восстанавливает себя в живой реальной любви и сочувствии к другим людям. Это делает его богоподобным, схожим с Христом. Кириллов остается до последней минуты существом, схематизированным собственным сознанием и жертвой вымысла («съела идея» [9. Т. 10. С. 427]). Однако за минуту до смерти (вынужденного самоубийства, фактически - убийства) в нем, так же как и в Шатове, происходит духовное восстановление человека с миром, обретение экзистенциальных смыслов; он открывает свое истинное присутствие в мире. Становится очевидным, что «убеждения и человек - это, кажется, две вещи во многом различные» [9. Т. 10. С. 446]. Здесь и их общее с Шатовым живое дело помощи физического рождения нового человека (сына Марии Шатовой), и одновременно мистическое прозрение о вечной гармонии, о духовном перерождении людей, которое не требует больше земного рождения-развития, так как человек, постигнув Бога до конца, т.е. прозрев смысл евангельского Воскресения, не нуждается в земной жизни с ее кончеными благами1. Это-то открывается не его уму, но его сверхрациональному прорыву к высшим основаниям жизни -к ее религиозному смыслу. Пусть и на мгновение, но Кириллов также побеждает Америку в себе, возвращаясь к полноте своего осмысленного бытия. Трагизм Кириллова, ровно как и Ивана Карамазова, в том, что, обретя Бога как высшую ценность, они отказались от «дьявольского водевиля» - мира. Они оба не понимают, что это за мир, который дьявольски обессмыслил себя, рационально уничтожая своего Творца, став совокупностью рациональных фактов. Кириллов счастливее Ивана: ему было дано чувство экстаза как прорва к Богу - абсолютной ценности не через логику мысли, но через ее преодоление. Но этот прорыв не стал основой для реконструкции его связи с миром, и смерть оказалась декларируемым способом стать Богом, а по сути - единственным способом его возвращением к смыслу жизни. 1 Поразительное сходство открытия бессмертия со смертью Ивана Ильича. 107 Климова С.М. «Американский дискурс» Ф.М. Достоевского Завершая размышление вокруг американской темы, хочется вновь сравнить Америку Чернышевского и Достоевского как двух художественно исследуемых образов. Для Чернышевского, социально ориентированного политика-публициста, Америка символизирует все самое привлекательное для разумного человека. Она - и географическое, и политическое, и гуманистическое пространство свободы и прогресса. Это реальная точка мира, где можно жить и чувствовать себя не так, как в России: перестать быть безликой частью коллектива (собора), узнать, в чем суть правового государства, начать свободно трудиться, понять, наконец, «кто виноват» и «что делать», или узнать на практике, как стать счастливым. Для Чернышевского это страна с ярко выраженными демократическими и утилитаристскими тенденциями, борющаяся за равноправие народов, мужчин и женщин, за усредненное, но тотальное счастье, построенное на логике разумного эгоизма. Он уверен, что она существует не в воображении, а в реальности. Поэтому поездки Лопухова реально, а Рахметова - потенциально - туда так удачны. Америка Чернышевского оказывается лучшим местом для решения русских проблем. У Достоевского все, наоборот. Америка - это не географическая точка на карте мира, не политическая система, не мир культуры, не пример для видения другого (может быть, даже лучшего) образа жизни и поведения. Такой Америки он не знает. Америка - это мифообраз, сказочная страна о том свете; выдуманная головная идея о «„свободном труде в свободном государстве“ и о коммуне и об общеевропейском человеке» [9. Т. 21. С. 135], в которую погружаются и интеллигенты, и глупые мальчишки-гимназисты, «бегущие в Америку», и бесконечно фантазирующие подпольные герои нарождающейся революционной России. Несмотря на свою предвзятость, Достоевский весьма точно показывает, что будущие бесы-революционеры и оппозиционеры всех мастей возникают в России не из любви к людям труда, не из чувства протеста против экономического или политического неравенства и несправедливости, не из сострадания к детям (великолепный пример - циничные слова Петра Верховенского о его жалости к ребенку, ведущему домой пьяную мать, и готовности сделать из него революционера), не потому, что верят в Бога. Нет, они рождаются в глубине их подпольного воспаленного ума, в «Америке», самом вымышленном головном мире, который причудливым образом стал символом постороннего - мира инобытия - для русского человека славянофильского типа и в дальнейшем. В этом ракурсе Америка становится неожиданным двойником и зеркалом такой же вымышленной России Достоевского.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 36
Ключевые слова
Америка, бегство, беспочвенная интеллигенция, страдающее сознаниеАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Климова Светлана Мушаиловна | Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | доктор философских наук, профессор Школы философии | sklimova@hse.ru |
Ссылки
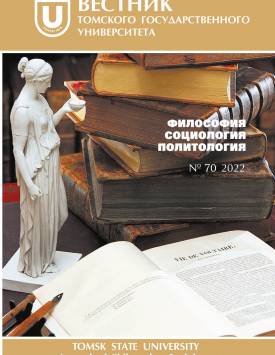
«Американский дискурс» Ф.М. Достоевского | Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2022. № 70. DOI: 10.17223/1998863X/70/9
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 243

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью