–°—В–∞—В—М—П –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–љ–љ–µ–Љ–Њ–і–µ—А–љ–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –µ—О –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—В—Г—Б–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞. –Ш—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В—Б—П –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –µ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ –Є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–є, –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—Г—З–љ—Г—О –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, - –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є –љ–∞—Г–Ї –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤.
Value of the Socio-Institutional Dimension of the Assertion of the Scientific Worldview.pdf –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ –Њ—В –љ–∞—Г–Ї–Є, –∞ –љ–∞—Г—З–љ–∞—П —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –≥–љ–Њ—Б–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н—В–∞–ї–Њ–љ–Њ–Љ. P–∞–±–Њ—В—Л –Р.–Э. –£–∞–є—В—Е–µ–і–∞, –У. –С–∞—В–µ—А—Д–Є–ї–і–∞, –Р. –Ъ–Њ–є—А–µ –Є –і—А. –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–і–µ—А–љ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞—Г–Ї–Њ–є. –Ю—В–Љ–µ—З–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ –Њ—В –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ъ. –•—О–±–љ–µ—А –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Э–∞—И –≤–µ–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞—Г—З–љ–Њ—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –Я–Њ–і —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–∞—Г–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є –љ–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–∞ –±—Л –љ–∞ —Б–µ–±–µ –µ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ. –Э–∞—Г–Ї–∞ –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ, –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–µ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П¬ї [1. –°. 156]. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ—Л —Г —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –≤—Л–Ј–Њ–≤–Њ–≤. –Э–∞—Г–Ї–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –Ї–∞–Ї —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ –љ–µ–є —В–µ—Е–љ–Њ–≥–µ–љ–љ–∞—П —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П - –Љ–Њ–і–µ—А–љ - –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Є–љ–≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–Љ, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–Љ—Б—П —Н—В–∞–ї–Њ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–∞ –≥–µ–≥–µ–ї–µ–≤—Б–Ї—Г—О —Б—Е–µ–Љ—Г —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ш–і–µ–Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–Љ –Є—В–Њ–≥–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ —Б—В–∞—В—М ¬Ђ–∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –Є–ї–Є –і—Г—Е, –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є —Б–µ–±—П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –і—Г—Е–∞¬ї [2. –°. 434]. –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М —Д–Њ—А–Љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –Я–Њ—Б—В–њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞, —Б –µ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ–љ–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ–≤, –Ї—Г–Љ—Г–ї—П—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Ї –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ–µ (–Ґ. –Ъ—Г–љ, –°. –Ґ—Г–ї–Љ–Є–љ, –Я. –§–µ–є–µ—А–∞–±–µ–љ–і –Є –і—А.), –і–µ–ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б –љ–∞—Г–Ї–Є, –љ–Њ –Є –і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ –љ–µ–Љ –Є–љ–≤–∞—А–Є–∞–љ—В–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ –Ї–∞–Ї —Н—В–∞–ї–Њ–љ–∞ —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П. –Э–∞—Г–Ї–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –∞ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—П –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л–Љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–Љ –≤–µ—А–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В–µ–Њ—А–Є–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–∞ –Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —Б–Љ—Л—Б–ї –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–µ—В–µ–љ–і–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –Є–љ–≤–∞—А–Є–∞–љ—В–љ—Л–є –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б, –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ—Б—В—А–Њ—В–Њ–є –≤—Б—В–∞–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ- –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П 31 –і–µ—А–љ–∞. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–Љ —И–∞–≥–Њ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ–µ—А–µ—Б–Љ–Њ—В—А —В–µ–ї–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П—Е –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ –Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –Є—Е —Б–Љ–µ–љ—Л. –£—З–Є—В—Л–≤–∞—П –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ —Б—В–∞—В—М–Є, –µ–µ —Ж–µ–ї—М—О —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞, –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ —Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –љ–∞–є–і–µ–љ—Л. –Т. –Ъ—Г–∞–є–љ –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Г–Ї–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ [3]. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Р. –Ъ–Њ–є—А–µ —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞—Г–Ї–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ. –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –њ–µ—А–≤—Л—Е –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –У –∞-–ї–Є–ї–µ—П, –±—Л–ї–Њ –љ–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є –Є –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—В—М –љ–∞ –Є—Е –Љ–µ—Б—В–Њ –ї—Г—З—И–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є. –Ш–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ ¬Ђ—А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В—М –Њ–і–Є–љ –Љ–Є—А –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ¬ї, –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л —А–∞–Ј—Г–Љ–∞, –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П, –Є–љ–∞—З–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –±—Л—В–Є–µ, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–Њ–≤–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є ¬Ђ–і–∞–ґ–µ –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й—Г—О—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –Ј–і—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є, –≤ –Ї–Њ—А–љ–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ–є¬ї [4. –°. 131]. –Э–∞—Г–Ї–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–≥–Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–± —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П - —Б–∞–Љ–Њ–Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Г–Ї–Є –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В. –•–Њ—А–Њ—И–µ–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ —В–µ–Ј–Є—Б–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –і–≤–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є—П, –≤—В–Њ—А–Њ–є –Є–Ј –љ–∞—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –ї–µ—В. –Ґ–∞–Ї, –≤ ¬Ђ–Ф–Є–∞–ї–Њ–≥–µ –Њ –і–≤—Г—Е –≥–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞...¬ї –У–∞–ї–Є–ї–µ—П –°–∞–≥—А–µ–і–Њ (–њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є) –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ъ–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–∞ —В–∞–Ї –Љ–∞–ї–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –°–∞–ї—М–≤–Є–∞-—В–Є –ґ–µ (–Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П) –µ–Љ—Г –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ, —З—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –µ–≥–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї ¬Ђ–ґ–Є–≤–Њ—Б—В—М—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Г–Љ–∞ –Њ–љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ –љ–∞–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —З—В–Њ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–µ—Б—В—М —В–Њ, —З—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Њ–і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–Њ –Є–Љ —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ, —П–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞¬ї [5. –°. 240]. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≥–µ–ї–Є–Њ—Ж–µ–љ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ъ–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–∞, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –°–∞–ї—М–≤–Є–∞—В–Є, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г, –љ–Њ –Є –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–Љ—Г –Њ–њ—Л—В—Г, –Њ–њ–Є—А–∞—О—Й–µ–Љ—Г—Б—П –љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ—Л —З—Г–≤—Б—В–≤. –І—В–Њ–±—Л —В–∞–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ–Њ–±–µ–і–Є–ї–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–µ –Є–љ–∞—З–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—А –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –љ–Њ –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є –Ы. –Ф–∞—Б—В–Њ–љ –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –Љ–Є—А–µ –Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –љ–∞—Г–Ї, –љ–∞ –љ–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ–Є –Є –±–µ–Ј–∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є. –Ю–љ–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —А–∞—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Ї–љ–Є–≥ –љ–∞ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Ї–µ –Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ј–і–∞–љ–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–њ—Г—Б–Њ–≤. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –∞–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–∞—П –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Є—Ж–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–С–µ–≥–ї—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ —В–Є–њ–Є—З–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ј–і–∞–љ–Є–є –Є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–Њ–≤ –њ–Њ—З—В–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–Љ–њ—Г—Б–∞—Е –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—В –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ —Б–Њ–±–Њ–є —А–∞–Ј—Г–Љ–µ—О—Й–µ–µ—Б—П: –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–∞ –Ї —Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, —Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Є –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В –Њ–і–љ–Њ –Є —В–Њ –ґ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞–ї—М–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –≥–і–µ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –љ–Є—Е. –С—Г–і—М —Н—В–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В., –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –Є –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ —Б–Њ—Б–µ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –±—Л –Ї–∞–Ї –і–Є—Б—Ж–Є- –Т.–°. –Ы–µ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є 32 –њ–ї–Є–љ—Л –Ї–≤–∞–і—А–Є—Г–Љ–∞, –∞ —Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –±—Л –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є, –Ї–∞–Ї –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П, –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –±—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤—Б–µ –Њ–љ–Є –Є–Ј—Г—З–∞—О—В –њ–∞—А—В–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–µ¬ї [6. –°. 79-80]. –Ъ —Н—В–Є–Љ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П–Љ —Б—В–Њ–Є—В –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –•–• –≤., –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—Г–Ї–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤ –±–Њ–ї–µ–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞—Г–Ї–Є –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –µ–µ –њ—А–Њ—А—Л–≤–Њ–Љ –Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є (–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В), —З—В–Њ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –Ї –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є –Є—Б—В–Є–љ—Л (–≥–љ–Њ—Б–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В), —В–µ—А—П–µ—В —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. ¬Ђ–Э–∞—Г—З–љ—Л–µ –≤–Њ–є–љ—Л¬ї, —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є–µ—Б—П –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–∞ –њ–Њ–ї—П—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Є –°. –®–µ–є–њ–Є–љ—Г —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А—П–і –Љ–µ—В–∞–љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–≤, –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ: ¬Ђ–љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Г—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–Љ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ, –љ–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ¬ї [7. –†. 100]. –°–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ш. –Ъ–∞—Б–∞–≤–Є–љ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї —Н—В–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Ї –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В–µ–є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –≤–љ–µ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б –љ–∞—Г–Ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ. –Ґ–∞–Ї, —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Ь–Є—Д –Є –љ–∞—Г–Ї–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —А–∞–≤–љ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–є, –Є —Е–Њ—В—П –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л, –Њ–љ–Є –≤ –Ї–∞–ґ–і—Г—О —Н–њ–Њ—Е—Г –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, —П–≤–ї—П—П—Б—М –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ–Є –Є—Б—В–Є–љ—Л, –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї—А–∞—Б–Њ—В—Л, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є¬ї [8. –°. 132]. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –°. –®–µ–є–њ–Є–љ–Њ–Љ –Љ–µ—В–∞–љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —В–µ–Ј–Є—Б–Њ–≤, –њ—А–Њ–ї–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —Б–≤–µ—В –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–є: ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞—Г–Ї–Њ–є, –њ–Њ–Ї–∞ –µ–≥–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—О—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ¬ї [7. –†. 100]. –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ–Љ –µ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤–∞–ґ–љ–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Т.–°. –°—В–µ–њ–Є–љ, –љ–∞ –≥–ї—Г–±–Є–љ–љ—Л–µ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –≥–љ–Њ—Б–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞—Г—З–љ–∞—П —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–ї–∞ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞. –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є —В–µ–Ї—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –Љ–Є—А–∞ –Є –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≤ –љ–µ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ (–≤–µ—А–љ–µ–µ, —В–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ—Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П), —З—В–Њ–±—Л –љ–∞—Г–Ї–∞ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П –Є –Ј–∞–љ—П—В—М —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ [9]. –°–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —В–Њ—В —Б—В–∞—В—Г—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–∞—Г–Ї–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –і–≤—Г–Љ—П —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Б —Г—В–≤–µ—А–і–Є–≤—И–Є–Љ—Б—П –љ–Њ–≤—Л–Љ ¬Ђ–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Њ–Љ¬ї (—Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є), –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Г—З–љ–∞—П —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Б—В–∞–ї–∞ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, —Б–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—Д—А–∞—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Њ–є, —А–µ–ї–µ–≤–∞–љ—В–љ–Њ–є –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є—Е –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В—М, - –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞—Г–Ї –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞, –І. –Ґ–µ–є–ї–Њ—А –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г, —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–Є–Љ –і–ї—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —Н–ї–Є—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–µ—В—Б—П –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—Б—Л [10]. –Э–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П 33 –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є–µ. –Ф–ґ. –С–µ–љ-–Ф–∞–≤–Є–і –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В: ¬Ђ–†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–Њ –Њ—В –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–љ—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–µ—А–Є–ї–Њ –≤ –љ–∞—Г–Ї—Г, –±–Њ—А–Њ—В—М—Б—П –Ј–∞ –µ–µ –Њ–±—Й–µ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞—В—М, –Є —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ —Б–≤–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –Ї –љ–∞—Г–Ї–µ –≤ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–Љ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–Є –Є —Ж–µ–ї–µ–љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є¬ї [11. –°. 138]. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ ¬Ђ–±–Њ—А—М–±—Л¬ї, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–µ–є –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Њ–є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –і–≤–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є—Е. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —Н—В–Њ —Б–∞–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Є–љ—Б—В–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Њ–≤, —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—Г—В—М –Ї –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—О –Ш—Б—В–Є–љ—Л —Б –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ—Л —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ—Б—П –і–∞–љ–љ—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е —Н—В–∞–њ–∞—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є —В–∞–Ї—Г—О —А–Њ–ї—М –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї, –њ–Њ–Ј–ґ–µ —Н—В–∞ —А–Њ–ї—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М (–њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ—В—З–∞—Б—В–Є) –≤ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Л. –Ю–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Њ–≤ –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ –Я–ї–∞—В–Њ–љ–∞, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–Њ–≤—И–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –і–ї—П –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б XV –≤., –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –≤ –Ш—В–∞–ї–Є–Є, –∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Є –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ, –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —Б–њ–µ–Ї—В—А –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—В—Б—П: –Њ—В –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –і–Њ –Љ–∞–≥–Є–Є –Є –∞–ї—Е–Є–Љ–Є–Є. –Т –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Є –≥—Г–Љ–∞–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Г–ґ–Ї–Є, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Љ–∞–ї–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П–Љ–Є, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –њ–Њ—Н—В–∞, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –Є–ї–Є –Љ–µ—Ж–µ–љ–∞—В–∞, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є —Г—Б—В–∞–≤–∞ –Є –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞ –Ї–∞–Ї—Г—О-–ї–Є–±–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М. –Ъ–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –≤ –Є—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –њ–µ—А–≤—Л—Е —В–∞–Ї–Є—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О –Р–љ—В–Њ–љ–Є–Њ –С–µ–Ї–Ї–∞–і–µ–ї–ї–Є (–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Я–Њ–љ—В–∞–љ–Є–∞–љ–∞), –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –≤ 1433 –≥. –≤ –Э–µ–∞–њ–Њ–ї–µ. –Т 1459 –≥. –Ъ–Њ–Ј–Є–Љ–Њ –Ь–µ–і–Є—З–Є –≤–Њ –§–ї–Њ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Я–ї–∞—В–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О. –Т 1560 –≥. –Ф–ґ.–С. –Я–Њ—А—В–∞ –≤ –Э–µ–∞–њ–Њ–ї–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П - –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —В–∞–є–љ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –§.–Ь. –°–∞–±–Є—А–Њ–≤–∞ –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є, ¬Ђ–∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –≤ –і–Њ–Љ–µ –Я–Њ—А—В—Л –ї—О–±–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –Ј–љ–∞–љ–Є—П: –љ–∞—Г–Ї–Є, –Љ–∞–≥–Є–Є, –∞—Б—В—А–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї [12. –°. 133]. –Т 1603 –≥. –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –і–µ–Є –Ы–Є–љ—З–µ–Є (–Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —А—Л—Б—М–µ–≥–ї–∞–Ј—Л—Е), —Ж–µ–ї—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –≤ 1611 –≥. –µ–µ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –У–∞–ї–Є–ї–µ–є. –Ф. –С–µ–љ-–Ф–∞–≤–Є–і —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –њ–µ—А–≤—Л–Љ, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –Њ—В–Ї—А—Л—В—Г—О –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Г—О –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞, –њ—А–Є—В—П–Ј–∞—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞ —А–∞–≤–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞–Љ–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї [11. –°. 131]. –Т 1657 –≥. –≤–Њ –§–ї–Њ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –Њ–њ—Л—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ —Ж–µ–ї—М—О –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ –У–∞–ї–Є–ї–µ—П. –° –љ–∞—З–∞–ї–∞ XVII –≤. –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Т 1620 –≥. –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ъ–ї–Њ–і –і–µ –Я–µ–є—А–µ—Б–Ї –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї ¬Ђ–љ–∞—Г—З–љ—Л–є –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї¬ї –≤ –≠–Ї—Б–µ. –С—А–∞—В—М—П –Ф—О–њ—О–Є —Г—З—А–µ–і–Є–ї–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ. –Ю—Б–Њ–±—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –Є –Њ—В—З–∞—Б—В–Є –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є—П –≤ –і–Њ–Љ–µ –Ь–∞—А–µ–љ–∞ –Ь–∞—А—Б–µ–љ-–љ–∞. –Т –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ –Ї—А—Г–ґ–Ї–Є –≤ –†–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ (1622), –∞ –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–µ –®–≤–∞–є–љ-—Д—Г—А—В–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є—Б–њ—Л—В–∞—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і—Л (1652) –Є –і—А. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ. –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Г—З–µ–љ—Л—Е 28 –љ–Њ—П–±—А—П 1660 –≥. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Љ–µ–Љ–Њ—А–∞–љ–і—Г–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —А–µ—И–Є–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М ¬Ђ–Ъ–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—О –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ-–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П¬ї, –Є–Ј–±—А–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б—В–∞–ї –Ф–ґ–Њ–љ –£–Є–ї–Ї–Є–љ—Б, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Є –Т.–°. –Ы–µ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є 34 –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —А–∞–Ј–Љ–µ—А –≤—Б—В—Г–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —З–ї–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —Б—В–∞–ї –Ї–Њ—А–Њ–ї—М, –∞ 15 –Є—О–ї—П 1662 –≥. –Њ–љ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї —Е–∞—А—В–Є—О, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М—Б—П ¬Ђ–Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–≤, –љ–∞—Г–Ї –Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤¬ї. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є –†–Њ–±–µ—А—В –С–Њ–є–ї—М –Є –†–Њ–±–µ—А—В –У—Г–Ї, –∞ —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ - –Ю–ї—М–і–µ–љ–±—Г—А–≥. –° —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–Њ—Б–ї–∞, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–≤, –Є –Ї 1675 –≥. –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ 225, –∞ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVIII –≤. —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–∞ 327 —З–ї–µ–љ–Њ–≤, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е 147 –±—Л–ї–Є –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ю —Ж–µ–ї—П—Е, –Ј–∞–і–∞—З–∞—Е –Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞—Е –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ–і–≤—Г—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–µ–є –†. –У—Г–Ї–∞: ¬Ђ–†–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–∞, –Љ–∞–љ—Г—Д–∞–Ї—В—Г—А—Л, –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї—Г, –Љ–∞—И–Є–љ—Л, –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є—П, –љ–µ –≤–Љ–µ—И–Є–≤–∞—П—Б—М –≤ –±–Њ–≥–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г, –Љ–Њ—А–∞–ї—М, –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г, –≥—А–∞–Љ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г, —А–Є—В–Њ—А–Є–Ї—Г –Є –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г¬ї (—Ж–Є—В. –њ–Њ: [13, –°. 51]). –Ю –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П—Е –Є –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞—Е –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –≤ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –Т 1664 –≥. —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л: –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞, –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П –Є –Њ–њ—В–Є–Ї–∞, –∞–љ–∞—В–Њ–Љ–Є—П, —Е–Є–Љ–Є—П, –∞–≥—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —А–µ–Љ–µ—Б–µ–ї, –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ —Б–±–Њ—А—Г –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –≤—Б–µ—Е —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–є –Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –њ—А–Є—А–Њ–і—Л –Є –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–њ—Л—В–∞—Е, –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є. –°–∞–Љ—Л–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ –±—Л–ї –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –њ–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–µ, –≤ –љ–µ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Њ 69 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Ю–±—Л—З–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П—Е –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—Г–±–ї–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—Л—В–Њ–≤, —З—В–µ–љ–Є–µ –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ XVII - –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤. —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Х–≤—А–Њ–њ—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Я–∞—А–Є–ґ, –Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б—Л–≥—А–∞–ї–∞ –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є—Ж–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–∞ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П ¬Ђ–Ь–Њ–љ–Љ–Њ-—А–∞¬ї. 22 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1666 –≥. –≤ –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–µ –Ы—О–і–Њ–≤–Є–Ї–∞ XIV —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–µ –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ч.–Р. –°–Њ–Ї—Г–ї–µ—А, —Б —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ ¬Ђ–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–Љ –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є¬ї [14. –°. 89]. –Ф–∞–ї–µ–µ –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –≤—Б–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ. –Т –С–µ—А–ї–Є–љ–µ –≤ 1700 –≥. –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–Љ –§—А–Є–і—А–Є—Е–Њ–Љ II –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–µ–Ј–Є–і–µ–љ—В–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–ї –У. –Ы–µ–є–±–љ–Є—Ж. –Т 1724 –≥. —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –Я–µ—В—А–∞ I –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –љ–∞—Г–Ї. –Т 1739 –≥. —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –Э–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—П –≤ –®–≤–µ—Ж–Є–Є, –≤ 1742 –≥. - –≤ –Ф–∞–љ–Є–Є, –≤ 1760 –≥. -–≤ –Э–Њ—А–≤–µ–≥–Є–Є –Є —В.–і. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –∞—А–µ–∞–ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є–љ—Б—В–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П —А–∞—Б—И–Є—А—П–µ—В—Б—П, —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—О—Й–µ–µ—Б—П (–≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—О—В –±—Л—В—М —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–∞–Љ–Є, —Б–∞–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Г—З–µ–љ—Л–є¬ї –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ XIX –≤.), –∞ –љ–∞—Г–Ї–∞ –Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ—Л–µ –≤—Л—Б—И–µ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О. –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї —Б—В–∞–ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П. –Ю–љ–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є—П –і–ї—П –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞¬ї. –≠—В—Г —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О, —Б—А–µ–і–Є –њ—А–Њ—З–µ–≥–Њ, —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П. –Я–µ—А–≤—Л–Љ —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–Љ —Б—В–∞–ї –њ–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї, –Є–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л–є —Б —П–љ–≤–∞—А—П 1665 –≥., –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–Є —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ. –Я—А–Є –Ц.-–Я. –С–Є–љ—М–Њ–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї—Г—О –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—О, –≤ 1701 –≥., –ґ—Г—А–љ–∞–ї —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞–ї –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –µ–≥–Њ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—П–Љ, —Ж–µ–ї—М—О –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞- –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П 35 –Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–Њ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ–Є, –і–ї—П —З–µ–≥–Њ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–Є—Б—М –Є—Е –∞–љ–љ–Њ—В–∞—Ж–Є–Є, —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П—Е –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Ґ–Є—А–∞–ґ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 1 000 —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А–Њ–≤, –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –і–Њ –і–≤—Г—Е –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤ –≤ –Љ–µ—Б—П—Ж. –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ ¬Ђ–§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї–Є¬ї -–ґ—Г—А–љ–∞–ї —Б –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ–Њ–є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –Љ–Є—Б—Б–Є–µ–є. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ѓ.–•. –Ъ–Њ–њ–µ-–ї–µ–≤–Є—З, —Н—В–Є –і–≤–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–∞ ¬Ђ—Б—В–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–љ–∞–ї–∞–Љ–Є –Њ–±–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞¬ї [13. –°. 34]. –Ю–љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–µ–ї–Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є. –Ю—З–µ–љ—М –±—Л—Б—В—А–Њ, –њ–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Г –і–∞–љ–љ—Л—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤, –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –љ–∞—З–∞–ї–Є –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е. –Т –†–Є–Љ–µ –≤ 1668 –≥., –≤ –Т–µ–љ–µ—Ж–Є–Є –≤ 1671 –≥. –љ–∞—З–∞–ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є ¬Ђ–Ц—Г—А–љ–∞–ї —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї. –Т –У–Њ–ї–ї–∞–љ–і–Є–Є –Є–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–Э–Њ–≤–Њ—Б—В–Є —А–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є –љ–∞—Г–Ї¬ї –Є ¬Ђ–£–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞¬ї. –Т –Ы–µ–є–њ—Ж–Є–≥–µ –≤ 1682 –≥. –љ–∞—З–∞–ї –≤—Л—Е–Њ–і–Є—В—М –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–Ґ—А—Г–і—Л —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –ї–∞—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П –±—Л—Б—В—А–Њ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ. –Я–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є—Е –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–ї–∞ —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –≥–Њ–і–Њ–Љ –Є –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤. —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥–µ—А–Љ–∞–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Є—Е –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 250. –Т–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –µ–Љ–Ї–Њ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ѓ.–•. –Ъ–Њ–њ–µ–ї–µ–≤–Є—З: ¬Ђ–Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В –њ–Њ—З—В–Є –≤ –Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є —Б –Є—Е –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Є вАЮ–≤–Њ–ї—М–љ–∞—ПвАЬ –љ–∞—Г—З–љ–∞—П –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є–Ї–∞ - —Н—В–Њ –і–≤–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї–Њ—Б—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ XVII-XVIII –≤–≤.¬ї [–Ґ–∞–Љ –ґ–µ. –°. 40]. –Х—Б–ї–Є —Б—О–і–∞ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Н–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є–Є, —Б—В–∞–≤—И–Є–µ –љ–Њ–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є ¬Ђ–Ї–∞–љ–Њ–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –∞–ї—М–Љ–∞–љ–∞—Е–Є, –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Л, –њ–∞–Љ—Д–ї–µ—В—Л –Є —В.–і., —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–є –≤–Є–і. –У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ–± –Є–љ—Б—В–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤. –Я–µ—А–≤—Л–є - —Н—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞, –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Є —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї. –Я—А–Є –≤—Б–µ—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Њ –Њ–±–Љ–µ–љ—Г –і–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є –Љ–µ–ґ–і—Г —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ. –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г–ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—П—Ж—Л —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є –і–µ–ї—М –І–Є–Љ–µ–љ—В–Њ –≤ –Ґ–Њ—Б–Ї–∞–љ–µ, –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –Ь–Њ–љ–Љ–Њ—А–∞ –≤ –Я–∞—А–Є–ґ–µ –Є –і—А. –Э–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П—Е –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –Ј–∞—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л—Е —Г—З–µ–љ—Л—Е: –У—О–є–≥–µ–љ—Б–∞, –Ь–∞-—А–Є–Њ—В—В–∞, –Ы–µ–є–±–љ–Є—Ж–∞ –Є –і—А., –∞ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Л –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞–ї–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞–µ–Љ—Л–µ –Є–Ј –і—А—Г–≥–Є—Е –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є. –Ь–µ–ґ–і—Г —Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —З–µ–≥–Њ –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є. –Ю—Б–Њ–±—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Б—Л–≥—А–∞–ї –Ю–ї—М–і–µ–љ–±—Г—А–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є 17 –ї–µ—В –±—Л–ї —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А–µ–Љ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Є –Ь–µ—А—Б–µ–љ–љ, –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ ¬Ђ–њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є¬ї —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є. –Э–∞ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Њ–±—А–∞—В–Є–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Т.–°. –°—В–µ–њ–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Є—Б–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–Є ¬Ђ–≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –Њ—Б–Њ–±—Л–є —В–Є–њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Є–Ј–±—А–∞–ї–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л –≤ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Г—О –†–µ—Б–њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї [9. –°. 89-90]. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ —Б–µ—В—М –Є–Ј –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є –Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Њ–±—Й—Г—О –љ–∞—Г—З–љ—Г—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞—Г—З–љ—Г—О —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б—В—А–µ–Љ—П—Й–Є—Е—Б—П –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М –µ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. –Т.–°. –Ы–µ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є 36 –Т—В–Њ—А–Њ–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ—А–∞–Ї—Б–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–∞. –°–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–∞—Г–Ї–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Б—Д–µ—А–∞—Е: –Њ—В –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –і–Њ —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ —З–µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В —Б—В–∞—В—Г—Б –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є, —З—М—П —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј–∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–µ—В —В–µ–њ–µ—А—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В. –Я–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞: ¬Ђ–Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Њ –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–µ–є¬ї [14. –°. 96]. –°–∞–Љ–Є –ґ–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є –њ–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —З–∞—Б—В—М—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–ї–Є—В—Л (–Ы–∞–њ–ї–∞—Б, –Ъ—О–≤—М–µ, –С–µ—А—В–Њ–ї–ї–µ) –Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –≤–ї–Є—П—В—М –љ–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. –Ґ—А–µ—В–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Г–Ї–Њ–є —А–Њ–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П. –Ф–ї—П —А–∞–љ–љ–µ–≥–Њ –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М, —З—В–Њ –µ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—В —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—О, –∞, –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—В –Є—Б—В–Є–љ—Л –Ю—В–Ї—А–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ь.–Ъ. –Я–µ—В—А–Њ–≤–∞, –љ–µ—В ¬Ђ–љ–Є—З–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї–∞—В–Њ–ї–Є–Ї, –∞–±–±–∞—В –Ь–µ—А—Б–µ–љ–љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—В—Ж–Њ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї, –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ –Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є–є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є¬ї [15. –°. 275]. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–∞—Г–Ї–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –≤—Л–є—В–Є –Є–Ј-–њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —Б–∞–Љ–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Г—О –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ —Н—В–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–Є –Њ—В –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є - –Њ–љ–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–µ—З–∞—В–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —В—А—Г–і—Л –Љ–Є–љ—Г—П —Ж–µ–љ–Ј—Г—А—Г. ¬Ђ–Ф–Њ —В–Њ–≥–Њ, - –њ–Є—И–µ—В –Ч.–Р. –°–Њ–Ї—Г–ї–µ—А, - –њ—А–∞–≤–∞ –Є –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–Њ–є, –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Я–∞—А–Є–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –Я—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –ї—М–≥–Њ—В—Л –Ї–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П –≤–ї–∞—Б—В—М –Њ—Б–ї–∞–±–ї—П–ї–∞ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ - —Ж–µ—А–Ї–≤–Є...¬ї [14. –°. 98]. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ф. –С–µ–љ-–Ф–∞–≤–Є–і –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —Ж–µ–ї—М—О –љ–Њ–≤—Л—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Њ–≤-—Г—З–µ–љ—Л—Е –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII –≤. –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ ¬Ђ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—П (—Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–є) –Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є¬ї [11. –°. 186]. –Т —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ї–∞–Ї –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А—Г—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –∞ –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –љ–∞ –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Л –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П ¬Ђ–Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞, –љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–Љ –Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ—Л–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–Љ. –Ц–∞–Ї –Ы–µ –У–Њ—Д—Д –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –±—Г–ї–ї—Л –њ–∞–њ—Л –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П IX, —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Е–∞—А—В–Є–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤ (1231), –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤—Л–≤–µ–і–µ–љ—Л –Є–Ј-–њ–Њ–і —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ—Л —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —Б—В–∞–≤ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П [16]. –°–Њ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Ч.–Р. –°–Њ–Ї—Г–ї–µ—А –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г ¬Ђ—Г—З–µ–љ—Л–Љ–Є¬ї —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ XIX –≤., –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Э–µ–і–∞—А–Њ–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Б–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –і–Њ XIX –≤. –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ —Б—В–µ–љ–∞–Љ–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ [14]. –¶–µ–ї—М –≤–љ–Њ–≤—М —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–µ–Љ—Л—Е —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –≤ –≤—Л–≤–Њ–і–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і –Њ–њ–µ–Ї–Є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л –Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П –Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А–µ. –Ґ–∞–Ї, –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –µ—Й–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤. —Б–Њ–Ј–і–∞—О—В—Б—П –≤—Л—Б—И–Є–µ —Г—З–µ–±–љ—Л–µ –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–Њ–≤: –®–Ї–Њ–ї–∞ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Є –і–Њ—А–Њ–≥ (1715), –®–Ї–Њ–ї–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–Є (1720), –®–Ї–Њ–ї–∞ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞ (1783) –Є —В.–і. –Т —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ- –Ч–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П 37 –љ–Њ–µ –Є –њ–Њ—Б—В—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–∞ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–∞ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Л –±—Л–ї–Є —Г–њ—А–∞–Ј–і–љ–µ–љ—Л, –∞ –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–≤—Л—Б—И–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л¬ї, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –Я–Њ–ї–Є—В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞ –Є –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —И–Ї–Њ–ї–∞, –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–≤—И–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е, –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–Њ–≤, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ґ–∞–Ї, –≤ 1794 –≥. –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л 1 200 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В –≤—Б–µ—Е –Љ—Г–љ–Є—Ж–Є–њ–∞–ї–Є—В–µ—В–Њ–≤ —Б—В—А–∞–љ—Л –і–ї—П –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–ґ–µ –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є–Є –Є –≤–µ—Б—В–Є —В–∞–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Ф. –С–µ–љ-–Ф–∞–≤–Є–і –њ–Є—И–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –љ–Њ–≤–∞—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є –љ–∞—Г—З–љ–∞—П —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞, –∞ —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Г—О –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–µ–ґ–і–µ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –і—Г—Е–Њ–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ, –∞ –љ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—Г–Ї–Є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –љ–Њ–≤—Л—Е –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–Њ–є —Б–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Њ–≤, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Г—З–µ–љ—Л—Е¬ї [11. –°. 178]. –°–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –У—Г–Љ–±–Њ–ї—М–і—В–Њ–≤-—Б–Ї–Є–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В: –љ–∞—Г–Ї–∞ –≤ –љ–µ–Љ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—Б—П, –љ–Њ –≤ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В—Б—П. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –Є–і–µ–µ–є, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–µ–є –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ –•–Ъ –≤. –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В —Б—В–∞–ї —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ–љ –Ї–∞–Ї –Њ—В –≤–ї–Є—П–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, —В–∞–Ї –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–µ–љ –Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П —Б –°. –§—Г–ї–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –≥—Г–Љ–±–Њ–ї—М–і—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В, –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–У–µ–љ–Є–є –У—Г–Љ–±–Њ–ї—М–і—В–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –С–µ—А–ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XIX –≤–µ–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ–Љ—Л–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ —А—Л–љ–Њ–Ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –њ–µ—А–µ–Є–Ј–Њ–±—А–µ—В—П —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—Й–µ–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Є –Є —Б–і–µ–ї–∞–≤ –µ–≥–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–∞ –≤ –љ–Њ–≤–µ–є—И–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П¬ї [17. –°. 243]. –Т.–Т. –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤ –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В —З–µ—В—Л—А–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –≥—Г–Љ–±–Њ–ї—М–і—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ-–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В ¬Ђ–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П¬ї [18. –°. 22]. –Т—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –≤ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ—А–µ—В–Є–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б—Г—А—Л. –≠—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —Б–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ф. –С–µ–љ-–Ф–∞–≤–Є–і–∞. –Ю–љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ–Љ –Є –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А—Л. ¬Ђ–І–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ, - –њ–Є—И–µ—В –Т.–Т. –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤, - –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є—П –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї [–Ґ–∞–Љ –ґ–µ]. –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Е—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–Њ–љ–∞ —Н–њ–Њ—Е–Є –Љ–Њ–і–µ—А–љ. –Т –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н–≤—А–Є—Б—В–Є—З–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –і–∞–ї–µ–Ї–Њ–є –Њ—В –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є—В—М –Є—Б—В–Є–љ—Л, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–љ–µ–µ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—О –Є —А–∞–љ–љ–µ–Љ—Г –Љ–Њ–і–µ—А–љ—Г, –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ґ–∞–Ї, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ъ–∞—А–µ–ї –Ф–Њ–±–±–µ–ї–∞—А–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–µ–ї–Є–≥–Є—П –Є–Ј —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞, –њ—А–Њ–љ–Є–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –≤—Б–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ–ї—П, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–Њ–і—Б–Є—Б—В–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Љ–Њ–і–µ—А–љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–і—Б–Є—Б—В–µ–Љ –Т.–°. –Ы–µ–≤–Є—Ж–Ї–Є–є 38 –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є [19]. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –≤–Ј–≥–ї—П–і –љ–∞ –њ—А–Є—А–Њ–і—Г –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ъ. –Ь–∞–љ–≥–µ–є–Љ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–є, –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Ј–∞ ¬Ђ–Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є—О –Љ–Є—А–∞¬ї –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ (—Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М), –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –Є—Е –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–µ [20]. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —В–Є–њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–Њ–Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–Љ –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–± –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ–Љ. –Т –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Б–µ–Ї—Г–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –љ–µ —А–∞—Б–њ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і—Б–Є—Б—В–µ–Љ, –љ–µ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ. –С–Њ–ї–µ–µ –њ—А–∞–≤–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—Й–∞—П –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П (—Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П) –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є (–љ–∞—Г—З–љ–Њ–є) —Б–Њ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ (–Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–Љ) –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–Є–Љ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ —Б—Д–µ—А—Л –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤ –Я—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –≤ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–µ - –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л –µ–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –Т —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В—М, —З—В–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –љ—Г–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –µ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–∞–Ї –Є –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–µ–Ј –¶–µ—А–Ї–≤–Є. –Я–Њ–±–µ–і–∞ –љ–∞—Г–Ї–Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є - —Н—В–Њ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–∞—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ј–∞–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж–µ–≤ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є¬ї –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є (—Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е —А–µ—Б—Г—А—Б–∞–Љ–Є –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ, –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–µ–є –љ–∞ –Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ –Є —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є–є, —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞—А–Љ–Є–Є –Є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –Є —В.–і.). –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, –∞ –љ–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П (–њ—А–Є—И–µ–і—И–Є–µ –≤ –Љ–∞—Б—Б–µ —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –і–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ—В—Л), —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –љ–Њ–≤–Њ–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–µ –њ–Њ–ї–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—Г–Ї–∞ –≤–Њ—Ж–∞—А–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є, –∞ –µ–µ –≤–µ—А–і–Є–Ї—В–Њ–≤ –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–є –ґ–і–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—Б—Л –Є —З—Г–і–∞. –Я—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б—В–∞—В—М–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л. –Т–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –љ–∞—Г–Ї–∞ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–ї–∞ –њ—А–Њ—А—Л–≤ –Ї –±–Њ–ї–µ–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–ї–Њ—П–Љ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —Б–Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М –і–ї—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–Є—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—О, –њ—А–Є–і–∞–≤ –µ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Д–Њ—А–Љ—Г, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И—Г—О –і–Њ–Љ–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞. –Т–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –љ–∞—Г–Ї –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Л –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –≥–∞—А–∞–љ—В–∞–Љ–Є ¬Ђ–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є¬ї –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞, –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞—О—Й–Є–Љ–Є –љ–∞—Г—З–љ—Г—О –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –µ–є —В–Є–њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Т-—В—А–µ—В—М–Є—Е, ¬Ђ–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–є, –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—О—Й–Є—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Њ–Љ –Є —В—А–∞–љ—Б–ї—П—В–Њ—А–Њ–Љ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л, –∞ —Б–∞–Љ–∞ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–∞—П –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—П —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ, –Є—Б—Е–Њ–і –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ –љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –ї–µ–≥–Є—В–Є–Љ–љ–∞—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—П —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–∞ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї.
–•—О–±–љ–µ—А –Ъ. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –Ь., 1994. 326 —Б.
–У–µ–≥–µ–ї—М –У.–Т.–§. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –і—Г—Е–∞. –°–Я–±. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 2015. 443 —Б.
–Ъ—Г–∞–є–љ –£.–Т.–Ю. –Ф–≤–µ –і–Њ–≥–Љ—Л —Н–Љ–њ–Є—А–Є–Ј–Љ–∞ // –° —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є. 9 –ї–Њ–≥–Є–Ї–Њ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е –Њ—З–µ—А–Ї–Њ–≤. –Ь. : –Ъ–∞–љ–Њ–љ+ –†–Ю–Ю–Ш ¬Ђ–†–µ–∞–±–Є–ї–Є—В–∞—Ж–Є—П¬ї, 2010. –°. 45-80
–Ъ–Њ–є—А–µ –Р. –Ю—З–µ—А–Ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є. –Ь., 1985. 281 —Б.
–У–∞–ї–Є–ї–µ–є –У. –Ф–Є–∞–ї–Њ–≥ –Њ –і–≤—Г—Е –≥–ї–∞–≤–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞, –Я—В–Њ–ї–µ–Љ–µ–µ–≤–Њ–є –Є –Ъ–Њ–њ–µ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–є. –Ь. ; –Ы. : –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ-—В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, 1948. 380 —Б.
–Ф–∞—Б—В–Њ–љ –Ы. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Ј–љ–∞–љ–Є—П // –Ы–Њ–≥–Њ—Б. 2020. вДЦ 1. –°. 63-90.
Shapin S. How to Be Antiscientific // The One Culture? The Conversation About Science / H. Collins, J.A. Labinger (eds). Chicago ; London : University of Chicago Press, 2001. P. 99-115.
–Ъ–∞—Б–∞–≤–Є–љ –Ш.–Ґ. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Н–њ–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П. –§—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –њ—А–Є–Ї–ї–∞–і–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л. –Ь. : –Р–ї—М—Д–∞-–Ь, 2013. 560 —Б.
–°—В–µ–њ–Є–љ –Т.–°. –Ґ–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ. –Ь. : –Я—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б-–Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є—П, 2000. 744 —Б.
Taylor C. Modern Social Imaginaries. Durham ; London : Duke University Press, 2004.
–С–µ–љ-–Ф–∞–≤–Є–і –Ф. –†–Њ–ї—М —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –Ь. : –Э–Њ–≤–Њ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ –Њ–±–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–µ, 2014. 344 —Б.
–°–∞–±–Є—А–Њ–≤–∞ –§.–Ь. –†–Њ–ї—М –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є –љ–∞—Г–Ї –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є —Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤ XVI-XVIII –≤–≤. // –Э–∞—Г–Ї–∞ –Є —И–Ї–Њ–ї–∞. 2011. вДЦ 1. –°. 133-138.
–Ъ–Њ–њ–µ–ї–µ–≤–Є—З –Ѓ.–•. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–є. –Ы. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 1974. 267 —Б.
–°–Њ–Ї—Г–ї–µ—А –Ч.–Р. –Ч–љ–∞–љ–Є–µ –Є –≤–ї–∞—Б—В—М: –љ–∞—Г–Ї–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Љ–Њ–і–µ—А–љ–∞. –°–Я–±. : –†–•–У–Ш, 2001. 240 —Б.
–Я–µ—В—А–Њ–≤ –Ь.–Ъ. –ѓ–Ј—Л–Ї, –Ј–љ–∞–Ї, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞. –Ь. : –Х–і–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї –£–†–°–°, 2004. 328 —Б.
–Ц–∞–Ї –Ы–µ –У–Њ—Д—Д. –Ш–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—Л –≤ –°—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–∞. –Ф–Њ–ї–≥–Њ–њ—А—Г–і–љ—Л–є: –Р–ї–ї–µ–≥—А–Њ-–Я—А–µ—Б—Б, 1997.
–§—Г–ї–µ—А –°. –°–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є: –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ —Г–Љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –Є –≤–љ–µ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є. –Ь. : –Ф–µ–ї–Њ, 2018. 384 —Б.
–Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤ –Т.–Т. –У—Г–Љ–±–Њ–ї—М–і—В, –љ–∞—В—Г—А—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В –Ї–∞–Ї —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б—Г–Љ // –Т–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. 2021. вДЦ 2. –°. 19-23.
Dobbelaere K. Towards an Integrated Perspective of the Processes Related to the Descriptive Concept of Secularization // Sociology of Religion. 1999. Vol. 60, Issue 3.
–Ь–∞–љ—Е–µ–є–Љ –Ъ. –Ш–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є —Г—В–Њ–њ–Є—П // –Ь–∞–љ—Е–µ–є–Љ –Ъ. –Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј –љ–∞—И–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Ь. : –Ѓ—А–Є—Б—В, 1994. –°. 7-276.
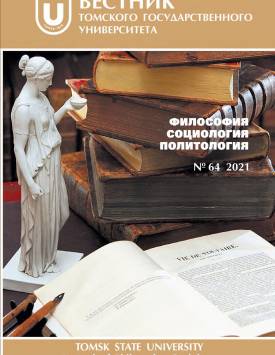

 –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О
–Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О