–Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Ю–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О ¬Ђ–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤¬ї. –≠—В–Њ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –Ї —Б–ґ–∞—В–Є—О –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О. –Ы–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ—Л —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤.
Phenomenological Extension of the Formal Proof Theory.pdf –Т–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –Т —Б—В–∞—В—М–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –Ь–Њ—В–Є–≤–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї —В–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Њ–±–љ–∞–ґ–∞–µ—В —З–µ—А–µ–і—Г —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–є. –≠—В–Є —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –Њ–і–µ—П–љ–Є–Є ¬Ђ–Љ–µ—В–∞–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є¬ї, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤ –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є—П—Е –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Њ ¬Ђ–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –Љ–µ—В–∞–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є¬ї, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є–Ј—Г—З–∞—О—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —П–Ј—Л–Ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л—Е –∞–ї–≥–µ–±—А –Є–ї–Є —В–µ–Њ—А–Є–Є —А–µ—И–µ—В–Њ–Ї. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–і–∞—З, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞—Г—З–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б–њ–µ—Е—Г –Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е, —В–∞–Ї –Є –≤ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П—Е. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —В–µ—Б–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ –і–ї—П —А–µ—И–µ–љ–Є—П –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –≠—В–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–Њ—З–Ї–Њ–є —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—О—Й–µ–є —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є—О, —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Њ—В–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Ј–Є—Б –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї—Г —В–µ–Њ—А–µ–Љ—Л, –∞ –≤—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –µ—Б—В—М –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –µ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ–њ—А–∞–≤–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—Б–Ї—А–Є–њ—Ж–Є–є. –Ш–і–µ—П –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–Є—З—М –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Є–љ—В–µ–Ј–∞ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –§—А–µ–≥–µ, –У–Є–ї—М–±–µ—А—В–∞ –Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –µ—Б—В—М –µ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б: –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є –і–∞—В—М –і–µ—В–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –і–µ–ї–∞–µ–Љ, –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞? –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Њ–≤ –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–є —Б–Є–љ—В–µ–Ј –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л¬ї, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–≥–Љ–∞—В—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ—Л —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ- –Ѓ.–У. –°–µ–і–Њ–≤ 42 –≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–і–µ—П–Љ. –Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В—Л –≠–і–Љ—Г–љ–і–∞ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П —Б —Н—В–Є–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —В–µ—Б–љ—Л–µ –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ: –Ъ–∞—А–ї –Т–µ–є–µ—А—И—В—А–∞—Б—Б, –У–µ–Њ—А–≥ –Ъ–∞–љ—В–Њ—А, –У –Њ—В—В–ї–Њ–± –§—А–µ–≥–µ, –Ы–µ–є—В–Ј–µ–љ –С—А–∞—Г—Н—А, –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї –Ф–∞–≤–Є–і–∞ –У –Є–ї—М–±–µ—А—В–∞, –С–µ—А—В—А–∞–љ –†–∞—Б—Б–µ–ї, –†—Г–і–Њ–ї—М—Д –Ъ–∞—А–љ–∞–њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ–±—Й–µ–є —В–µ–Љ–Њ–є –і–ї—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –Є –§—А–µ–≥–µ —Б—В–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ–Є–Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є—З–µ–Љ –§—А–µ–≥–µ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ —Б –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤–∞—П –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є—П. –°—А–µ–і–Є —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —В–µ–Њ—А–Є–є –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–µ—В –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞, –љ–µ—В –Њ–±—Й–µ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –∞ –µ—Б—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—В—А–µ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г divide et impera. –Э–Њ —В–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ–∞, –Ј–∞ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є –≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е –Њ–њ–њ–Њ–љ–µ–љ—В–Њ–≤ —В–µ—А—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞. –Я–Њ–і–Њ–±–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –≤ –љ–µ–і–∞–≤–љ–Є—Е –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П—Е –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Э–Њ –Њ–љ –Ј–∞—В–µ—А—П–ї—Б—П –≤ –±–µ—Б–њ–ї–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е ¬Ђ–§—А–µ–≥–µ –Є–ї–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М¬ї, —Е–Њ—В—П –Ј–і—А–∞–≤—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –Ї–Њ–љ—К—О–љ–Ї—Ж–Є–Є. –°–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–і–µ–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—В–µ—Б–љ—П–µ—В—Б—П –Є–Ј —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, —В–µ–њ–µ—А—М –Љ–µ–ґ–і—Г –С—А–∞—Г—Н—А–Њ–Љ –Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї–µ–Љ. –Ь–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г –Њ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –≥—Г—Б—Б–µ—А-–ї–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є –Ї —В–Њ—З–Ї–µ –Ј—А–µ–љ–Є—П –У–Є–ї—М–±–µ—А—В–∞ [1. P. 66]. –° –ї–µ–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й—Г—О ¬Ђ—Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Г—О¬ї —В–µ–Љ—Г –Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П—Е –Љ–µ–ґ–і—Г –У–Є–ї—М–±–µ—А—В–Њ–Љ –Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї–µ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—Л–µ —В–µ–Љ—Л –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Л, –Є–±–Њ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –У–Є–ї—М–±–µ—А—В–Њ–Љ, –∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П - –У—Г—Б—Б–µ—А–ї–µ–Љ. –Я—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є —Б–Є–љ—В–µ–Ј –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Њ–±—Й–Є—Е —В–Њ—З–µ–Ї —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Ю–љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є—В –ї–Є—И—М —З–∞—Б—В—М—О –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞. –Ш –љ–µ—В –Њ—Б–Њ–±–Њ–є –љ—Г–ґ–і—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є–љ—Л–Љ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П–Љ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—П—Б—М –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –≤–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞—Е –і–∞–ґ–µ —Г –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Њ–і–љ–Њ–є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л. –Т–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –У—Г—Б—Б–µ—А–ї–µ–Љ, –§—А–µ–≥–µ –Є –У–Є–ї—М–±–µ—А—В–Њ–Љ –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –∞ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Њ–±—Й–Є–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М¬ї. –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–∞ –≤ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ, –≤ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П—Е –С—А–∞—Г—Н—А–∞ –Є –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є. –ѓ—А–Ї–Є–Љ –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—П –Р—А–µ–љ–і–∞ –У –µ–є—В–Є–љ–≥–∞, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є [2. –†. 107]. –Ч–і–µ—Б—М –Њ–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–ї –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Њ–љ–Є—Б—В—Б–Ї—Г—О —В–Њ—З–Ї—Г –Ј—А–µ–љ–Є—П –Є —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї—Г —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В–∞ –Є –љ–∞ –ґ–Є–≤—Г—О –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П (lebendige Aktivitat des Denkens). –Т –і—А—Г–≥–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П (Erkenntnis) –њ—А–Њ—П–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—П (Erkennen selbst), –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П. –Я—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –У–µ–є—В–Є–љ–≥–Њ–Љ –Є–і–µ–Є –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ъ—Г—А—В–∞ –У—С–і–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –Њ–±–Ј–Њ—А–µ [3] –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –≤—Л—И–µ—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Г—О —Б—В–∞—В—М—О. –Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –У—С–і–µ–ї—М –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –Є–і–µ—П–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ- –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ 43 —Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–∞–ї –µ–≥–Њ —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –Є—Й–µ–Љ —В–Њ—З–Ї–Є —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—П—Б—М –њ–Њ–≤–µ—А—Е–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П–Љ–Є, —В–Њ –±—Л–ї–Њ –±—Л –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А–µ—И–Є—В—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б: –Ї–∞–Ї –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –У—С–і–µ–ї—П –Ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П, —З–µ–≥–Њ –Њ–љ —Е–Њ—В–µ–ї –і–Њ—Б—В–Є—З—М, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –≤ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е? –С–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Б—Л–ї–Ї–Є –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ [4. P. 7]. –Т –љ–µ–є –і–µ–ї–∞–µ—В—Б—П –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–ї—П –У—С–і–µ–ї—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–∞ –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Г—О –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Г, –∞ —Ж–µ–ї—Г—О –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —Б–≤–µ—В–µ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Є –Њ–њ—Л—В–∞. –Ю –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Ю–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–Њ-–Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–Њ–≤ –Є —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—Ж–Є–є –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–µ ¬Ђ—Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є¬ї –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —Б —Ж–µ–ї—М—О –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є —Б–∞–Љ—Л—Е –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –У –Є–ї—М–±–µ—А—В—Г –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ. –Р–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–µ—Б–µ—В –љ–∞ —Б–µ–±–µ –њ–µ—З–∞—В—М —Н–Ї–Ј–Є—Б—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞, —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ–Љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Њ–є, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Њ—В –∞–љ—В–Є–љ–Њ–Љ–Є–є –Є –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–Њ–≤, –љ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї—О—Й–µ–є –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—Ж–Є—О –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞ tertium non datur. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –∞—Б–њ–µ–Ї—В–Њ–≤ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–µ–Њ—А–Є—П —Б—В—А–Њ–≥–Є—Е ¬Ђ–Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤¬ї [5. P. 7]. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–є –Є–і–µ–µ–є —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –±—Л–ї–∞ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —В—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ—А–∞–≤–Є–ї –≤—Л–≤–Њ–і–∞, –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ–Њ–є –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ю–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ –љ–∞—З–∞–ї –∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є–Ї–Є, –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є –Є –∞–ї–≥–µ–±—А—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П—В–Њ —Б —Ж–µ–ї—М—О –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Б–µ—Е –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є. –§–Є–љ–Є—В–љ–∞—П —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—Л. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —В–µ–Њ—А–Є–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є, –і–Є—Д—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Є, —В–µ–Њ—А–Є–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤ –Є —В–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –љ–∞—А—Г—И–∞—О—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —В–∞–Ї–ґ–µ ¬Ђ–љ–µ—Д–Є–љ–Є—В–љ—Л–µ¬ї –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ—Л—Е –Є–љ–і—Г–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–є. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –≤—Л–≤–Њ–і–Њ–≤ –і–ї—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П –Ї —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є¬ї –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –≤ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—Й–µ–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ–Њ–љ–µ–љ—В—Л –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –Є –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –§—А–µ–≥–µ, –±–µ–Ј —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Х—Б–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ–Љ—Л–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Є —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ—Л–Љ–Є, –Љ–љ–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –і–∞—О—Й–Є–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–µ, –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ. –Я—А–Є–Љ–µ- –Ѓ.–У. –°–µ–і–Њ–≤ 44 —А–∞–Љ–Є –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–є –≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П, –Ї–∞–Ї —З–Є—Б–ї–Њ, —Б—В–µ–њ–µ–љ—М, –≤–µ–ї–Є—З–Є–љ–∞, –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М, —З–∞—Б—В—М, —Ж–µ–ї–Њ–µ, –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ. –Э–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ (Gleichheitsbeziehung). –Т –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є–љ—П—В–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞, —З—В–Њ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–Њ. –Я—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А—Г–µ–Љ –і–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Ј–Є—Б –љ–∞ –і–≤—Г—Е –њ—А–Њ—Б—В—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞—Е [6. –†. 75, 148-149]. –Я—А–Є–Љ–µ—А 1. –£—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–µ 4—Е - 3 = 3 –Є–Љ–µ–µ—В –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–Њ—А–љ–µ–є, –љ–Њ –і–ї—П –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —Б—Г—В–Є –і–µ–ї–∞ –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –і–≤—Г—Е: 6/4 –Є 3/2. –•–Њ—В—П –Њ–љ–Є —А–∞–≤–љ—Л, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є—В—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–≤–∞ –Ї–Њ—А–љ—П —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞—О—В –њ–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—О. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –≤–Є–і–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї —Б—В–Њ–ї–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О —П–≤–љ–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є —Б –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤–Њ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г–µ–Љ—Л–Љ–Є –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ—Л–Љ–Є –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Т –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–є –Є –і–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ–ї–љ—Л–µ –Є—Е –і–µ—Д–Є–љ–Є—Ж–Є–Є. –Я—А–Є–Љ–µ—А 2. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є —Б–Њ–≤–њ–∞–і–µ–љ–Є–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є. –Ф–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ, —З—В–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П f(¬£) –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –≤—Б–µ–≥–і–∞ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—П g(¬£). –≠—В–Њ —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: f = g. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –Ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г—З–∞—О, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л - 1 –і–ї—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є f(E) —Б –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ (¬£ - 1)(^ + 1) –і–ї—П —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є g(¬£). –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞—В—М f = g, —В—А–µ–±—Г—О—В—Б—П –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Њ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞, –Њ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞—Е –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —П—Б–љ–Њ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ (mit vollem Bewusstsein) –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є. –Ф–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ: –Њ–љ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є, –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л –Є —Б—В—А–Њ–≥–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –Љ—Л—Б–ї–Є. –Э–∞ —В–Њ–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, —З—В–Њ —А–∞—Б—И–Є—А—П—О—Й–Є–µ—Б—П –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є—П, –∞ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Ј–∞–і–∞—З–∞ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–≥—Г—О —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –≤ —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Ґ–∞–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–Љ ¬Ђ–∞—А–Є—Д–Љ–µ—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Љ–µ—В–∞–Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є¬ї, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–Љ –У—С–і–µ–ї–µ–Љ [7]. –†–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–є ¬Ђ–љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Г–Ј–Ї–Є–є¬ї —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ—Л–Љ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї—Б—П –≤—Л—Е–Њ–і –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –і–Њ–њ—Г—Й–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—Б—П –Њ–± –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–Њ–±—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–є –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ—А–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–Є—Д—А–∞–Љ–Є. –Ч–∞–і–∞—З–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Њ —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –Т —Г–Ј–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і —А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ–Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Ї–Њ–Љ–±–Є–љ–∞—В–Њ—А–љ—Л–є —Д–∞–Ї—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–µ–≥–Ї–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В—Б—П –њ–µ—А–µ–±–Њ—А–Њ–Љ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є. –Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–љ–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–µ–±–Њ—А –≤—Б–µ—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–µ–љ. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ –≤—Л–±—А–∞—В—М –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –њ—А–µ–і–Є–Ї–∞—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ—Е –±–Њ–ї—М—И–µ —Г¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Ј–∞ —Е¬ї, –Њ—В–љ–Њ—И–µ- –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ 45 –љ–Є–µ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є, –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї —З–∞—Б—В–Є –Є —В.–њ. –Т–≤–Њ–і–Є–Љ–∞—П –љ–∞–Љ–Є –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–є. –С–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Г—О –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–љ—Г—О –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –љ–µ–ї—М–Ј—П –љ–∞–≥–ї—П–і–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М, –љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤—Л—П–≤–Є—В—М –Ї–Њ—Б–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —З–µ—А–µ–Ј –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –µ–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї –Є–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–µ–≥–Њ –∞–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ–∞. –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є—П ¬Ђ–∞–ї–≥–Њ—А–Є—В–Љ –Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П¬ї –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–і–µ–µ —Б–Љ–Њ–і–µ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Г—О –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞, –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ–≥–Њ —В–µ–Њ—А–µ–Љ—Г. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —П –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—О —Б ¬Ђ—Б–Є–Љ–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ¬ї –≠–Љ–Є–ї—П –Я–Њ—Б—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л [8. P. 103]. –≠—В–Њ—В –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ –Ї —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –ѓ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–ї–µ–і—Г—О –Ј–і–µ—Б—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —В–µ–Ј–Є—Б—Г –Р–ї–∞–љ–∞ –Ґ—М—О—А–Є–љ–≥–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –≤—Л—З–Є—Б–ї–Є—В–µ–ї—П (behaviour of the computer) –Є —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –µ–≥–Њ —Г–Љ–∞ (state of mind) –≤ –ї—О–±–Њ–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є [9. P. 250]. –Я—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ - —Н—В–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г—О—В—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є. –†–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –Ї —Б–ґ–∞—В–Є—О –Є —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О, –Ї –њ–Њ–Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–Љ—Г —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є—О —В–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —В–Њ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –≤—Л—П–≤–Є–ї–∞ —Б—Г–≥—Г–±–Њ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ—Д–Њ—А–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ –≤–Є–і–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л, –њ—А–µ–і–љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –Љ–Њ–і–µ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —Г—Б–Є–ї–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ-–Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–љ—Ж–Є–µ–є. –Т —Б–Є–ї—Г —Н—В–Є—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ logic of proof, –≤ –ї–Њ–≥–Є–Ї—Г –і–Њ–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Ј–∞–і–∞—З –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–љ–∞–љ–Є–є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —Д–Є–љ–Є—В–љ—Л–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ—Л —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞. –§–Є–љ–Є—В–љ–∞—П –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Ы–Њ–≥–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –њ–Њ–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –∞–њ—А–Є–Њ—А–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В –Я–∞—Г–ї—М –С–µ—А–љ–∞–є—Б –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –ї–Њ–≥–Є–Ї–∞ –Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞ a priori –љ–µ –њ—А–µ–і–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л, –љ–Њ –Њ–љ–Є –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—В –љ–∞ –њ–Њ—З–≤–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Њ–љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –≥–µ–љ–µ–Ј–Є—Б –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –≤ –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ–Љ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–Є. –С–µ—А–љ–∞–є—Б –і–∞–ґ–µ –∞–њ–µ–ї–ї–Є—А—Г–µ—В –Ї –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ—В —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ ¬Ђ—В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А¬ї [10. P. 81-82]. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ–љ —Б—З–Є—В–∞–ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М, –Њ—В–ї–Є—З–љ—Г—О –Њ—В —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –≤ —В—А–µ—В—М–µ–Љ –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є (¬І 24), –њ–Њ–і–≤–Њ–і—П –Є—В–Њ–≥–Є —Г—З–µ–љ–Є—П –Њ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є —З–∞—Б—В–Є, –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ї –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–Њ—З–љ—Л–Љ —В–µ–Њ—А–Є—П–Љ [11]. –Т—Б–µ –і–µ—Б–Ї—А–Є–њ—В–Є–≤–љ—Л–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ—Л –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ —Б–≤–Њ–і–Є–Љ—Л –Ї –њ—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є–Љ —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ, —В.–µ. —Д–Њ—А–Љ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ–Љ—Л. –Ф–ї—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–µ–љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–њ–µ—А–Є—А—Г–µ—В —З–∞—Б—В—П–Љ–Є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Ш —З—В–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є- –Ѓ.–У. –°–µ–і–Њ–≤ 46 —В–∞–µ—В –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –±–µ–Ј –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ —Г–њ—А–Њ—Й–∞–µ—В —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—П—Б—М –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ —Б–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —З–∞—Б—В–µ–є. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–∞—П –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П —Г–і–Њ–±–љ–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—В–∞–ї–Є. –Р –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –ї—О–±–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є –ї—О–±–Њ–µ —А–∞–љ–ґ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—О –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –Є–ї–Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –љ–µ–Ї—Г—О —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є–Ј —Б—В—А–Њ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —З–∞—Б—В–µ–є, –∞ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –љ–∞–±–Њ—А –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –Љ–Њ–і–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і, —Б—Д–Њ–Ї—Г—Б–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В–Њ–≤ [12. –†. 40]. –§–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Њ—А–Є—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П: –У—С–і–µ–ї—М –Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б —Н–њ–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —В–µ–Њ—А–µ–Љ –Њ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ—В–µ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –ї–Є–±–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –ї–Є–±–Њ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–Њ. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–Љ –≤—Л–Ј–Њ–≤–Њ–Љ, –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–Љ —Д–Є–љ–Є—В–љ–Њ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤. –Т –ї—О–±–Њ–є –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –њ—А–Є–љ—П—В—Л—Е –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Г–і–µ—В –љ–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–Є –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М, –∞ –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–∞—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –µ–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –љ–µ–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —З—В–Њ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–є —В–µ–Њ—А–µ–Љ—Л - –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –≤—В–Њ—А–∞—П —В–µ–Њ—А–µ–Љ–∞ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є –Є –љ–µ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В. –Т—В–Њ—А–∞—П —В–µ–Њ—А–µ–Љ–∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–∞ —Б –Љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ-–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Д–Њ—А–Љ—Г–ї—Л, –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—Й–µ–є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Г–µ–Љ–Њ—Б—В—М. –Ґ—Г—В –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, –≤—Л—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є, –љ–Њ –µ—О –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л —Г–Љ–∞, –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В–∞ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –У—С–і–µ–ї—О, –ї—О–±—Л–µ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є —Б—В—А–∞–і–∞—О—В –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ—В–Њ–є, —Е–Њ—В—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ—Л –Ј–∞ —Б—З–µ—В –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–Є –±—Л –≤ —Б–µ–±—П –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ—Л–µ —В–µ—А–Љ—Л –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Є—Е –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –љ—Г–ґ–љ—Л —В–∞–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є –±—Л –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї–Њ –±—Л —А–µ—И–∞—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –љ–µ –њ–Њ–і–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ. –У—С–і–µ–ї—М –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А. –Ю–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ —В—А–µ–±—Г—О—В –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В—Л —Г–Љ–∞, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞. ¬Ђ–Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –≤ —В—А–µ—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е –Љ—Л—Б–ї—М –У—С–і–µ–ї—П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В —З–µ—А—В—Л –ї–Њ–≥–Є–Ї–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П: —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –≤ –≤–Є–і–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–є –Є —В–µ–Њ—А–Є–Є –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤; —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є–і–µ–∞–ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—В—Б—П –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є; —А–Њ–ї—М —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞ –≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї–∞—Е¬ї [13. P. 335-336]. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –У—С–і–µ–ї—М –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –Є–Ј–і–∞–љ–Є—П–Љ–Є –њ–µ—А–≤–Њ–є –Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є —Б—В–∞—В—М–Є, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ—Г—Г–Љ-–≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–µ [14. P. 21]. –Ґ—Й–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –У—С–і–µ–ї–µ–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –±—Л–ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В–Њ–≤. –Т —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –Њ—В–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є. –≠–є–і–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–µ—В–Њ–і ¬Ђ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є¬ї (Wesensschau) –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–µ—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є–µ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ 47 —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –≤ —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ, –≥–і–µ –Љ—Л –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ–Љ—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П–Љ, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –ї—О–±—Л–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤. –Ф–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤—Л—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –∞–њ–Њ–і–Є–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ —В–∞–Ї–Њ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ –Є –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Ј–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –љ–µ—В –Љ–µ—Б—В–∞ —Н–є–і–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤–∞—А–Є–∞—Ж–Є—П–Љ, –љ–Њ –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–µ—В –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ—В—А–Є–≤–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞.
Hill C.O. Husserl on axiomatization and arithmetic // Phenomenology and Mathematics / ed. by M. Hartimo. Dordrecht : Springer, 2010. P. 47-71.
Heyting A. Die intuitionistische Grundlegung der Mathematik // Erkenntnis. 1931. Vol. 2, Issue 1. S. 106-115.
Godel K. Review of Heyting 1931 // Collected works / ed. by S. Feferman. New York: Oxford University Press, 1986, pp. 247 - 248. Vol. I. Publications 1929-1936.
Atten M. van. Essays on GodelвАЩs reception of Leibniz, Husserl and Brouwer. Dordrecht : Springer, 2015.
Sieg W. HilbertвАЩs programs and beyond. New York : Oxford University Press, 2013.
Frege G. Grundgesetze der Arithmetik. Begriffsschriftlich abgeleitet. Jena (H. Pochle), 1903. ¬І 62, ¬І 147. Bd. 2.
Godel K. Uber formal unentscheidbare Satze der Principia Mathematica und verwandter Systeme // Monatshefte fur Mathematik und Physik. 1931. 38. P. 173-198.
Post E.L. Finite combinatory processes - formulation 1 // The Journal of Symbolic Logic. 1936. Vol. 1, вДЦ 3. P. 103-105.
Turing A.M. On computable numbers, with an application to the Entscheidungsproblem // Proceedings of the London Mathematical Society. 1937. Ser. 2. Vol. 42. P. 230-265.
Parsons Ch. Philosophy of mathematics in the twentieth century. Selected essays. Massachusetts ; London : Harvard University Press, 2014.
Husserl E. Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen zur Phanomenologie und Theorie der Erkenntnis / ed. by Ursula Panzer. Den Haag: Nijhoff, 1984. Husserliana XIX/1.
Caracciolo E. Formalization and intuition in HusserlвАЩs Raumbuch // From logic to practice. Italian studies in the philosophy of mathematics / ed. by G. Lolli, M. Panza, G. Venturi. Cham ; Heidelberg ; New York ; Dordrecht ; London : Springer, 2015. P. 33-50.
Cassou-Nogues P. The two-sidedness and the rationalistic ideal of formal logic: Husserl and Godel // Rediscovering phenomenology. Phenomenological essays on mathematical beings, physical reality, perception and consciousness / ed. by L. Boi, P. Kerszberg, F. Patras. Dordrecht : Springer, 2007. –†. 309-338.
Burgess J.P.Intuitions of three kinds in GodelвАЩs views on the continuum // Interpreting Godel. Critical essays / ed. by J. Kennedy. Cambridge : Cambridge University Press, 2014. P. 11-31.
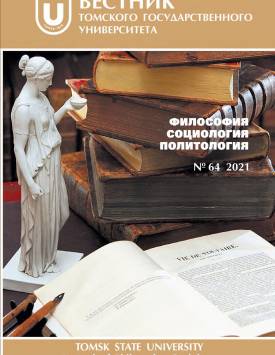

 –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О
–Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О