Статья посвящена критическому анализу теории символизма раннего Л. Витгенштейна. Автор утверждает, что данная теория не может выступать универсальным способом решения парадоксов. Теория символизма представляет собой разработку исключительно в области функционирования знаковой системы языка, в то время как в теоретико-множественных парадоксах, например в парадоксах Рассела и Бурали-Форти, вообще не затрагивается лингвистическая проблематика. Критическим аргументом в адрес теории символизма выступает также тот факт, что поздний Л. Витгенштейн признает явление самореферентности в языке, что прямо противоречит основным тезисам витгенштейновской разработки раннего периода его творчества.
Critical Analysis of Early Ludwig Wittgenstein’s Theory of Symbolism.pdf Проблема парадоксов и ее классическое решение Проблема парадоксов была обозначена как актуальная научная проблема на рубеже XIX-XX вв. Вступая в дискуссию с Г. Фреге по вопросам логикофилософского обоснования математического знания, Б. Рассел показал [1], что от решения проблемы парадоксов зависит построение фундамента наиболее строгого вида научно-рационального мышления - математики. Самым известным способом разрешения парадоксов стал иерархический подход. Сначала Б. Рассел представил теорию типов [2], а затем А. Тарский сформулировал концепцию метаязыков [3] - именно эти теоретические разработки и легли в основу иерархического подхода к решению парадоксов. Главный методологический прием, который используется в иерархическом подходе, состоит в запрете на явление самореферентности (self-reference). Теория типов Рассела расценивает как логически некорректные такие понятия и способы рассуждения, формирование которых опирается на явление самореферентности. Концепция метаязыков Тарского запрещает смешивать объектный язык и метаязык, который сам становится объектным языком для метаязыка следующего уровня. Явление саморефе-рентности в языке возможно только при смешении объектного языка и метаязыка, что в концепции Тарского признается семантически некорректным. В.А. Ладов, А.В. Гукова 50 Теория символизма vs теория типов Несмотря на то, что иерархический подход широко признан в мире как наиболее ясный и приемлемый способ решения проблемы парадоксов, в последние десятилетия он все чаще подвергается критике в исследовательской литературе по логике, философии математики и эпистемологии [4-7]. В этой ситуации особое внимание обращает на себя теория символизма раннего Л. Витгенштейна, в рамках которой также представлена определенная позиция в отношении проблемы парадоксов. Эта позиция оказывается весьма специфической. Казалось бы, Витгенштейн высказывается против теории типов Б. Рассела, и потому должен быть причислен к группе критиков иерархического подхода. Однако при более тщательном рассмотрении мы видим, что Витгенштейн не против идеи иерархии, предлагаемой теорией типов, но, наоборот, считает расселовскую теорию недостаточно радикальным способом представления иерархии знаков, присущей языку. Ранний Витгенштейн утверждает, что явление самореферентности не нужно запрещать, как это предлагала теория типов, поскольку данное явление в принципе невозможно. Таким образом, позиция раннего Л. Витгенштейна представляет собой не отрицание, а, напротив, наиболее продуманную форму иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Именно витгенштейновская позиция оказывается в наибольшей степени устойчивой к тем критическом аргументам, которые были сформулированы в адрес иерархического подхода на рубеже XX-XXI вв. Суть витгенштейновской позиции сводится к следующему. Он считает теорию типов Рассела просто ненужной концептуальной разработкой: «... каждая теория типов должна быть представлена как излишняя при помощи надлежащей теории символизма. То, в чем я больше всего уверен, это не правильность моего метода анализа, но тот факт, что со всей теорией типов должно быть покончено посредством теории символизма, демонстрирующей, что то, что предстает как различные виды вещей, обозначается различными видами символов, которые не могут быть заменены друг другом» [8. P. 19-20]. Витгенштейн не говорит, что основные тезисы теории типов не верны, но утверждает только то, что она просто является излишним концептуальным изобретением. Взамен теории типов Витгенштейн предлагает свою теорию символизма. Теория символизма также именуется теорией, однако она строится на принципиально иных методологических основаниях, нежели расселовская теория типов. Прояснение этого мы находим в следующем пассаже: «В философии нет дедукций, она чисто дескриптивна» [9. P. 106]. Теория символизма не мыслится как последовательное, методическое усилие исследователя по исправлению изъянов мышления и языка, которые приводили нас в тупик парадоксов. Витгенштейн представляет свою деятельность, скорее, как определенный вид всматривания в то, что уже происходит в языке без каких-либо теоретических влияний на него извне. Результатом этого всматривания оказывается описание имеющихся фактов существования знаков, а не формулировка неких теоретических рекомендаций к тому, чтобы язык функционировал без сбоев, логически корректно. Последний тезис оказывается важным для оценки критической литературы в адрес иерархического подхода Рассела-Тарского, представленной в последние десятилетия в логико-философской литературе. Критический анализ теории символизма раннего Л. Витгенштейна 51 Все критики иерархического подхода, представляющие собой различные области знания, как само собой разумеющееся исходили из одной общей предпосылки, а именно, они трактовали данный подход как некоторый искусственный методологический прием, как некоторое теоретическое усилие исследователя, направленное на исправление недостатков естественного языка и связанного с ним уровня мышления. Теория типов и концепция метаязыков предстают здесь в качестве некоторой “прививки” для естественного языка, в качестве внешнего теоретического вторжения, призванного освободить язык и мышление от парадоксов. Если мы имеем дело с искусственным, создаваемым усилием исследователя-теоретика методологическим приемом, то, соответственно, мы всегда можем поставить вопрос о корректности данной методологии. Данный методологический прием при желании можно отменить, отказаться от него, к чему и призывают различные версии критики иерархического подхода Рассела-Тарского. Но дело в том, что ранний Витгенштейн выстраивает свои исследования на принципиально ином основании. Он не считает иерархию искусственной «прививкой» для языка, которую якобы продуцирует теория типов. Теория типов работает вхолостую, ибо иерархия уже изначально внутренне присуща языку без какого-либо внешнего исследовательского воздействия. Все, что мы можем сделать в теории символизма, это просто описать уже имеющееся объективное положение дел: принципы функционирования знаков в языке. Если ранний Витгенштейн прав и иерархия уже внутренне присуща языку, то и отменить ее невозможно некоторым волевым усилием исследователя-теоретика, как это предлагали сделать критики иерархического подхода. Здесь разрушается сам фундамент, на котором может быть выстроена такая критика. Таким образом, теория символизма раннего Л. Витгенштейна предстает как наиболее радикальный вариант иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Эта теория оказывается устойчивой по отношению ко всей критике в адрес иерархического подхода, которая была представлена в исследовательской литературе по данному вопросу. Теория символизма как чисто лингвистическая разработка Следующие два параграфа данной статьи будут критическими по отношению к теории символизма раннего Л. Витгенштейна. Мы попытаемся показать, что данная теория все равно оказывается уязвимой для критики даже несмотря на то, что в ее отношении не действует общая предпосылка, характерная для критических исследований иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Во-первых, обращает на себя внимание концентрация Витгенштейна исключительно на вопросах, связанных с функционированием языка. И здесь мы бы хотели провести параллель с современными дискуссиями о концепции метаязыков А. Тарского. В логико-философской литературе последних лет подход Тарского к решению проблем парадоксов критикуется как раз за то, что Тарский осуществил рассмотрение парадокса Лжеца на чисто лингвистическом уровне. Если бы он провел надлежащие различия между языком и мышлением, то данный парадокс можно было бы разрешить в естественном языке без помощи идеи В.А. Ладов, А.В. Гукова 52 иерархии, характерной для концепции метаязыков. Такая критика, в частности, представлена в исследованиях Х. Слейтера [10]. С точки зрения Х. Слейтера, естественный язык последователен, и в нем не возникает парадоксов по типу парадокса Лжеца, необходимо только учесть различие между уровнем предложений языка и уровнем пропозиций мышления, различие, которое А. Тарский проигнорировал. Возьмем предложение «Это предложение не является истинным». Слейтер считает, что данное предложение выражает вполне последовательную, истинную пропозицию о том, что предложение «Это предложение не является истинным» не является истинным. Логическая ошибка circulus vitiosus (порочный круг) здесь не возникает. Мы не можем сказать, что если это предложение истинно называет себя неистинным, то оно истинно и неистинно. Это предложение называет истинную пропозицию о том, что это предложение не является истинным. Предложение неистинно, а пропозиция, которую оно называет, истинна, и круг размыкается: «...ключевым моментом, который нужно понять, чтобы избежать противоречия, является то, что, например, сказать, что некоторая пропозиция является истинной, не означает сказать, что предложение само по себе истинно. Истинно не предложение, а то, что предложение говорит в самореферентной интерпретации» [Ibid. P. 411]. Однако сам Х. Слейтер не учел того факта, что парадокс Лжеца может быть сформулирован на чисто логическом уровне, который вообще не затрагивает предложений языка [11]. Если парадокс Лжеца рассматривать только на уровне логических суждений, пропозиций, а не предложений, то тогда мы имеем пропозицию ‘Эта пропозиция не является истинной’. В данном случае в пропозиции утверждается истинность о неистинности самой этой пропозиции, и парадокс снова возвращается. Х. Слейтер смог критиковать А. Тарского потому, что сам мыслил парадокс Лжеца хоть и не как чисто лингвистический, но как семантический, связанный с языком, парадокс. По аналогии с исследованиями Х. Слейтера, с его критикой А. Тарского и с нашими собственными замечаниями в адрес Х. Слейтера мы могли бы критически отнестись и к теории символизма раннего Л. Витгенштейна. Излишняя зацикленность Л. Витгенштейна на языке, игнорирование уровня мышления играют с ним плохую шутку. Ибо если мы даже предположим, вслед за теорией символизма, что иерархия изначально присуща языку и самостоятельно регулирует допустимые способы употребления знаков, это не доказывает того факта, что иерархия изначально присуща мышлению. Теория символизма раннего Л. Витгенштейна отвечает на вопросы об иерархии знаков, о самореферентности и парадоксах в языке, но эта теория ничего не говорит о самореферентности и парадоксах в мышлении. Данная теория ничего не может сказать о мышлении по определению, ибо изначально она построена только как теория языка. Между тем чисто логические парадоксы не затрагивают уровня языка вообще. Например, в парадоксе Рассела или в парадоксе Бурали-Форти речь не идет ни о каких лингвистических конструкциях, и, как указано выше, даже парадокс Лжеца, который в классической классификации Ф. Рамсея [12] относится к числу семантических парадоксов, на самом деле может быть рассмотрен и как чисто логический парадокс. Теория символизма, действительно, может быть рассмотрена как наиболее радикальный способ формулировки иерархического подхода к решению Критический анализ теории символизма раннего Л. Витгенштейна 53 проблемы парадоксов в сравнении с концепциями Б. Рассела и А. Тарского, но даже эта разработка раннего Витгенштейна не может претендовать на то, чтобы быть законченным решением чисто логических парадоксов, ибо она задумана исключительно как лингвистическая теория, как теория о функционировании знаков языка. Поздний Витгенштейн vs ранний Витгенштейн Второй критический аргумент в адрес теории символизма раннего Витгенштейна является косвенным, он не представляет собой прямой контраргумент к идеям раннего Витгенштейна, но, скорее, создает общую атмосферу сомнения по отношению к обсуждаемой теории. Дело в том, что в произведениях позднего периода своего творчества Л. Витгенштейн, фактически, признает существование явления самореферентности в языке, что прямо противоречит его ранним взглядам. Это, конечно, не доказывает eo ipso ложность теории симоволизма, ибо позиция позднего Витгенштейна сама может быть ложной, но все же дает еще один повод усомниться в правомерности тезиса об изначально присущей языку иерархии знаков. Обсуждение парадоксов мы находим в «Лекциях по основаниям математики» [13] - одном из текстов поздней философии Витгенштейна. Так, в диалоге с Д. Уиздомом Витгенштейн обсуждает парадокс Лжеца: «Уиздом: Можно было бы сказать, что теория типов утверждает, что нельзя высказать суждение о самом этом суждении в высказываемом суждении. Витгенштейн: Нельзя? Но я делаю это» [Ibid. P. 207]. Тем самым Витгенштейн, по сути, признает возможность явления само-референтности в естественном языке. Витгенштейн делает это: высказывает суждение о самом этом суждении в высказываемом суждении. Наряду с возможностью самореферентности поздний Витгенштейн признает и наличие парадоксов в языке. Другое дело, что его понимание роли парадоксов в языке оказывается совершенно иным по сравнению и с пониманием Рассела, и со всей традицией ранней аналитической философии. Поздний Витгенштейн перестает видеть в парадоксах проблему, что было принципиальным отправным пунктом в исследованиях Рассела. И в «Лекциях по основаниям математики», и в «Заметках об основаниях математики» [14] Витгенштейн относится к парадоксам прагматически, как к бесполезной языковой игре в практической жизни человека. Мы просто не находим применения той языковой ситуации, которая возникает в случае употребления выражения «Я сейчас лгу» по отношению к самому этому выражению. По сути, в практической жизни мы никогда не говорим так, не применяем выражение «Я сейчас лгу» к нему самому, и для прагматизма позднего Витгенштейна этого вполне достаточно для того, чтобы просто оставить в стороне проблему парадоксов как не заслуживающую внимания философского исследования. Подобное рассуждение в «Лекциях по основаниям математики» мы находим и относительно парадокса Рассела: «Мы можем различить между теми предикатами, которые приложимы к самим себе, и теми, которые не приложимы, и сформировать предикат „предикат, который не приложим к самому себе“. Приложим ли он к самому себе? Ясно, что если он приложим к самому себе, то он не является таковым; и что В.А. Ладов, А.В. Гукова 54 если он не приложим к самому себе, то он является таковым. Из этого предположительно следует, что он и приложим, и не приложим к самому себе. Я мог бы сказать: „А почему бы и нет?“ Если я обучен, будучи ребенком, что это именно то, что я должен говорить. Я бы с радостью сказал так. Странно в этом предложении то, что мы не знаем, что на Земле с ним делать...» [14. P. 222-223]. Как и в случае с обсуждением парадокса Лжеца, Витгенштейн признает, что парадокс имеет место. Это означает, что он признает и явление саморе-ферентности, ибо парадокс Рассела, как и парадокс Лжеца, можно сформулировать только на основании данного явления. И снова, как в случае с парадоксом Лжеца, Витгенштейн утверждает, что сама языковая игра, представляющая парадокс Рассела, оказывается совершенно бесполезной в практической жизни. Мы не знаем, где могли бы использовать такую языковую игру в нашей практической деятельности. Обсуждение ориентации позднего Витгенштейна на прагматику языка выходит за рамки проблематики данной статьи. Мы не будем выносить суждение относительно того, насколько бесполезными и прагматически безвредными являются парадоксы. Для целей данной статьи важен сам факт признания поздним Витгенштейном наличия парадоксов, основанных на явлении самореферентности, что он в принципе отрицал в теории символизма в ранний период своего творчества. Выводы Теория символизма раннего Витгенштейна представляет собой наиболее радикальный вариант иерархического подхода к решению проблемы парадоксов. Эта теория оказывается наиболее устойчивой ко всей критике иерархического подхода, которая была представлена в последние десятилетия в логико-философской литературе. Однако проведенный критический анализ показывает, что данная теория не может претендовать на статус универсального способа решения парадоксов, поскольку она не доказывает невозможность самореферентности при осуществлении рациональной деятельности. Более того, сам Л. Витгенштейн в поздний период своего творчества фактически признает возможность явления самореферентности, что также заставляет усомниться в истинности теории символизма. В итоге можно сделать вывод о том, что теоретическая разработка раннего Л. Витгенштейна тоже может быть признана нерелевантным способом решения проблемы парадоксов, как и иные более известные версии иерархического подхода, представленные в теории типов Б. Рассела и концепции метаязыков А. Тарского.
Frege G. Philosophical and Mathematical Correspondence. Oxford : Basil Blackwell, 1980.
Рассел Б. Математическая логика, основанная на теории типов // Логика, онтология, язык. Томск, 2006. С. 16-62.
Tarski A. The Concept of Truth in Formalized Languages // Logic, Semantics, Metamathematics. Oxford : Oxford University Press, 1956. P. 152-278.
Ладов В.А. Логические основания формального реализма // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 341. С. 48-55.
Ладов В.А. Решение логических парадоксов в семантически замкнутом языке // Эпистемология и философия науки. 2017. Т. 52, № 2. С. 104-119.
Ladov V. Wittgenstein’s Tractatus Logico-Philosophicus and a Hierarchical Approach to Solving Logical Paradoxes // Filosofija. Sociologija. 2019. Vol. 30, № 1. P. 36-43.
Ладов В.А. Парадоксы в теории познания. Логические основания эпистемологической критики релятивизма. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2020.
Wittgenstein L. Letters to Russell, Keynes and Moore. Oxford : Blackwell, 1974.
Wittgenstein L. Notes on Logic // Wittgenstein L. Notebooks 1914-1916. Oxford : Blackwell, 1979. P. 93-104.
Slater H. Natural Language Consistency // Logique et Analyse, Novuvelle Serie. 2011. Vol. 54, № 215. P. 409-420.
Ладов В.А. Является ли «Лжец» семантическим парадоксом? // Schole. Античная философия и классическая традиция. 2019. № 13. 1. С. 285-293.
Рамсей Ф.П. Основания математики // Философские работы. М. : Канон+, 2011. С. 1656.
Wittgenstein’s Lectures on the Foundations of Mathematics. Cambridge 1939 / ed. C. Diamond. Ithaca, New York : Cornel Univwrsity Press, 1976.
Wittgenstein L. Remarks on the Foundation of Mathematics. 3 ed., revised and reset. Oxford : Blackwell, 1978.
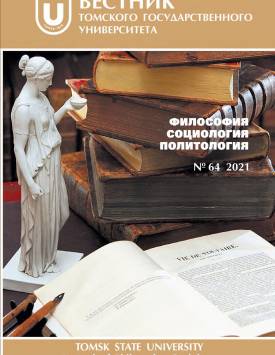

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью