Исследуется идея Дж. Л. Остина, что есть такие слова, которые хотя и имеют положительное значение и употребляются утвердительно, но обладают отрицательным характером. Отрицательным характером в том смысле, что они определяются через отрицание своих противоположностей. Остин их называет «словами-штаны». В статье представлен анализ двух таких слов - «реальное» и «свобода».
“Trouser-Words” in John L. Austin’s Philosophy of Language.pdf В «Смысле и сенсибилии» (Sense and Sensibilia) Дж.Л. Остин выдвигает весьма интересную идею, что иногда связь двух терминов, в котором один является явно отрицательным, а другой - явно положительным, может неожиданным образом измениться на противоположную. То есть когда термин, обладая отрицательным характером, действительно же выполняет утвердительную функцию. Чтобы в этом разобраться, начнем с тех различий, которые Остин проводил между словами положительными (такими, как «реальный», «свободный», «добровольный», «намеренный» и др.) и отрицательными (такими, как «нереальный», «несвободный», «недобровольный», «ненамеренный» и др.). Утвердительное использование термина, как правило, является основным: «Чтобы понять ,х“, нам надо знать, что значит быть х, и что это знание говорит нам о том, что значит не быть х» [1. С. 192]. Другими словами, положительное слово обладает положительным значением, а отрицательное слово является отрицанием положительного. Получается, что само по себе отрицательное слово к объяснению ничего не добавляет, оно лишь указывает на то, что положительное слово в некоторых ситуациях может быть ограничено. Однако, по мнению Остина, есть такие слова, которые выполняют обратную функцию. Их он предлагает называть «словами-штаны» (trouser-words). И объясняет это следующим образом: «Мы никак не должны полагаться на то, что слово с „положительным“ значением всегда должно носить штаны; довольно часто (выглядящее) „отрицательным“ слово маркирует (положительное) нарушение нормы, в то время как соответствующее слово с „поло-жительным“ значением... служит просто для того, чтобы у нас имелась возможность исключить это нарушение» [2. С. 218]. Такие слова, помимо других свойств, которые в контексте нашего исследования не представляют особого интереса, должны еще «испытывать голод по существительному» (substantive-hungry) [1. С. 191]. Именно эти два свойства, как верно отмечает Я. Хакинг, кажутся наиболее важными: «Нуждаться в существительном и быть „словом-штаны“ - связанные понятия. Чтобы знать, кто носит штаны, В.В. Оглезнев 64 мы должны знать существительное, которое помогло бы нам понять, что отрицается при отрицательном употреблении» [3. С. 47]. В качестве примеров «слов-штаны» Остин рассматривает «реальное» и «свободный», которые хотя и выглядят положительно, но предназначены для отрицания подразумеваемых контекстом отрицательных слов. То есть «слова-штаны» при таком понимании, будучи положительными по своему значению, являются отрицательными. Но ведь это противоречит нашей языковой интуиции. Обратимся сначала к слову «реальное». По мнению Остина, «утверждению, что нечто реально, или реально то-то и то-то, придается определенный смысл только в свете особого способа, которым оно может быть или могло бы быть нереальным» [1. С. 192]. Например, фраза «настоящая утка» (real duck) позволяет исключить возможность того, что эта утка - чучело, игрушка, изображение, приманка и т.д., или словами Остина: «Я лишь тогда знаю, как понимать утверждение, что это настоящая утка, когда мне известно, что в данном конкретном случае говорящий намерен исключить» [Там же. С. 193]. Используемое таким образом слово «реальный» (или «настоящий») не добавляет ничего положительного, а лишь исключает возможность того, чтобы нечто являлось нереальным. Иными словами, «реальный» получает свое значение через противопоставление с такими словами, как «поддельный», «искусственный», «фальшивый», «игрушечный» и др., ни одно из которых не подразумевает ничего нереального [4. P. 5; 5. P. 47]. Идею, что «реальное» является «словом-штаны», Остин развивает в статье «Другие сознания» (Other Minds). Как нам ответить на вопросы вроде «Откуда мы знаем, что этот щегол реальный?» или «Как доказать то, что щегол действительно реален?». Пытаясь на них ответить, мы всегда будем оставаться неуверенными в том, что приведенных квалифицирующих признаков и отличительных свойств достаточно: «Сомнение или вопрос „а это реальное?“ всегда имеет (должно иметь) особое основание, должны существовать „причины предполагать", что данный предмет не является реальным, - имея в виду один из тех смыслов, число которых ограничено, в котором он может быть признан фальшивкой» [6. С. 108]. Ибо нельзя исключать того, что убедившись, что это - щегол, и он реальный, а затем может произойти «нечто из ряда вон выходящее (например, он вдруг взорвался в воздухе, начал цитировать из Вирджинии Вульф или что угодно еще); мы не говорим, что мы были не правы, называя его щеглом, - мы просто не знаем, что на это сказать» [Там же. С. 109]. Выйти из подобного рода затруднений, по мнению Остина, помогает, во-первых, обращение к контексту, а во-вторых, настаивание на «определении того, чему противопоставляется „реальное", а не „того", чем, как вам должно показаться, является оно само, чтобы выяснить, что та или иная вещь является „реальной"» [Там же. С. 108]. Как мы видим, здесь Остин использует схожую аргументацию, что и в «Смысле и сенсибилии». Обратимся теперь к другому примеру Остина - к слову «свобода». Слова «свобода» и «свободный» он подробно рассматривает в своем докладе по случаю избрания президентом Аристотелевского общества - «Принесение извинений» (A Plea for Excuses). Этот пример, в отличие от случая с «реальным», позволяет лучше понять, что он имеет в виду под «словом-штаны». «Слова-штаны» в философии языка Джона Л. Остина 65 Ключевая его мысль заключается в том, что «сказать, что мы действовали „свободно“, означает лишь сказать, что мы действовали не несвободно» [2. С. 205]. Но начать следует с контекста употребления слова «свободный», в рамках которого оно как раз и проявляет свой необычный характер, а именно с темы извинений. Как извинения связаны со свободой? Остин начинает с уточнения, что предметом его исследования являются не извинения как таковые, но условия, при которых мы приносим свои извинения или принимаем чужие. В общем, он предлагает рассмотреть ситуации, требующие извинений, т.е. те, в которых некто обвиняется в совершении того или иного поступка или же в которых о ком-то говорят, что он совершил нечто плохое, недостойное, неуместное, неподобающее. Затем этот некто или кто-то от его имени пытается либо оправдать содеянное, либо как-то иначе выйти из положения [Там же. С. 201]. Лицо, оказавшееся в такой ситуации, может придерживаться одного из двух вариантов поведения. Либо признаться в содеянном и заверить всех вокруг, что это было сделано из благих побуждений, или что так поступить было позволительно. То есть оправдать каким-то образом свой поступок, сославшись на некие оправдывающие причины или обстоятельства. Либо же признаться в совершении чего-то нехорошего, но при этом отрицать, что это было сделано намеренно. Произошедшее могло оказаться случайностью или ненамеренно совершенной ошибкой. То есть извиниться за свой поступок. Или, словами Остина, «в первом случае мы принимаем на себя ответственность, но отрицаем негативную оценку произошедшего, а во втором - признаем в содеянном нечто неподобающее, но принимаем на себя не весь груз ответственности или же вовсе его не принимаем» [Там же]. Таким образом, извинения необходимо отличаются от оправданий, хотя установить это не всегда просто. Вы разбили вазу, но это произошло из-за того, что вы испытали сильный эмоциональный стресс (оправдание), или же из-за того, что вас ужалила оса (извинение). И хотя в обоих случаях речь идет об одном и том же действии, способы защиты от предъявленных вам обвинений (выдвижение оправданий или принесение извинений) принципиально отличаются. Изучение извинений, занимающих чрезвычайно важное место в человеческой деятельности, позволяет, таким образом, лучше понять само действие или поведение (принося извинения, мы совершаем некое действие, отличающееся по своей природе от действия, за которое мы извиняемся), ибо исследовать извинения означает исследовать ситуации, в которых имеет место нарушение нормального хода вещей, неудача в чем-либо. Или, как говорит Остин, «нарушение нормы часто помогает многое прояснить относительно самой нормы» [Там же. С. 205]. Это и есть ключевая идея, выступающая основой предлагаемого им метода, - прояснив оборотную сторону какого-либо понятия, мы можем прояснить или по крайней мере сделать яснее лицевую сторону. И в качестве примера он обращается к анализу слова «свобода». Традиционная философия трактовала это понятие как «положительное», в то время как современная (лингвистическая) философия, напротив, считает, что «сказать, что некто действовал „свободно“, означает лишь сказать, что этот некто действовал не несвободно». Поэтому для прояснения свободы, по мнению Остина, следует обратиться к его оборотной стороне - ответственно- В.В. Оглезнев 66 сти: «Цель принесения извинений чаще всего определяет желание уйти от ответственности, по крайне мере, от полной ответственности» [2. С. 206]. Рассмотрение свободы как «отрицательного» слова позволяет пролить свет на понятия действия и ответственности в том смысле, в каком «нереальное» объясняет «реальное». Как мы уже сказали, Остин называл такие слова «словами-штаны». Как и слово «реальное», слово «свобода» так же является «словом-штаны»: оно приобретает свое значение из понятий, которые оно исключает. «Подобно „истине“, - говорит Остин, - не являющейся именем характеристики утверждений, „свобода“ является не именем характеристики действий, но именем измерения, в котором действия могут получить ту или иную оценку» [Там же. С. 205]. Объяснить свободу мы можем только через ее противопоставление несвободе (принуждению, навязыванию, понуждению и т.д.). И хотя Остин не рассматривает примеры «положительного» (обыденного, нефилософского) употребления понятия свободы, т.е. когда свобода трактуется как понятие, приписывающее действию некий положительный признак или свойство, и вопрос заключается лишь в том, правильно ли этот признак или свойство приписываются (если в обычной жизни мы согласны с тем, что x сделал а, то мы не обязаны искать какое-то конкретное, дополнительное основание для вывода, что он действовал «свободно»; мы можем сказать, что он действовал «свободно», если только нет причин утверждать обратное - что он сделал это по принуждению, ошибочно, непреднамеренно и т.д.) [7. P. 51-53; 8. С. 62-63]. Он считает, что философская «свобода», возможно, работает точно так же: мы можем сказать, что действительно существуют случаи свободного действия («Я пошел туда, куда хотел»), так же, как и случаи несвободного действия («Он приставил к моей голове пистолет, так что мне пришлось отдать ему деньги») [9. С. 220-221]. Вот почему «свобода является именем измерения, в котором действия могут получить ту или иную оценку». Итак, эти примеры явно показывают, что значение слова «реальное» или «свобода» задается не самим этим словом, которое выглядит положительно, но его отрицанием. Остин стремится доказать, что слова, вроде «реальный» или «свободный», предназначены главным образом для исключения одной, некоторых или всех их противоположностей. Вот почему «слово-штаны» -это слово, выглядящее положительным, но исключающее свои противоположности. Но чем «слова-штаны» отличаются от других видов слов? Возьмем, например, слово «красный». Разве быть красным не исключает, например, быть зеленым или желтым? Весьма интересный ответ дал Р. Холл. Чтобы усилить позицию Остина, которая, по его мнению, является вполне состоятельной, он предложил заменить термин «слова-штаны» на «слова-исключатели» (іexcluder-words), т.е. слова, «которые исключают свою противоположность и сами по себе не несут ничего положительного». Их Холл противопоставляет, так называемым «простым предикатам», таким как «красный». Рассмотрим слово «голый». Его отличие от «простых предикатов» состоит в том, что «хотя „красный“ и является подлинным предикатом, даже при том, что его можно определить через отрицание, „голый“ же является словом-исключателем, поскольку единственный способ его определения - это отрицание» [10. P. 5]. Такие слова определяются только через отрицание в том смысле, что в них говорится то, что они исключают. Мы не можем определить «голый» иначе, «Слова-штаны» в философии языка Джона Л. Остина 61 как «неодетый». И хотя такой простой предикат, как «красный», можно определить через отрицание («не зеленый» или «не желтый»), он все же имеет положительное значение. И мы склонны его определять именно таким образом. Иными словами, положительное значение простого предиката не образуется за счет использования отрицательной конструкции. Напротив, слова-исключатели определяются только через их противоположности, которые не обладают самостоятельным положительным значением. И хотя подход Холла выглядит несколько шире, чем Остина (в том смысле, что «словом-исключателем» является любое слово, которое исключает свою противоположность и само по себе ничего нового не привносит, в то время как Остин рассматривал в основном слова, которые хотя и выглядят положительно, но по сути являются отрицательными), тем не менее он проливает свет на то, что Остин имел в виду. С. Коваль и Т. Форрест пошли еще дальше и предположили, что с методологической точки зрения Остину вообще следует отказаться от «слов-штаны» и вместо них использовать «слова-юбка» (skirt-words), задачей которых является исключение возможных вариантов, предполагаемых «словом-штаны» [11. P. 73]. Их предложение было связано с тем, что предлагаемый Остином лингвистический анализ доставляет некоторый «дискомфорт», поскольку противоречит нашей языковой интуиции. Почему «слова-штаны» должны восприниматься как отрицательные, хотя используются утвердительно? Слова вроде «реальное», по мнению авторов, не являются «словами-штаны», и для их понимания обращение к отрицанию совсем не обязательно. И вот почему. Вернемся к примеру «настоящая (real) утка». Почему наше объяснение этой фразы должно ограничиваться перечнем возможных исключений? Почему мы не можем ее объяснить, обратившись к «утвердительному перечню», содержащему, например, такие пункты, как температура утки, ее движения, биология, анатомия и т.д.? Конечно, можем, - отвечают авторы. При этом значение фразы «настоящая утка» не должно сводиться лишь к перечислению ее положительных признаков. Кроме того, фраза «настоящая утка» может вполне использоваться и для опровержения утверждения или возможного утверждения о том, что утка является или не является настоящей. Дело в том, что для каких бы целей фраза «настоящая утка» ни использовалась, установление ее значения, настаивают Коваль и Форрест, не может и не должно ограничиваться исключением возможных способов «не быть настоящей уткой». «Простое исключение» не может способствовать реализации грамматической функции слова «реальное». Ибо исключить возможность того, что утка, например, является приманкой, еще не значит сделать все то, что делает произнесение «это настоящая утка» [11. P. !5-!6]. Но если предложенный авторами подход в отношении лингвистического анализа «реальное» и представляется весьма убедительным, то его применение к слову «свобода» становится весьма проблематичным. Можем ли мы объяснить «свободу», обратившись к «утвердительному перечню»? Возможно, отчасти нам это и удастся. Но будет ли такой анализ удовлетворительным? Вряд ли. Слово «свобода» как раз и получает свое значение через противопоставление с такими словами, как «принуждение», «навязывание», «понуждение» и др. Быть свободным - значит не быть несвободным; быть реальным - значит не быть нереальным. Именно это Остин хотел сказать, В.В. Оглезнев 68 называя подобного рода слова «словами-штаны». «Свобода» в этом смысле «словом-юбка» никак быть не может, оно нуждается в отрицании, исключающем его противоположности. Можно даже сказать, что наличие отрицания конституирует его значение. Иными словами, грамматическая функция «слова-штаны» состоит в исключении возможности его противоположности (или противоположностей) в определенном контексте. И хотя идея «слова-штаны» изложена Остином «несколько шаловливо» [3. С. 47], как выразился Я. Хакинг, она все же выступает важной частью его философии языка, являясь при этом интересным и оригинальным методологическим приемом. Она в полной мере соответствует его философскому убеждению, что исследование обыденного словоупотребления обеспечивает нас многообещающим опытом, позволяющим ответить на такие вопросы: Г оворим ли все мы без исключения всегда одно и то же в одних и тех же ситуациях? Не различаются ли применяемые нами способы употребления слов? И является ли то, что мы обычно говорим, единственно возможным, наилучшим или окончательным способом выражения? Обыденный язык и заключенные в нем тонкие лингвистические различия употребляемых нами слов и выражений представляют собой чрезвычайно благодатную почву для философского исследования [9. С. 210-211]. Кроме того, с помощью идеи «слов-штаны» Остин пытался оспорить предположение, что «выглядящее положительным слово» всегда должно находиться в центре внимания философов. Напротив, он настаивал на том, что, когда мы задаемся такими философскими вопросами, как «Что такое реальное?» и «Что такое свобода?», нам надо сначала выяснить, что тем самым мы исключаем, а затем установить контекст, в котором это исключение возникает.
Остин Дж.Л. Смысл и сенсибилии / пер. с англ. Л.Б. Макеевой // Избранное. М. : Идея-Пресс, 1999. С. 143-246.
Остин Дж.Л. Принесение извинений / пер. с англ. В.В. Кирющенко, М.В. Колопотина // Остин Дж. Л. Три способа пролить чернила : Философские работы. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2006. С. 200-231.
Хакинг Я. Представление и вмешательство. Введение в философию естественных наук / пер. с англ. С. Кузнецова ; под ред. Е.А. Мамчур. М. : Логос, 1998.
Hacker P.M.S. Austin, John Langshaw (1911-1960) // Oxford Dictionary of National Biography. Oxford : Oxford University Press, 2004. DOI: https://doi.org/10.1093/ref:odnb/30505
Hart H.L.A. John Langshaw Austin // Dictionary of National Biography 1951-1960 / edited by E.T. Williams and H.M. Palmer. Oxford : Oxford University Press, 1972. P. 46-47.
Остин Дж.Л. Другие сознания / пер. с англ. В.В. Кирющенко, М.В. Колопотина // Остин Дж.Л. Три способа пролить чернила: Философские работы. СПб. : Изд-во СПб. ун-та, 2006. С. 96-137.
Warnock G.J. J. L. Austin: The Arguments of the Philosophers. London: Routledge, 1989.
Оглезнев В.В. Интерпретация понятия «свобода» в аналитической политической философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. № 3 (11). С. 61-67.
Стролл А. Аналитическая философия: двадцатый век / пер. с англ. В.В. Целищева. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2020.
Hall R. Excluders // Analysis. 1959. Vol. 20, № 1. P. 1-7.
Coval S, Forrest T. Which Word Wears the Trousers? // Mind. 1967. Vol. 76, № 301. P. 73-82.
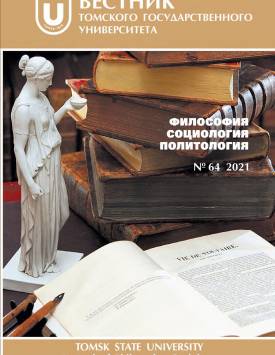

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью