Рассматриваются понятие, основные типы полиэтничности и характер ее восприятия как реакции на различия. В контексте полиэтничности России анализируются ее особенности в Республике Бурятия: традиционность полиэтничности как следствие ее долговременности, статус нормы жизни местного населения, численное доминирование двух основных этносов - русских и бурят, возрастание в последние годы этнической мозаичности в результате притока мигрантов из постсоветских стран.
On the Polyethnicity of the Republic of Buryatia.pdf Одной из основных характеристик современного общества является полиэтничность. Обозначающий это явление термин часто употребляется в ряду близких к нему понятий, таких как многонациональность, интернациональный состав и т.п. Полагаем, что в основе восприятия полиэтничности лежит имманентно присущая человеку (и образующимся из людей сообществам) реакция на различия, инаковость, в данном случае - на различия этнокультурные. Как известно, различия как основа разнообразия и богатства социальной реальности - важное условие разностороннего развития личности в плане ее адекватной социализации, образования, приобретения компетенций, творческой самореализации и т.д., они являются одной из базовых характеристик социума (см.: [1]). Несмотря на то, что интерпретация полиэтничности в современном социогуманитарном дискурсе имеет дискуссионный характер, ряд положений могут быть приняты как основа для дальнейших исследований. К ним относится следующее определение: «Полиэтничность представляет сложное, противоречивое свойство... социальной системы, разновекторный потенциал которого проявляется в повседневных практиках населения на определенной территории, поведенческих стратегиях населения, определяющих конфликтную / толерантную / солидарную. среду» [2. С. 41-42]. Разумеется, полиэтничность той или иной социальной общности, проживающей на определенной территории, предполагает наличие в ее структуре представителей двух или более этнических групп. Так, в качестве одного из критериев полиэтничного региона предлагается такой: наличие в таких регионах национальных групп, за исключением русских, в количестве, составляющем более чем 5% [3. С. 7]. Качеством полиэтничности может обладать и среда - пространство жизнедеятельности полиэтничного сообщества, где осуществляется этническая, гражданская и т.п. идентификация индивида, протекают процессы развития этнических культур, общероссийской культуры и т.п., а также межэтническая интеграция их носителей. О полиэтничности Республики Бурятия 173 Анализируя ситуацию в Бурятии начала 1990-х гг., С.Д. Батомункуев пишет, что «сложившаяся в советский период полиэтничность стремительно утрачивала статус безусловной ценности...» [4. С. 30]. Не отвлекаясь сейчас на утверждение об утрате полиэтничностью статуса ценности, которое увело бы обсуждение в сторону, в порядке уточнения остановимся лишь на вопросе о времени сложения полиэтничности в Бурятии, так как именно этот регион вынесен в название труда этого автора. Прежде всего следует отметить, что полиэтничность есть, как правило, следствие объективных социальных процессов и, в отличие от идеологии, искусственно внедрить ее в социум за короткое время довольно проблематично, но советская политическая элита приложила к этому немало усилий, по крайней мере, в организационном плане. Опираясь на документы, П.К. Варнавский, показывает, что еще в первые десятилетия новой власти в Бурятии при проведении коренизации тщательно соблюдался интернационалистский подход: «Так, из органов Наркомпроса республики была уволена группа работников во главе с заместителем наркома Широковским за то, что они игнорировали идущие сверху директивы по коренизации. был выявлен целый букет великодержавных шовинистов, и многие из них, в том числе и Широковский, были сняты с работы». Автор цитирует также фрагменты монографии А.А. Елаева, приводящего суть критики и по адресу персонала бурятской национальности: «переоценка своих сил и возможностей. нежелание подчиняться русскому товарищу, руководителю учреждения (уклон в национализм).». Далее П.К. Варнавский делает логичный вывод, что политика коренизации изначально включала в себя принцип полиэтничности (интернационализма) [5. С. 46]. С.Д. Батомункуев также обоснованно отмечает незыблемость в советское время «принципа полиэтничного представительства» в органах власти, «интернациональный характер бюрократической субкультуры, что во многом определило и соответствующие принцип и характер функционирование сетей распределения, контактов и общения в них людей» [Там же. С. 12-13]. И хотя полиэтничность может сформироваться и за семь десятилетий, применительно к Бурятии речь должна идти о более продолжительном времени в несколько веков, и огромный массив трудов по истории Бурятии, а также по социально-философским, социологическим и политологическим аспектам региональной этнонациональной проблематики подтверждает это (см., напр.: [6, 7]). Сформировавшись, полиэтничность становится одним из качеств образа жизни социальной общности, влияющим на другие аспекты ее жизнедеятельности. Российская Федерация - и традиционно, в соответствии с буквой ее Конституции, полиэтничное государство. При этом, к сожалению, и сегодня есть те, кто держится за представление о России как об исключительно восточнославянской стране, и об этом заблуждении справедливо пишет В.А. Тишков, отмечая, что «совместное проживание носителей многих культур и языков в пределах одной страны и в составе одного российского народа было характерно для нашего государства на протяжении всей его истории. Многообразие населения стало источником постоянного и взаимообогащающего общения, условием развития страны. Трудно вообразить, что представляло бы И.З. Чимитова 174 собой российское государство, если бы оно развивалось столетиями только на территориальной, демографической и культурной основе одного или нескольких восточнославянских племен» [8. С. 17]. С этой позицией в начале 2010-х гг. солидаризовался и Президент РФ, не только подтвердив многовековую полиэтничность России, но и подчеркнув, что «попытки проповедовать идеи построения русского „национального“, моноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле» [9. С. 1]. Сейчас практически все субъекты РФ, в том числе такие автономные территориальные образования, как республики, полиэтничны. Наличие в Российской Федерации этнических территориальных автономий (ЭТА) в форме «национальных республик» (несмотря на заслуживающие лучшего применения упорство и регулярность высказываний политических деятелей типа В. Жириновского о якобы «неравноправии» субъектов РФ, мотивированных непонятными задачами и адресованные этнически гетерогенному населению такой территориально протяженной, а за Уралом - слабо заселенной страны, как Россия) имеет огромное политическое, культурносимволическое и международное значение, особенно для титульных этносов, многие из которых относительно малочисленны, их статуса и самосознания. Как справедливо отмечают П.В. Панов и Ю.Е. Филиппова, «в строго юридическом смысле» они (российские республики. - И.З.) не имеют статуса этнических территориальных автономий (поскольку все субъекты РФ по Конституции равны), фактически они соответствуют... критериям этнических территориальных автономий, так как обладают некоторыми „особыми“ полномочиями (могут принимать собственные конституции, устанавливать государственные языки и т.д.» [10. С. 34]. Очевидно, что отечественные ЭТА если и придают некоторую иерархичность структуре Федерации, то она скорее символическая, нежели реальная, и сколько-нибудь существенно не влияет ни на экономическое, ни на социальное благосостояние субъектов РФ. Что касается «особых» полномочий этих ЭТА, но и они находятся в правовом поле и гарантированы Основным Законом страны. Отметим, что ЭТА есть не только в федеративных, но и в унитарных государствах. Что касается конкретной ситуации в плане полиэтничности в каждой из республик РФ, то она характеризуется своеобразием. Тем не менее предпринимаются попытки классификации республик в плане соотношения в них коренного и некоренного (в подавляющем большинстве, как правило, русского) населения. Такая типология представлена, во-первых, теми, в которых значительно (более 80%) преобладает титульный этнос (как, к примеру, в Тыве); во-вторых, в некоторых из них наблюдается приблизительно такое же доминирование некоренного сегмента (образцом этого является Хакасия); в-третьих, субъектами РФ с явным перевесом (от 50 до 65%) титульного народа (такая ситуация в Калмыкии); в-четвертых, этническими территориальными автономиями с аналогичным преобладанием некоренного населения (как в Бурятии); в пятом типе ЭТА, как в Мордовии, наблюдается паритет этих групп; О полиэтничности Республики Бурятия 175 наконец, в некоторых такого рода образованиях ни одна из более чем двух крупных этнических групп не составляет большинства, как в Дагестане [10. С. 35]. В самосознании жителей нашей страны в постсоветский период сформировались и укрепились, наряду с этнической идентичностью, и ряд других: гражданская, общероссийская, региональная, городская и т.д. Кроме того, у выросших в смешанных браках людей этнических идентичностей может быть больше одной, если к тому же их родители сами - дети из межэтнических семей. Двойное этническое самосознание как атрибут части членов полиэтничного сообщества постепенно признается и массовым сознанием, что показали исследования, осуществленные в ряде регионов РФ под руководством В.А. Тишкова и В.В. Степанова. Относительно «идеи, что этническая принадлежность человека может иметь сложный характер и подвергаться изменениям», - пишет В.В. Степанов, - есть разные мнения, но «в целом по регионам, где мы провели исследование, совокупная доля тех, кто настаивает на однозначной этнической принадлежности (48%), оказалась ниже, чем представлялось специалистам“, а общее число тех, кто признает и скорее признает сложность такой принадлежности, составило 69%» [8. С. 66-67]. Полиэтничность как качество поселения нуждается в дифференциации. Прежде всего, есть поселения с богатым опытом полиэтничности, большим числом старожилов разного этнического происхождения, общими усилиями сформировавшими, выражаясь словами Ю.В. Арутюняна (см. ссылку ниже), его полиэтничное ядро. В РФ к таким традиционно полиэтничным образованиям относятся, кроме Москвы и культурной столицы, Санкт-Петербурга, многие приграничные территории, а также места длительных межэтнических контактов: на юге, севере, северо-западе, в Поволжье, на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке и т.д. В описании одной из южных российских областей, Астраханской, интересно обоснование полиэтничности, позволяющей автору назвать ее «чрезвычайно полиэтническим регионом», с давних пор являющимся «точкой пересечения этнических, культурных и политических интересов Европы и Азии, ареной драматических событий, отчасти влиявших в свое время на ход российской истории», а сегодня - «южным форпостом России, входящим в число стратегически важных государственных зон, испытывающих серьезную культурную экспансию извне» [11. С. 268-269]. Существуют и поселения, ставшие таковыми не так давно, в основном в ХХ в., которые логично назвать новыми в плане полиэтничности. Приблизительно такую же градацию в зависимости от опыта пребывания жителей в полиэтничной среде можно провести между ними: старожилы и новоприбывшие. Уже продолжительное время назад Ю.В. Арутюнян отметил, что у моск-вичей-старожилов столицы азербайджанского и армянского происхождения больше черт схожести друг с другом, чем с земляками, живущими в Москве недавно [12. С. 33]. Полагаем, что образ жизни поселения и обусловливает определенную схожесть его коренных жителей независимо от их этнического происхождения. Кроме того, как полагает этот автор, раньше мигрировали в Москву са- И.З. Чимитова 176 мые активные представители народов, создавая ее полиэтничное ядро, а в начале нынешнего столетия - ущемленные, не приспособленные к столичной жизни люди [12. С. 30]. Думается, под ущемленностью ученый имеет в виду неадаптированность вчерашнего жителя малого поселения к условиям не просто большого города, а сразу мегаполиса. Любой индивид в такой ситуации испытывает стресс, но у имеющего опыт жизни в крупном городе он меньше, чем у того, кто сразу из глубинки попал в мегаполис, так как он должен одновременно адаптироваться и по линии село / город, и в плане освоения компетенции «жить в мегаполисе», включающей среди прочих и умение жить среди этнически Других. Следовательно, фактор длительности оказывает весьма сильное влияние на характер взаимодействий людей. Если окружение человека традиционно полиэтнично, оно определяет естественность его позитивного восприятия людей иного этнического происхождения. Этническая мозаичность среды, в традиционно полиэтничных поселениях воспринимаемая как нечто привычное, в недавних по стажу полиэтничности поселениях выглядит новой, а иногда и чуждой; для старожилов многое стало нормой, а новоприбывшие только адаптируются к ситуации с разной степенью успешности. Известно, что скорость и интенсивность полиэтнизации прямо пропорциональны величине поселения. Хотя полиэтничны и отдельные поселения, и административные районы, и регионы, самой большой степенью полиэтнизации отличаются города от больших до сверхкрупных благодаря таким качествам урбанистической среды, как быстрый темп жизни, высокая плотность и этническая мозаичность населения, приоритет универсальных ценностей, ориентация людей на все самое передовое не только в стране, но и в мире, самоощущение индивида как личности, имеющей право свободного выбора во многих отношениях по сравнению с традиционалистским укладом жизни на селе. В малых городах он обычно принципиально не отличается от села. Процесс полиэтнизации нельзя представить как какое-то достигнутое состояние поселения. Сама по себе мобильность людей, а также конкретные обстоятельства разных периодов жизни страны, региона, поселения без эффективного управления и своевременного предупреждения конфликтов чреваты противоречиями. Особого внимания официальных структур и аналитиков требуют новые в аспекте полиэтничности поселения, а также притягательные как цель миграции мегаполисы. К ним относится Москва, являющаяся лидером России по приему приезжих. Проведенный в 2014 г. замер установок ее жителей показал их довольно высокую (46%) готовность к межэтническому общению в деловой и профессиональной сфере, что обусловлено распространенностью полиэтничных трудовых коллективов. На основе анализа отдельных сегментов опрошенных Л.М. Дробижева заключает, что «уверенная готовность к межэтническим контактам у русских москвичей в целом сдержанная, а по намерениям в поведении (готовы и скорее готовы) в ряде сфер - трудовой, соседской - достаточно открытая (68-73%). Готовность принять иноэтничных граждан в качестве жителей своего города проявили 69% русских и 89% нерусских респондентов [13. С. 89]. О полиэтничности Республики Бурятия 177 Обратимся теперь к полиэтничности Бурятии. В отличие от С.Д. Бато-мункуева, мы исходим, как и многие другие исследователи, из положения о многовековой, традиционной полиэтничности территории Бурятии. В прошлом столетии здесь имело место совпадение внедряемой советским государством политики интернационализма с издавна сложившимся в этом регионе трендом межэтнического взаимодействия. Поэтому полиэтничность была, в том числе и в годы перестройки, и в течение всего постсоветского периода, вполне жизнеспособной. Таковой она остается и ныне. Более того, ее можно назвать позитивной, так как она характеризуется межэтнической толерантностью и согласием проживающих здесь народов. Всероссийская перепись населения 2002 г., зафиксировавшая наличие в Республике Бурятия 145 национальностей, подтвердила установившееся в Западном Забайкалье (в настоящее время это основная часть территории республики) с ХГХ в. доминирование двух самых значительных по численности народов - русских (67,8%) и бурят (27,8%) - которые в совокупности насчитывали 95,6% ее жителей. Остальные этнические группы, которые составили 4,7 и 0,1%, не указали данную принадлежность. Заметными сегментами населения этой территории являются эвенки и сойоты (потомки племен, издавна проживавших здесь и в силу этого имеющих статус коренных малочисленных народов), а также татары, украинцы и представители других менее многочисленных этнических групп (немцы, поляки, евреи, армяне, азербайджанцы и др.) [14. Приложение «Национальный состав населения Республики Бурятия»]. К началу 2010-х гг. при наличии в республике более 130 национальностей лидировал по количеству тот же русско-бурятский сегмент: по итогам аналогичной переписи 2010 г. он в общей сложности составил 96,09% населения республики: русские составили 64,9%, буряты - 29,5%. Суммарная численность прочих этнических групп - 3,8%, не указавших свою национальную принадлежность было 1,8%. Некоторое уменьшение численности русских и заметное татар, украинцев, белорусов, немцев, евреев и др. объясняется в основном их миграцией за пределы региона [15. С. 61-62]. Наряду с представителями титульного этноса «численно возросли этнические группы, представляющие коренное население южных республик России, государств СНГ... и соседних зарубежных стран: тувинцев и киргизов (в 2,2 раза за 2002-2010 гг.), узбеков (в 2,1 раза), китайцев (в 1,6 раза), монголов (на 22,4%), таджиков, армян и др.» [16. С. 18]. Как видим, республика соответствует указанным выше критериям полиэтничного региона. Специфика полиэтничности Бурятии в целом состоит в том, что ее ядром выступают два основных этноса: русские и буряты. Не случайно участники одного из опросов 2009 г. сводили «межнациональное взаимодействие главным образом в плоскость русско-бурятских отношений» [17. С. 85]. В силу малочисленности в структуре населения, вплоть до постсоветского времени, других этнических групп, у местных определенных мнений о них, за исключением украинцев и евреев, не сложилось: «.бурятами все приезжие европейской внешности автоматически причислялись к русским, а для русских все люди с азиатской внешностью виделись бурятами» [Там же]. И.З. Чимитова 178 Традиционно полиэтничная Бурятия характеризуется как благоприятный для проживания представителей разных народов регион. Опрос экспертов-представителей русского, бурятского и ряда других этносов в 2017 г. выявил «высокий уровень взаимной открытости». Так, отвечая на вопрос: «Какие взаимоотношения с представителями других национальностей для вас приемлемы?», 81,9% респондентов выбрали вариант личной дружбы, а 80,17% -быть коллегами по работе [18. С. 173]. Как видим, эти данные превосходят приведенные выше результаты исследования готовности москвичей к контактам с иноэтничными приезжими. В доброжелательных межэтнических отношениях некоторые авторы видят одну из причин притягательности Бурятии «для современных мигрантов, в частности из стран бывшей Средней Азии. На... европейско-азиатском фоне выделяются только «лица кавказской национальности», которым сложно примкнуть к какой-либо группе» [17. С. 85]. Следует заметить, что восприятие жителей республики, особенно представителей старших возрастов, в целом привычно к расовой и этнической инаковости. Как известно, в советский период наблюдалась заметная иммиграция в Бурятскую АССР представителей тех народов, которых Л.М. Дро-бижева называет «видимыми другими» [13. С. 82], а мы, поскольку «видимость» может быть разной, предлагаем обозначать их как «видимых этнических Других». Потомки части специалистов, в том числе упомянутых М.М. Содномпи-ловой «лиц кавказской национальности», приехавших по распределению и другим причинам, остались и укоренились в республике, и примером тому является знаменитая в конце советского времени и позже инженерная династия Пруидзе. Кроме того, уровень и объективные условия жизни большинства населения региона в 1970-1980-е гг. позволяли желающим активно путешествовать, особенно в пределах Союза и стран так называемого социалистического блока, массово учиться в ведущих вузах страны, и это тоже влияло на формирование стереотипов реагирования на этническую и расовую инаковость. Думается, описанная М.М. Содномпиловой ситуация, когда «лица кавказской национальности» и некоторые другие мигранты становятся «видимыми этническими Другими» на привычном общем европейско-азиатском фоне, присуща, скорее всего, восприятию маломобильных и далеко не массово обучавшихся в вузах по экономическим причинам представителей социальных слоев ниже среднего, молодого и среднего возраста, социализировавшихся в основном в постсоветский период и в полной мере испытывающих трудности жизни в таком отдаленном от столиц, ставшем дотационным, экономически и социально далеко не процветающем, а попросту бедном регионе, каким Бурятия стала в последние десятилетия. Ныне трудовые иммигранты из-за рубежей РФ прибывают в Бурятию по государственным программам и самостоятельно. Как и в большинстве российских регионов, они в своей совокупности, по мнению А.В. Дмитриева и Г.А. Пядухова, «образуют единый полиэтничный поток, который активно взаимодействует с полиэтничным российским социумом» [19. С. 87]. В целом исследователи характеризуют самочувствие в республике всех групп мигрантов как позитивное, отмечают, что «они ощущают себя ком- О полиэтничности Республики Бурятия 179 фортно в нашем регионе. Этнокультурное взаимодействие с местными жителями характеризуется положительными отношениями, часть мигрантов получили от местных жителей помощь [20. С. 263-264]. Весьма затруднительно изменить к лучшему тенденцию старения населения России. Под вопросом и решение в обозримой перспективе проблем на рынке труда постсоветских стран и регионов РФ, поставляющих сейчас рабочую силу в Бурятию. Вследствие обоих этих факторов не исключено, что в недалеком будущем приезжие из этих мест могут составить более заметную, чем ныне, часть ее жителей. Остается надеяться на мудрость властей и традиционную полиэтнич-ность Бурятии, во многом обусловившую прочность традиций, нормативность и стереотипность позитивного межэтнического взаимодействия ее населения, высокий уровень межэтнической интеграции, который ощущается большинством нынешних мигрантов и, вероятно, будет чувствоваться приезжими в будущем и положительно повлияет на их адаптацию. Таким образом, полиэтничность Республики Бурятия сложилась традиционно и характеризуется следующими особенностями: тем, что она стала нормой жизни для местного населения, численным доминированием двух основных этносов, русских и бурят, возрастанием в последние годы этнической мозаичности из-за притока мигрантов из постсоветских стран.
Толерантность в обществе различий / под ред. В.Е. Кемерова, Т.Х. Керимова, А.Ю. Зенковой. Екатеринбург : Полиграфист, 2005. Вып. 15. 232 с.
Дроздова Ю.А., Лысенко Г.В. Полиэтничный регион в современном исследовательском дискурсе // Власть. 2017. № 10. С. 41-46.
Молодежь в полиэтничных регионах Южного федерального округа: экспертный доклад / под общ. ред. В.А. Тишкова. М. ; Ростов н/Д, 2014. 84 с.
Батомункуев С.Д. О полиэтничности Бурятии и проблеме этнической идентичности современных бурят // Традиции и инновации в этнической культуре бурят. Сибирь: Этносы и культуры. Улан-Удэ : ИПК ВСГАКИ, 1999. Вып. 5. С. 30-41.
Скрынникова Т.Д., Батомункуев С.Д., Варнавский П.К. Бурятская этничность в контексте социокультурной модернизации (советский период) / сост. Т.Д. Скрынникова. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. 216 с.
Бураева О.В. Хозяйственные и этнокультурные связи русских, бурят и эвенков в XVII -середине ХІХ в. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2000. 207 с.
История Бурятии: в 3 т. Т.П. XVII - начало ХХ в. Улан-Удэ : Изд-во Бурят. науч. центра СО РАН, 2011. 624 с.
Этническое и религиозное многообразие России / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М. : ИЭА РАН, 2017. 551 с.
Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. С. 1-4.
Панов П.В., Филиппова Ю.Е. Практики распределения властных позиций в российских «национальных республиках»: проблема межэтнического баланса // Вестник Пермского университета. Политология. 2015. № 3. С. 33-47.
Фролова Ю. С. Ценностные трансформации в современной российской полиэтнической провинции // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 4. С. 268-276.
Арутюнян Ю.В. О потенциале межэтнической интеграции в московском мегаполисе // Социологические исследования. 2001. № 5. С. 27-40.
Дробижева Л.М. Потенциал межнационального согласия: осмысление понятия и социальная практика в Москве // Социологические исследования. 2015. № 11. С. 80-90.
Национальный состав постоянного населения Республики Бурятия: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. (часть II). Улан-Удэ: Бурятстат, 2005. 260 с.
Основные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. в Республике Бурятия: статистический сборник № 02-03-24. Улан-Удэ: Бурятстат, 2014. 112 с.
Население Республики Бурятия: от переписи к переписи : аналитическая записка № 02-03-14. Улан-Удэ : Бурятстат, 2015. 23 с.
Содномпилова М.М. Принимающее общество и мигранты: факторы формирования культуры межэтнических отношений (на примере Байкальского региона) // Вестник БНЦ СО РАН. 2015. № 4 (20). С. 78-90.
Бильтрикова А.В. Факторы межнационального согласия: некоторые результаты экспертного опроса в Республике Бурятия // Республике Бурятия - 95 лет: сб. науч. ст. / науч. ред. Б.В. Базаров. Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2018. С. 173-174.
Дмитриев А.В., Пядухов Г.А. Этнические группы трудящихся-мигрантов и принимающее общество // Социологические исследования. 2006. № 9. С. 86-94.
Чукреев П.А., Саргаев А.В. Мигранты-интеллигенты и их роль в процессах социальнокультурной и правовой адаптации иностранных граждан в российском обществе // Интеллигенция, ее гражданские позиции в современном мире : материалы XI Междунар. научной конференции: в 2 т. / отв. ред. И.И. Осинский. Улан-Удэ : Изд-во Бурятского гос. ун-та, 2016. Т. 2. С. 258-266.
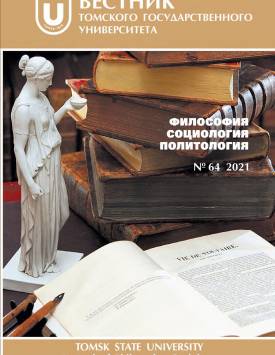

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью