В статье автор показывает сложное и неоднозначное отношение к политическому насилию, сложившееся в христианской традиции, уделяя особое внимание теории справедливой войны, которая строится на идее нежелательности, но все же допустимости применения насилия в общественной жизни, и объявляет справедливость главным мерилом этой допустимости.
The Problem of Justification for Political Violence in the Christian Tradition.pdf Тема «политического насилия в современном мире» является одной из самых парадоксальных. С одной стороны, насилие принимает такие масштабы и формы, что не говорить о нем и не исследовать данный феномен невозможно, свидетельством чему являются многочисленные научные статьи. С другой стороны, исследователи признаются, что «политической теории почти нечего сказать о насилии» [1. С. 283]. Представляется, что одной из причин наличия такого радикального мнения является сложность объекта исследования, понимание природы которого требует изучения всех его составляющих: политической, правовой, моральной. Существующие подходы к определению насилия, при всем их различии, не отменяют общего, а именно, представления о насилии как принуждении, воздействии, силе, направленных на чужую свободную волю. Разница начинается там, где адепты этих подходов пытаются оценить это воздействие, легитимировать его и дать ему моральное обоснование. Тема морали возникает неизбежно, поскольку «насилие - одно из тех слов, которые уже как бы содержат в себе некоторое моральное осуждение» [2]. Представляется, что самым простым решением проблемы взаимодействия морали и насилия является определение насилия как нарушения правил морали [3. С. 62]. Несмотря на кажущуюся «очевидность» такого определения, оно вызывает массу вопросов, и одним из первых является вопрос морального обоснования политической деятельности, ибо, по справедливому замечанию Б.Г. Капустина, «по отношению к категории политики насилие является не акциденцией, а составляющей ее субстанции» [Там же. С. 43]. И если признание того, что власть и политика не осуществляются без насилия, не приводят нас к анархизму, значит, должны существовать такие доводы, которые позволяют «принять» политическое насилие как нечто неизбежное и этически допустимое. Проблема обоснования политического насилия в христианской традиции 183 Для поиска таких доводов автор обращается к христианской традиции, которая характеризуется своим неоднозначным отношением к насилию вообще и политическому насилию в частности. Достаточно сказать, что упоминание христианства при рассмотрении темы насилия приводит к прямо противоположным рассуждениям, основанным на обращении к Библии: от того, что христианство не приемлет насилие вообще - «...все взявшие меч, мечом погибнут» (Мф. 26:52), до того, что христианская Церковь не стоит на позициях пацифизма - «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч.» (Мф. 10:34). Кажущаяся внутренняя «противоречивость» текста Священного Писания провоцирует исследователя на поиски истины, но уже заранее можно сказать, что представление о том, что «христианство отрицает всякое насилие», является слишком упрощенным. Иначе логичным было бы считать, что христианство не признает и отрицает власть и политику, так как таковые хотя и не сводятся к насилию, но без него не осуществляются. Между тем, христианство не только признает значимость власти, но и заявляет о том, что ее источником является Бог. К классическим новозаветным текстам, определяющим отношение христиан к власти, относится тринадцатая глава Послания апостола Павла к римлянам: «Всякая душа да будет покорна высшим властям; ибо нет власти не от Бога, существующие же власти Богом установлены» (Рим 13:1). Признание христианством божественности происхождения власти не равнозначно признанию им того, что власть сакральна. Для пояснения данного тезиса хотелось бы обратить внимание на несколько моментов. Во-первых, в христианстве доминирует точка зрения об опосредованном происхождении власти от Бога (ее разделяли, например, такие мыслители и создатели политической теории христианства, как блаженный Августин и Фома Аквинский) [4. С. 109, 139]. Бог «задает» определенные принципы устройства человеческого общежития, которые являются не внешними, а внутренними ориентирами человека в его «строительстве» общественной жизни. Иными словами, «власть, как способность приказывать и подчиняться, вложена в человека Богом» [5. С. 21], и в существе своем она - Божественное установление, между тем как «в своих формах власть - человеческое создание» [Там же. С. 33]. Во-вторых, существование власти и политики имеет начало во времени и не есть изначально установленная Богом реальность. Г рехопадение человека, или самоопределение его вне Бога, породило грех, с которым и призвана бороться власть земная. По сути дела, власть есть божественный дар утратившему святость человечеству. Однако дар этот во многом «вынужденный», поскольку человек, реализовывая свободу воли, отказывается от власти Бога, предпочтя ей власть земную (см.: 1 Цар 8:7). Поэтому власть заключает в себе особого рода «противоречие»: с одной стороны, она есть дар Божий, а с другой - у нее наличествует указанный выше мотив отвержения Бога. Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что христианство говорит о необходимости уважения власти, «ибо она - Божий слуга, тебе на благо» (Рим. 13:4), но речь вовсе не идет о поклонении ей. Более того, принятие власти как таковой не отменяет критического отношения к ее действиям. И если эти действия противоречат нормам христианской морали и предполагают вероотступничество, то долг верующего не подчиняться ей: «.судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» (Деян. 4:19). Е.Г. Аванесова 184 Традиционное христианство (в отличие от некоторых течений христианского толка, разделяющих идеи модернистской теологии) не призывает в этом случае действовать революционным путем, но путем законным, а в случае, если это «невозможно или неэффективно, занимать позицию гражданского неповиновения» [6]. Во всех остальных случаях христианство однозначно говорит о необходимости послушания светской власти: «противящийся власти восстал против Божьего установления; а восставшие навлекут на себя осуждение» (Рим 13:2). Проблема христианской легитимации политического насилия обретает особую остроту, когда речь идет «о такой крайней форме насилия, как война» [3. С. 65]. Одна из библейских заповедей гласит: не убей (Исх. 20:13). Но, как известно, христиане не отказывались участвовать в военных действиях, где убийство одними людьми других - неизбежно, а святые благословляли на борьбу с врагом. Достаточно вспомнить такой яркий пример, как благословение на битву Сергием Радонежским Дмитрия Донского и, что особенно показательно, двух монахов. Но как «совместить» заповедь и благословение на военные действия? В христианской традиции сформировались различные взгляды на возможность такого «совмещения», благодаря которым сложились и различные практики. Речь идет о тех, кто стоит на позициях христианского пацифизма (от радикального - непротивления злу насилием до умеренного) и о тех, кто считает его ересью. Свою правоту и те и другие доказывают ссылками на Священное Писание. На практике позиции пацифизма отстаивают в основном представители различных протестантских деноминаций: квакеры, меннониты, пятидесятники и др. Католическая и православная церкви, крупные протестантские деноминации эту позицию не разделяют, и их члены полагают, что в общественной жизни применение насилия в качестве оружия в борьбе со злом допустимо и не противоречит абсолютной этике Евангелия. Обе практики опираются на богословские традиции, формирование которых началось еще в первые века существования христианства и в рамках которых по-разному оценивают роль политического насилия в мировой истории. В ранней церкви доминировал пацифистский подход к осмыслению проблемы насилия. Так, христианский апологет IV в. Лактанций писал, что благочестив тот, кто «не приемлет войны, кто хранит со всеми мир» [7]. Лак-танций не видит никаких этически оправданных причин нарушать заповедь «не убей», поскольку «из этого предписания Бога нельзя делать никакого исключения» [8]. Он не делает различия между жизнью личной и общественной. Христианину нельзя служить в армии, дабы избежать убийства человека. И даже такой аргумент для оправдания войны, как защита веры, не является для Лактанция убедительным. По его мнению, «религию следует защищать не убивая, а умирая, не жестокостью, а терпеливостью, не преступлением, но верностью» [7]. Лактанций не одинок в своих рассуждениях. Этой же точки зрения придерживались многие авторитетные церковные деятели первых веков христианства. Но такая позиция, доведенная до логического конца, с неизбежностью должна привести к отрицанию государства и законности его действий, так как «государство является орудием насилия» [9. С. 29]. Именно к такому выводу и пришел Л.Н. Толстой, который развил идеи христианских пацифистов и заявил о том, что «человек, который хочет быть христианином, Проблема обоснования политического насилия в христианской традиции 185 не может служить государству», поскольку «государство есть насилие» [10]. Своим отказом от государственной и военной службы христианин будет способствовать, в ближайшей перспективе, уничтожению христианской опоры государства, а в конечном счете и разрушению государства и его власти. «...Надо не уставать повторять «Carthago delenda est», и Carthago непременно разрушится» [Там же]. По мнению Л. Толстого, ситуация не изменится сама собой, она требует усилий всего общества и личных усилий каждого человека и, в первую очередь, его способности проявить волю и не вставать «в ряды убийц, называемых войском» [11]. Некоторые исследователи творчества Л. Толстого полагают, что его идеи близки к анархистским, но подобного рода идеи традиционное христианство, как известно, никогда не разделяло. Парадокс состоит в том, что прямолинейное толкование библейских заповедей приводит к умозаключениям весьма сомнительным с христианской точки зрения. Христианский пацифизм, отвергающий возможность морального оправдания насилия, не стал доминирующей идеологией в христианстве. Более того, «противники пацифизма пытаются доказать, что пацифизм - ересь» [12. С. 142]. По их мнению, главная «ошибка» пацифистов состоит в том, что они в определенной степени «игнорируют» реальность этого мира, который «.лежит во зле» (1Ин. 5:19). Представляется, что дело вовсе не в «игнорировании», поскольку «злую реальность» этого мира видят как пацифисты, так и их критики. Другое дело, что первые полагают, что отвечая на зло насилием, человек не только не борется с ним, но преумножает его, в то время как другие считают, что сила - это важный инструмент борьбы со злом. Известный американский протестантский теолог Р. Нибур пишет, что «один из аспектов современного христианского пацифизма представляет собой просто вариант христианского перфекционизма» [12. С. 143]. Пацифисты полагают, что идеал достижим, в то время как их оппоненты уверены, что человечество в массе своей не способно «вместить» абсолютные нормы и абсолютную этику христианства. Но, по мнению Р. Нибура, христианство - это как раз и есть та «религия, которая определяет всю полноту человеческого существования не только с точки зрения окончательной нормы поведения, выраженной законом любви, но также и с точки зрения человеческой греховности» [Там же. С. 142]. Еще одна традиция, отдавая дань христианским идеалам, строится на идее нежелательности, но все же допустимости применения насилия в общественной жизни, и главным мерилом этой допустимости становится справедливость. В христианстве получила развитие идея справедливой войны, которая зародилась благодаря трудам античных философов, в первую очередь, Платона, Аристотеля и Цицерона. Спорным остается вопрос начала формирования этой традиции. Одни исследователи связывают ее появление с изменением статуса христианства, которое становится в IV в. государственной религией в Римской империи, другие говорят о том, что первые века существования христианства вовсе не характеризуются тотальным пацифизмом и говорить можно скорее об «амбивалентном отношении первых христианских теологов к войне и военной службе» [13. С. 115]. Введя критерий справедливости в ситуации морального обоснования политического насилия, новая традиция во многом «сняла» ту библейскую «противоречивость», о которой речь шла выше. В Библии содержатся не противоречащие друг другу запове- Е.Г. Аванесова 186 ди, а по сути две заповеди, которым христиане должны следовать одновременно: «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44) и «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13). Первая касается личной жизни верующего, которая должна строиться по законам любви, вторая - жизни общественной, когда речь идет о ближнем, борьба за справедливое существование которого может быть морально оправдана [6]. Одним из создателей теории справедливой войны традиционно считается Августин, яркий представитель христианской интеллектуальной традиции. Он признает, что применение силы может быть использовано во благо, поскольку «ведя войну, всякий добивается мира» [14]. Однако и мир, и война могут быть разными. Далеко не каждая война может быть оправдана, но только та, которая ведется для достижения справедливого мира: «несправедливость противной стороны вынуждает мудрого вести справедливые войны» [Там же]. Конечно, не все войны являются справедливыми, есть «войны худшего свойства» [Там же], но даже справедливые войны несут бедствия. Эти рассуждения позволили Августину сформулировать один из важнейших критериев теории справедливой войны: война - это крайнее средство. Фома Аквинский развил идеи Августина и сформулировал еще ряд критериев справедливой войны: «полномочность правителя, по приказу которого ведется война», наличие справедливой причины и справедливое намерение [15]. Последний критерий особенно важен, так как «злое намерение» может войну, начатую по справедливым причинам, превратить в несправедливую в случае, например, несоразмерности применения силы. Важно понимать, что для начала и ведения справедливой войны необходимо наличие всех указанных выше критериев. Но не только это. Фома Аквинский, вслед за Августином, сформулировал важнейшую идею, которая повлияла на последующее развитие вопросов гуманизации политического насилия: «и в состоянии войны будь миротворцем» [Там же]. Представляется, что в рамках современного дискурса справедливой войны, затрагивающего вопросы культуры насилия, эта идея является одной из ключевых. Данная идея базируется на христианских представлениях о ценности человеческой жизни, необходимости отделять грех от грешника и понимании того, что «любая человеческая жизнь имеет право на уважение» [16. С. 164]. Не случайно христианскую интеллектуальную традицию называют одним из истоков того варианта теории справедливой войны, который «строится на признании главным элементом jus ad bellum ценности прав человека» [17. С. 120]. Идеи теории справедливой войны, обосновывающей «нравственную приемлемость некоторых войн» [18. С. 6], в том или ином виде вошли во многие христианские «программные документы». Так, например, в «Аугсбургском вероисповедании» упоминается о том, что христиане могут «вести справедливые войны и принимать в них участие» [19. С. 134], а в «Основах социальной Концепции Русской Православной Церкви» сказано, что «признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости» [6]. В пастырской конституции о Церкви в современном мире «Gaudium et Spes», одном из итоговых документов Второго Ва- Проблема обоснования политического насилия в христианской традиции 187 тиканского собора, также упоминается справедливость как фактор морального оправдания ведения военных действий: война допустима, «чтобы справедливо защищать народ» [20. С. 411]. Хотя это допущение позиционируется как вынужденное и временное, до того момента, когда человечество «дорастет» до «установления некой универсальной общественной власти», которая будет обладать легитимностью в глазах всех народов и силой, обеспечивающей всем «и безопасность, и соблюдение справедливости, и уважение прав» [Т ам же. С. 414]. Но даже на современном этапе, когда справедливая война может считаться этически допустимой, есть ограничения - «далеко не все позволено между воюющими сторонами» [Там же. С. 411]. Таким образом, христианская традиция, признающая возможность легитимации политического насилия в ситуации необходимости восстановления справедливости, позиционирует его как неизбежное зло, которое, что очень важно, должно быть соразмерным. Нельзя сказать об исключительно христианских корнях теории справедливой войны, но в то же время невозможно не признать его огромный вклад в развитие этой идеи. Тема справедливости и насилия, актуализированная ранним и средневековым христианством, во многом спровоцировала современные дискуссии по вопросам морали и насилия, войны и добродетели, возможности осуществления гуманитарной интервенции и, в целом, по вопросам «культуры насилия», «гуманизации насилия», обоснования важности и в условиях войны не пренебрегать определенными этическими нормами. Данная проблематика не только не теряет своей актуальности, но, напротив, становится все более злободневной в силу того, что современный мир не только не встал на путь преодоления насилия, но, напротив, «образуются все более сложные формы насилия» [21. С. 43]. По сути дела, теория справедливой войны, актуализированная христианскими богословами, в определенной степени опровергает вполне логичное мнение о том, что «если война, то о какой справедливости может идти речь?» [22. С. 57], формулируя базовые принципы, реализация которых способна внести нравственные, а затем и нормативные ограничения в применении насилия. Идея, выработанная теоретиками справедливой войны и состоящая в том, что даже во время войны «некоторые вещи ни в коем случае нельзя делать по отношению к другим» [16. С. 165], стала не только причиной политических дискуссий, но и фактором принятия нормативных документов, устанавливающих границы применения насилия в современном мире, вследствие чего «...государствам все труднее открыто игнорировать гуманистические принципы и, следовательно, теорию справедливой войны» [9. С. 392]. Конечно, проблема насилия в современном мире остается острой и требует самого серьезного к себе отношения. Как пишет С.А. Кравченко, «точка невозврата в раскрутке спирали усложнения насилия не пройдена, но мир близко подошел к ней» [21. С. 51]. По его мнению, чтобы этого не случилось, необходима гуманизация всего современного знания и выработка гуманистической политики, которые станут основой для успешной борьбы со все усложняющимся насилием. Представляется, что вопросы, касающиеся проблемы нравственного ограничения насилия, выработанные в различных культурных традициях, могут быть востребованы при формировании основ современной гуманистической политики, и христианская традиция не является Е.Г. Аванесова 188 исключением, поскольку идеи, сформулированные на протяжении двух тысячелетий ее существования, не только не устарели, но, напротив, могут быть интересны для мира, который хочет иметь будущее.
Капустин Б.Г. Моральный выбор в политике. М. : КДУ : Изд-во МГУ, 2004. 496 с.
Свенцицкий В., прот. Христианское отношение к власти и насилию // Азбука веры: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2005-2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Valentin_Sventsitskij/hristianskoe-otnoshenie-k-vlasti-i-nasiliyu/(дата обращения: 06.07.2021).
Капустин Б.Г. Критика политической философии: Избранные эссе. М. : Изд. дом «Территория будущего», 2010. 424 с. (Серия: Университетская библиотека Александра Погорельского).
Майка Ю. Социальное учение Католической церкви: Опыт исторического анализа. Рим ; Люблин : Изд-во Св. Креста, 1994. 480 с.
Мусин А., диакон. Церковь. Общество. Власть: Опыт патрологического исследования (Взаимные отношения Церкви, общества и государства по учению ранних отцов Церкви и церковных писателей I-III веков). СПб. ; Петрозаводск : Кругозор, 1997. 192 с.
Основы социальной Концепции Русской Православной Церкви // Азбука веры: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2005-2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/#0_16_1 (дата обращения: 12.07.2021).
Лактанций. Божественные установления. Книга V // Азбука веры: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2005-2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Laktantsij/bozhestvennye-ustanovlenija/5 (дата обращения: 29.07.2021).
Лактанций. Божественные установления. Книга VI // Азбука веры: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2005-2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Laktantsij/bozhestvennye-ustanovlenija/6 (дата обращения: 29.07.2021).
Нравственные ограничения войны: Проблемы и примеры / под ред. М. Коппитерса, Н. Фоушина, Р. Апресяна. М. : Гардарики, 2002. 407 с.
Толстой Л.Н. Письмо Эугену Генриху Шмитту от 12 октября 1896 г. // Лев Толстой: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2000-2021. URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/pisma/1896/letter-109.htm (дата обращения: 03.08.2021).
Толстой Л.Н. По поводу конгресса о мире (письмо к шведам) // Лев Толстой: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2000-2021. URL: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy/publicistika/publicistika-12.htm (дата обращения: 03.08.2021).
Нибур Р. Почему церковь не стоит на позициях пацифизма? // Социально-политическое измерение христианства. М. : Наука, 1994. С. 142-159.
Прокофьев А.В. Идея справедливой войны в западной этической традиции (от античности до середины XVIII в.) // Этическая мысль. 2019. Т. 19, № 2. С. 112-127.
Блаженный Аврелий Августин. О граде Божьем. Кн. 19 // Азбука веры: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2005-2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/o-grade-bozhem/19 (дата обращения: 12.07.2021).
Фома Аквинский. Сумма теологии. Т. VII // Азбука веры: сайт. Электрон. дан. [Б.м.], 2005-2021. URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/summa-teologii-tom-7/(дата обращения: 15.07.2021).
Сисе Х. Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах. М. : Весь мир, 2007. 176 с.
Бугров К.Д., Логинов А.В. Назад к субъекту: теории справедливой войны в современной политической мысли // Полис. Политические исследования. 2020. Т. 29, № 5. С. 114-129.
Куманьков А. Современные классики теории справедливой войны: М. Уолцер, Н. Фоушин, Б. Оренд, Дж. Макмахан. СПб. : Алетейя, 2021. 268 с.
Меланхтон Ф. Аугсбургское вероисповедание // М. Лютер. 95 тезисов. СПб. : Роза мира, 2002. 720 с.
Второй Ватиканский собор. Конституции, Декреты, Декларации. Брюссель, 1992. 573 с.
Кравченко С.А. Спираль усложнения насилия: востребованность гуманистической политики // Полис. Политические исследования. 2019. Т. 28, № 5. С. 43-55.
Апресян Р.Г. Метанормативное содержание принципов справедливой войны // Полис. Политические исследования. 2002. № 3. С. 57-71.
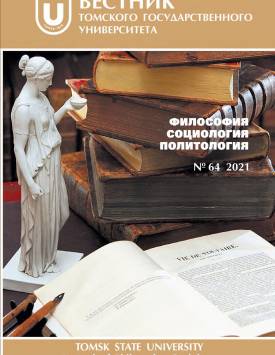

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью