Проведен анализ некоторых подходов к феномену понимания и роли языка в этом процессе; предложена одна из возможных реконструкций тезиса об отсутствующей семантике в естественном языке на основании известного положения поздней философии Л. Витгенштейна о том, что значение слова - это его употребление; в результате некоторых реконструкций установлено, что априорность значения, являясь абсолютно необходимым условием того или иного суждения, представляет семантику в новом аспекте видения: возможность конструирования новых схем и отношений между различными (иногда разноуровневыми) сегментами реальности и прочие определяются синтаксическими и прагматическими структурами, к созданию которых имеет непосредственное отношение ментальное пространство. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conventionalism and the research potential of semantics.pdf Для того чтобы не создавалось двусмысленностей относительно того, что мы подразумеваем под одним из основных понятий данного исследования, сделаем несколько специальных уточнений. «Отсутствующая семантика» - это, по сути, вольный/свободный аналог термина «денотационная семантика», под которым подразумевается соответствие между математическими объектами и теми величинами, которые их обозначают. Если уточнить подразумеваемый смысл данного понятия, употребляемого для анализа функционирования естественного языка, то получим следующее: «отсутствующая семантика» - это способ, координирующий применение и взаимодействие прагматического и синтаксического уровней языка, о чем, собственно, и шла речь у Н. Хомского, который полагает, что естественный язык имеет только синтаксис и прагматику, тогда как семантика - это инструмент, координирующий их возможности для осуществления успешной коммуникации [1]. Если в связи с обоснованием возможности отсутствующей семантики сделать отсылку к мифу о Данном у У. Селларса, то поддержка также придет незамедлительно: «...основываясь на истинности семантического утверждения „’красное’ означает красное“, вообще ничего нельзя сказать о той сложной роли, которую играет слово „красное“, или о том, как это слово связано с красными вещами. И никакие рассуждения о грамматике слова „означает“ в духе ‘Фидо’ не помешает нам заявить, что роль слова „красное“ (которая, по сути, и наделяет его значением) на самом деле очень сложная и что нельзя понять значение слова „красное“ - т.е. „знать, что такое красное“, если мы уже при этом не обладаем множеством таких знаний, которые, по мнению классического эмпиризма, имеют чисто случайное отношение к наличию у нас эмпирических понятий» [2. C. 93]. Известное рассуждение У. Куайна относительно того, что невозможно представить большую степень удаленности человека от понимания проблемы значения, чем степень профессиональных лексикологов, поскольку они интересуются всем чем угодно, но не значением [3. C. 99], многое делает понятным. Например, почему идея Л. Витгенштейна семейного подобия имеет прямое отношение к теории метафоры, позволяющей проследить не только становление многих понятий и категорий, но также и конструирование тех теоретических образований и схем, для которых они являются ядерными. Логика языка, к которой неоднократно апеллировал Л. Витгенштейн, в одних случаях, требует определенных видов взаимодействия между отдельными понятиями, а в других случаях исключает возможность пересечения опреде-16 Онтология, эпистемология, логика / Ontology, epistemology, logic ленных понятий. По нашему мнению, метафора является одним из тех механизмов конституирования новых значений, изучение и анализ которого может приблизить нас к пониманию возможности функционирования того или иного значения в языке, с помощью которого мы можем создавать новые социальные практики (теории, направления в науке и т.д.). Рабочая гипотеза данного исследования сводится к следующему: отсутствующая семантика, формирующаяся синтаксической структурой языка и соответствующая логике языка, конституирует новые схемы понимания, как научного, так и обыденного. Априорность и значение Анализ тезиса об отсутствующей семантике в естественном языке (в контексте концепции философии позднего Л. Витгенштейна о значении как употреблении), делает необходимым анализ понимания метафоры у Л. Витгенштейна, поскольку метафора является инструментом порождения нового знания за счет понимания сущности чего-то посредством сущности другого. Объясняя, почему объекты у Л. Витгенштейна имеют «дыры», которые приводят к единству необъектного качества, А. Коффа цитирует письмо Л. Витгенштейна к Ч. Огдену по поводу сути метафоры: «... не должно быть ничего третьего, что соединяет связи, но что связи сами делают соединение друг с другом. В подобном же духе он в 1929 г. рассматривал вопрос о том, как анализировать пропозицию типа цвет локализован в местеp и заключил: Ясно, что нет отношения „быть в“, получаемого между цветом и местом, в котором „локализован“ цвет. Нет промежуточного термина между цветом и пространством. Цвет и пространство насыщают друг друга. И способ, которым они проникают друг в друга, образует визуальное поле. .у Витгенштейна объекты демонстрируют изобилие форм» [1. С. 208209]. Итак, по существу, метафора у Л. Витгенштейна - это способ получения нового, способ организации континуума, возможность которого связана с языком (синтаксически-прагматическая). Цвет и пространство - категории разных видов, но их локализация - это категория, не относящаяся ни к одному из предыдущих видов. И это важно с точки зрения аргументации нового знания: как происходит переход от одного утверждения (протокольного предложения) к другому, что позволяет понимать логику этих переходов, как появляются/открываются объекты и как устанавливаются правила, организовывающие приемлемость метафор. Поскольку концептуальной идеей данного исследования является идея обоснования отсутствующей семантики феноменом метафоризации контекста, выдвинем следующее предположение. Логика языка, как полагал Л. Витгенштейн в Трактате [2], такова, что мы ничего не можем сказать о нелогичном мире (другими словами, существующие схемы реальности логичны, и их логичность обусловлена правилами их формирования (синтаксисом) и правилами их применения (прагматикой)). При этом остается вопрос, как мы определяемся с логичностью языка и мира. Ответ в следующем: логика реальности конституируется семантикой (в нашем случае отсутствующей семантикой), основанной на том, что значение - это употребление. Семанти-17 Гончаренко М.В. Конвенционализм и исследовательский потенциал семантики ка предопределяет в каком-то смысле не только употребление слова, но и возможность использования синтаксических структур для получения нового знания (а значит, и новых значений), так как без значения (как употребления) знака (слова) или конфигурации знаков (структуры) мы не можем получить новые возможности использования ранее уже использованных элементов. Метафора, задействуя потенциал отсутствующей семантики, соединяет прагматические и синтаксические конструкты в ранее невозможном порядке, что приводит к возможности новых совершенно логичных вариантов употребления слова и открывает новые возможности для новых пропозиций. Тем не менее в контексте обоснования отсутствующей семантики нельзя избежать вопроса о роли априорных утверждений, которую они играют в процессе организации когнитивного пространства. С помощью a priori мы говорим только то, что нами заложено. Если мы упраздняем кантовское понимание a priori, то получаем некое структурное единство (теорию / гипотезу / отдельно взятое утверждение (пропозицию)), функционирование которого обусловлено организующими его правилами. В такого рода семантике значение действительно определяется употреблением, что целиком и полностью соотносится с активностью субъекта познания, а не с какой-либо открываемой реальностью (хотя не верится, что такого рода аргументация может кого-либо окончательно убедить в приоритетности номиналистского подхода). Когда в Пролегоменах И. Кант задает вопрос: «Как возможна сама природа?», его ответ «природу вообще, мы не можем познать ни из какого опыта, так как сам опыт нуждается в таких законах, на которых основывается a priori его возможность» [3. С. 76-77] основан на совершенно ином методологическом принципе. Этот принцип признает иерархию уровней, одним из которых (верховным) является суждения a priori, в то время как принцип следования правилу такой иерархии не поддерживает. Причины, по которым это представляется возможным, весьма разнообразны. Начнем с того, что взаимодействие таких категорий, как правило, значение, объект (реальность), всегда имеет альтернативы, в чем мы постоянно убеждаемся эмпирически. В этой связи возникает вопрос о том, почему в Философской грамматике Л. Витгенштейн утверждает, что хотя обоснование актуальности той или иной грамматической системы весьма непрозрачно, условия ее изменения выглядят иррационально и по своей сути являются кросс-культурным сдвигом [4. P. 110]. Анализ актуальности грамматики в контексте проблемы априорности - это очень важная и сложная проблема, рассмотрение которой в какой-то степени позволяет проследить, как эпистемология, анализируя познание, обратилась к семантике. Существует множество типов суждений, которые по-разному организуют когнитивный континуум (денотация, определение, сравнение, вывод и др.), что приводит к непониманию субъектом познания того, насколько те или иные значения, определения и прочее связны с правилами их конституирования. Л. Витгенштейн полагал, что необходимые утверждения (суждения a priori, поскольку без них организация мыслительного процесса абсолютно невозможна) ничего нам не сообщают, но так или иначе конституируют значение. Однако поскольку субъект познания может как принять это значение, так и отклонить его, постольку априорность не имеет того метафизического статуса, который ему приписывался. 18 Онтология, эпистемология, логика / Ontology, epistemology, logic Так, Л. Витгенштейн утверждал, что аксиомы геометрии не несут никакой информации, они постулируют определенные положения в языке, с помощью которого мы описываем пространственные объекты [5. P. 62]. Что это значит, как связаны понятия геометрии с эмпирическими понятиями? Очень просто: «Так говорит ли геометрия о кубах? ...Геометрия вообще не говорит о кубах, скорее, она конституирует значение слова „куб“ и т.д. Геометрия теперь говорит, например, что ребра куба имеют одинаковую длину, и нет ничего легче, чем спутать грамматику этого предложения с грамматикой предложения „края деревянного куба имеют одинаковую длину“. И все же одно является произвольным грамматическим правилом, в то время как другое является эмпирическим предложением» (цит. по: [1. С. 361]), - таким образом, связь грамматического и эмпирического характера, по всей вероятности, определяется произвольной конвенцией, что, безусловно, не согласуется с идеей a priori или идеей априорности знания. В каком-то смысле a priori - это первое звено в цепи рассуждения, которое определяет возможность всех последующих ее звеньев. Безусловно, такое видение проблемы априорности математических суждений указывает на правомерность их понимания как правил грамматического конституирования в витгенштейновском смысле. Такое понимание a priori у представителей аналитической традиции действительно объясняет причины обращения эпистемологии к семантике. В том же ряду (в контексте обращения эпистемологии к семантике) находится и следующее рассуждение Д. Лакоффа, где он сравнивает разработанные им «базовые схемы» и «базовые идеи», многократно повторяющиеся в разных разделах математики и детально анализируемые известным математиком Мак-Лейном: «Как отмечает Мак-Лейн, имеющиеся в настоящее время основания математики оставляют окруженными тайной ответы на следующие конкретные вопросы (Mac Lane 1981, p. 466): - Как получается, что формально вычисленные по законам ньютоновской механики орбиты небесных тел соответствуют их реальному движению? - Почему дифференциальное исчисление успешно применяется как в физике, так и для решения экономических проблем локальных максимумов?» [6. C. 471-472]. Д. Лакофф однозначно уверен в том, что успешное применение «базовых идей» математики в эмпирических областях обусловлено наблюдением реальности, понимание которой обеспечило формирование различных терминов с их дальнейшей необходимой классификацией. В этом случае категоризация ментального пространства, как один из основных механизмов понимания и формирования «базовых схем», выступает в качестве фундаментального базиса, определяющего стартовую возможность любого кодифицированного положения дел (объекта, процесса, отношений и т.д.), будь то естественный или какой-либо искусственный язык. Для нашего исследования крайне важно, что эта концептуализация ментального пространства не ограничена в вариативности необходимых вариантов. Что устанавливают аксиомы геометрии, по Л. Витгенштейну, если не правила синтаксиса того языка, которым мы описываем объект, поэтому не-19 Гончаренко М.В. Конвенционализм и исследовательский потенциал семантики удивительно, что a priori содержит только то, что субъектом предусмотрено [4. P. 320]. И это снова возвращает нас к проблеме значения, вернее, к тому, как оно определяется. Очевидно, здесь необходимо обратиться к отношениям употребление - понимание. Как бы мы ни относились к эксперименту Дж. Сёрла «китайская комната», этот эксперимент прекрасно демонстрирует взаимодействие (или его отсутствие (?), если мы подразумеваем отсутствие связи как значимый фактор для этих отношений) между семантикой и синтаксисом. Если правило, как схема употребления, конституирует значение, то что происходит с априорностью: возможна ли априорность значения или это совершенно невозможно? Л. Витгенштейн описывает эту ситуацию так: «Не может быть вопроса, являются эти или другие правила верными для употребления слова „не“... Потому что без этих правил слово все еще не имеет значения, и, если мы изменим правила, оно будет иметь другое значение.» [4. P. 184]. Следовательно, априорность соотносится со значением, а не с опытом [1. C. 358]. Безусловно, такое понимание a priori и априорного знания никак не согласуется с реалистской концепцией и объективистской семантикой. Анализируя проблемы корреляции синтаксиса и семантики с неопределенной референцией в формальных языках, Х. Патнэм пришел к очень простому и важному выводу в духе конвенционализма Л. Витгенштейна: «Говорить так, как если бы перед нами стояла следующая проблема: „Я знаю, как употреблять мой язык, но каким образом я теперь выберу интерпретацию“, значит говорить бессмыслицу. Либо употребление уже фиксирует интерпретацию, либо ничто не может этого сделать» [7. P. 482]. Таким образом, понимание, обусловленное правилами синтаксиса, возможно только при a priori установленных ими значениях. Ментальное пространство (Mental space) и исследовательский потенциал семантики Для детального анализа роли ментального пространства (mental space) в процессе конституирования знания невозможно проигнорировать ни феномен априорности значения, ни феномен референции, которые оказывают определенное влияние как на ментальное пространство mental space, так и на когнитивный континуум. Вот как Д. Лакофф определяет ментальное пространство: «Ментальное пространство является способом концептуализации и мышления. Любое фиксированное. положение дел, как мы его концептуализируем, представлено. ментальным пространством. Ментальные пространства не имеют какого-либо онтологического статуса вне ума человека. Примером ментального пространства. не может быть реальный мир или некоторый его аспект. .ментальные пространства беспрепятственно функционируют в семантике, основанной на внутреннем или эксперенциальном реализме» [6. C. 366-367]. Такое понимание ментального пространства (mental space), безусловно, отсылает к разнице у Л. Витгенштейна между миром sense-data - миром, в котором мы живем, и миром, о котором мы говорим, - миром физических объектов [8. P. 82]. Действительно, здесь мы сталкиваемся с разными ментальными состояниями: состоянием чувственного восприятия (sense-data) и состоянием когнитивного моделирования, поскольку физический объект/аспект его видения как минимум концептуализирован языком. Сам Л. Витгенштейн выходит из ситуации такого разделения, пола-20 Онтология, эпистемология, логика / Ontology, epistemology, logic гая, что нет факта того, что Земля круглая, но есть другие факты (форма тени на Луне при затмении и др.), подтверждающие наше утверждение/знание о форме Земли, также как и нет факта, что нечто является физическим объектом, но есть чувственные данные и суждения о нем [8. P. 80-81]. Если такого рода примеры кажутся неубедительными, приведем пример из научной теории электродинамики, который демонстрирует еще и актуальность метафо-ризации: «На самом деле единственное различие между красным и синим фотоном (или фотоном любого другого цвета, включая радиоволны, рентгеновское излучение и т.д.) - это скорость вращения стрелки часов (т.е. время. -М.Г.)» [9. C. 46]. Дополнительно нужно отметить, что методологическим основанием такого рода когнитивной конструкции у Л. Витгенштейна стало переосмысление феномена верификации: как можно соотносить звуки речи и объекты, процессы, отношения и прочее, к которым они относятся, и утверждать в этом случае, что мы имеем подтверждение сфор-мутированного. Сам собой актуализируется вопрос Дж. Остина о том, что делает человек, когда что-либо говорит [10. C. 34]. Действительно, что при этом происходит с сознанием и миром и какова в этом процессе роль понимания, как оно возможно? Сам Дж. Остин, задаваясь таким вопросом, надеялся на появление в скором времени новой теории речевого акта, которая описывала бы речевой акт во всей его целостной совокупности, тем не менее, пока этого не случилось, целостной теории не появилось, воспользуемся теми элементами анализа, которые были уже разработаны, в том числе в когнитивистике. Обратимся к описанию формирования категорий, определяющих научные схемы у Д. Лакоффа. Речь пойдет о формировании категории рода в биологии, на основании которой возникли определенные классификации: «Род как научный уровень классификации был установлен, потому что он был психологически наиболее базовым уровнем для целей изучений таксономической биологии людьми. Предполагалось, что разделение на роды соответствует определенным реальным делениям в природе» [6. C. 57-58). В данном случае для нас важно не столько определенное тождество между народной и научной биологией, о которой говорит Д. Лакофф, сколько категория научной схемы, классификации, - категория рода, которая позже в новой научной схеме (теория эволюции) была заменена категорией вида, включающей новые признаки и составляющие, обусловливающие новую научную теорию - теорию эволюции. Что же при этом произошло с реальностью - с тем биологическим миром, который классифицировался этими научными схемами? Очевидно, с ним ничего не произошло, изменения коснулись исключительно дискурса, который репрезентирует различные состояния ментального пространства (mental space). И хотя Д. Лакофф отказывает в онтологическом статусе всему тому, что представлено в ментальном пространстве (mental space), невозможно игнорировать относительный параллелизм когнитивного пространства научной теории (схем/схемы, конституирующей представления субъекта) и биологического разнообразия (того материала, с которым субъект находится в чувственном контакте (sense-data)). Собственно, с этим и связано бесконечное число вариативных моделей/научных схем, с помощью которых субъект познания репрезентирует свои представления о биологическом разнообразии. Однако здесь важен еще один нюанс: любая классификация как 21 Гончаренко М.В. Конвенционализм и исследовательский потенциал семантики базовая схема конституируется индивидуальным сознанием на основании его индивидуального опыта таким образом, чтобы она соответствовала целям и задачам его деятельности, хотя бы отчасти. Если нет такого рода соответствия, то любая схема изначально становится неприемлемой. Анализируя феномен категоризации, Д. Лакофф довольно подробно исследует категорию рода для того, чтобы показать, как категории, применяемые в одной сфере знания, могут с успехом использоваться в других областях, на первый взгляд, совершенно не связанных между собой: «Таким образом, то, что определяет естественный род, есть Некоторая „существенная природа“, которую вещь разделяет с другими членами этого естественного рода. Какова эта „существенная природа“ - дело не лингвистического анализа, но специальной научной теории (Putnam. -М.Г.). В качестве примеров обычно приводятся вещи, которые существуют в природе... однако созданные человеком артефакты также могут быть рассмотрены как имеющие существенные признаки и поэтому также могут рассматриваться как входящие в созданные человеком роды» [6. C. 216]. Что здесь важно, так это то, что существенная природа определяется научной теорией, и значит, в ментальном пространстве (mental space) нет и не может быть ограничений для создания субъектом новых родов. Категория рода не может быть ограничена фактором естественного или антропного происхождения. Новая научная теория (теория эволюции) пересматривает категорию рода так, что вместо нее появляется категория вида, и для субъекта познания все это - естественный процесс перманентного конституирования Реальности. Одним из основных инструментов, принимающих участие в ее создании, является язык со всем своим потенциалом. Для того чтобы продемонстрировать семантико-синтаксическую обусловленность когнитивного анализа реальности и необходимость использования при этом метафоры как одного из возможных способов объяснения/ понимания происходящего, воспользуемся следующим примером Р. Фейнмана. Он кратко формулирует для непрофессиональной аудитории основные законы физики. С учетом того что нам нужно продемонстрировать, мы остановимся на двух из них. Первый закон: фотон летит из одного места в другое, что является полной теорией света. Третий закон: электрон поглощает или излучает фотон; это действие называется соединением, связью, взаимодействием (Фейнман. КЭД. С. 111-112). Итак, основными действующими лицами в этих базовых физических схемах являются фотоны и электроны, которые выполняют определенные действия - они летают. Значит, физическая теория структурирована некоторыми элементами и их взаимоотношениями, характер и качество которых определяется с помощью определенных математических формул, так как от наглядных моделей физика отказалась давно из-за невозможности их применения. Но, как мы видим, то, что выражается для профессионалов-физиков математическими формулами, для непрофессионалов выражено естественным языком, и с этим согласны профессионалы: фотоны, электроны летают, взаимодействуют, объединяются, разъединяются и пр. Налицо две базовые схемы: народная и научная, как их называет Д. Лакофф. Мы видим, что они зависят друг друга, так как невозможно представить математическую формулу физического процесса, не понимая, из ка-22 Онтология, эпистемология, логика / Ontology, epistemology, logic ких элементов она состоит. Фотон, электрон - это элементы, находящиеся в пространстве-времени; их взаимодействие системно и т.д. Что такое система, есть ли такая категория в народных моделях наряду с элементами, связями, пространством, временем? Безусловно, пространственно-временной континуум студента на перерыве - это не пространственно-временной континуум фотона, в котором он может двигаться не только в будущее, но и в прошлое, но это то, что принято называть мышлением по аналогии. Следовательно, категории ментального пространства (mental space), относящиеся как к научной, так и к народной схеме, способствуют успешному, насколько это возможно, процессу коммуникации.
Коффа А. Семантическая традиция от Канта до Карнапа: к Венскому вокзалу / пер. с англ. В.В. Целищева. М. : Канон+ РООИ «Реабилитация», 2019. 528 с.
Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I: Логико-философский трактат / пер. с нем. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева. М. : Гнозис, 1994. 612 с.
Кант И. Пролегомены / пер. с нем. Вл. Соловьёва. М. : Академический проект, 2008. 174 с.
Wittgenstein L. Philosophical Grammar / ed. R. Rhees. Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1974.
Waismann F. Wittgenstein und der Wiener Kreis / ed. B.F. McGuinnes. Oxford : Blackwell Publisher, 1967. [Translated as Wittgenstein and the Vienna Circle].
Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении. Кн. I: Разум вне машины / пер. с англ. И.Б. Шатуновского. М. : Гнозис, 2011. 512 с.
Putnam H. Models and Reality // Journal of Simbjlic Logic. № 45. P. 464-482.
Wittgenstein L. Wittgenstein’s Lectures, Cambridge, 1930-1932 / ed. D. Lee. Totowa, N.J. : Rowman & Littlefield, 1980.
Фейнман Р. КЭД - странная теория света и вещества / пер. с англ. С.Г. Тиходеева, О.Л. Тиходеевой. М. : АСТ, 2020. 208 с.
Остин Дж. Перформативы - констативы / пер. с англ. Г.Е. Крейдлина // Философия языка: пер. с англ. / ред.-сост. Дж.Р. Сёрл. 3-е. изд. М. : Едиториал УРСС, 2011. С. 23-34.
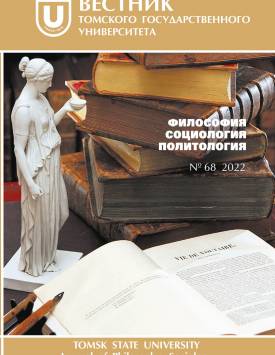

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью