Выявляются значение и смысл парадоксального высказывания Ф.М. Достоевского о том, что он предпочел бы «оставаться со Христом, нежели с истиной». В произведении истина олицетворяет собой науку, внешний мир человека, а Христос представляет внутренний мир жизни человека. Достижению гармонии обоих миров препятствуют бесы, вселившиеся в людей. Единение с Христом, согласно логике произведения, избавит людей от бесов, а Россию - от социальных потрясений. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The problem of choice in the life of the author and of the characters of the novel Demons.pdf Введение: основные вопросы исследования В данной статье речь идет о жизненно важном выборе, определяющем судьбу человека. Примером такого выбора в данном случае является решение Достоевского «оставаться со Христом, нежели с истиной», даже если ему докажут, «что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа», высказанное им в письме Н.Д. Фонвизиной в 1854 г. [1. С. 176]. В романе «Бесы» эту мысль воспроизводит Шатов в разговоре со Ставроги-ным: «...не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной?» [2. С. 238]. Как же понимать нам смысл этих высказываний писателя? Каково в данном случае значение слов истина и Христос? Правомерно ли их противопоставление? Что служит основанием их сравнения? Какую роль в жизни человека играет выбор между Истиной и Христом? Каков действительный смысл романа «Бесы»? Ответить на заданные вопросы, основываясь на методологии философского познания, является целью данной статьи. Достижение поставленной цели зависит как от нашего понимания той, далекой уже от нас эпохи XIX в., так и от выявления значения исходных понятий: вера, выбор, истина, религия, наука, человек, бес, бог, Христос, внутренний и внешний мир жизни человека. Основания анализа проблемы выбора В анализе значения исходных понятий оттолкнемся от статьи У. Джеймса «Воля к вере», опубликованной в сборнике его работ 1896 г. [3]. Вера, согласно исследователю, есть вид гипотезы, которая может быть живой или мертвой. «Живая гипотеза производит впечатление реальной возможности на того, кому ее предлагают» [3. С. 9]. «Жизненность и мертвенность - не внутреннее свойство гипотез, - отмечает У. Джеймс, - но некоторое отношение их к тому, кто их придерживается, отношение, измеряемое готовностью данного лица к действию. Максимум жизненности гипотезы соответствует готовности действовать во что бы то ни стало; это-то и есть собственно вера, но и вообще в малейшей готовности действовать уже таится некоторая склонность к вере. Далее, назовем решение в пользу той или другой гипотезы выбором [3. С. 10]. Готовность «действовать во что бы то ни стало» говорит и о наличии воли, а не только веры. И, если речь идет о познавательном выборе, то предметом его могут быть не только гипотезы, но и учения, теории. Однако, следуя логике У. Джеймса, не будем проводить различий между ними, полагая все их гипотезами. Данный подход позволил У. Джеймсу предложить следующую классификацию видов выбора, который «может быть: 1) живым или мертвым, 2) необходимым или необязательным, 3) важным или заурядным, 80 История философии /History of philosophy а для своих целей мы можем назвать выбор истинным, когда он принадлежит к разряду живых, необходимых и важных» [3. С. 10]. Следовательно, можно дополнить предложенную классификацию выбора четвертым видом: истинным или ложным. И истинным будет выбор, который способствует достижению гармонии указанных Джеймсом параметров. Или, исходя из идеи Джеймса, истинным можно считать выбор, который способствует гармонизации внешнего и внутреннего миров жизни человека. И не приходится сомневаться в том, что выбор Христа Достоевским У. Джеймс считал бы живым, необходимым и важным, т.е. истинным. Заметим только, что исследователь справедливо отмечает роль воспитания человека в принятии им решений. И, добавим мы, способность выбора быть живым, необходимым и важным определяется исторической эпохой, общественными и природными условиями жизни человека. Если блага человека, выражающие его природные потребности, существенно не изменяются в истории человечества, то ценности как искусственные блага изменяются радикально, что должно быть принято во внимание при анализе любого вида выбора. Заметим, ценности и блага различаются принадлежностью к внутреннему или к внешнему миру жизни человека. Именно это различие, в нашем понимании, позволяет Достоевскому предпочесть Христа истине. Математическое доказательство того, что «истина вне Христа», есть доказательство научное, и истина в данном случае олицетворяет собой науку, сферу объективного знания, внешнего человеку мира. Научный же мир становится достоянием внутреннего мира жизни человека, когда он осваивает или творит его, как это происходит, например, в жизни физиков или математиков. Но ни Достоевский, ни положительные герои «Бесов» в этом смысле не принадлежат миру науки, для них это внешний мир. Их же внутренний мир формируется в результате освоения ими религиозного и социального мира. Проблема соотношения внутреннего и внешнего миров жизни человека волновала еще авторов книг Ветхого и Нового Заветов. Наиболее четко ее решение представил евангелист Лука в ответе Христа фарисеям. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им: не придет Царство Божие приметным образом и не скажут: „вот оно здесь“, или „вот, там“. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:20-21). Таким образом, Царствие Божие одновременно есть и вне и внутри человека. И выражение «быть с Христом» означает именно единство внутреннего и внешнего миров верующего человека. И если внешний мир для единоверцев один и тот же, то внутренний мир у каждого человека свой, сформированный особенностями его природы (здоровья), воспитания и жизни. Поэтому содержание единства человека с богом у каждого человека свое, особенное. Это единство включает в себя и понимание ценности его для человека. И верующий человек защищает свои религиозные ценности, главной из которых для христианина является образ Христа. О том, каким виделся этот образ Достоевскому в начале его творческого пути, во время посещения кружка Петрашевского (1848-1849 гг.), можно судить по известному письму Белинского Гоголю (1847 г.), которое молодой Достоевский читал членам кружка. В этом письме Белинский характеризовал православную церковь как опору власти и угодницу деспотизма и противопоставлял церкви образ Христа. Согласно Белинскому, Христос «первый возвестил людям учение свободы, равенства и брат-81 Кондратьев В.М. Проблема выбора в жизни автора и героев романа «Бесы» ства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения» [4. С. 515]. Должно быть, именно эти социальные ценности привлекали в то время Достоевского, определяли его выбор «быть с Христом» и в последующие годы. Однако представленное отношение Белинского к церкви разделялось далеко не всеми современниками. Так, один из основоположников славянофильства, учения, неоднократно упоминаемого в «Бесах», И.В. Киреевский видел «в требовании большего сближения религии с жизнью людей и народов» путь к достижению народного единства [5. С. 215]. В осуществлении этого требования видится решение социальных проблем и автору «Бесов». В частности, Достоевский устами героев романа обсуждает вопрос о зависимости национальной определенности человека от его веры. Так, Шатов обращается к Ставрогину с вопросом: «Вы помните выражение ваше: „Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским“, помните это? - Да? - как бы переспросил Николай Всеволодович. - Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть? Я напомню вам больше, - вы сказали тогда же: „Не православный не может быть русским“» [2. С. 237]. Иначе сказать, для героев «Бесов» национальность человека определяется не только наличием в его внутреннем мире религиозной веры, а и определенным ее содержанием, разъединяющим людей. Определение национальности через «одну из главнейших особенностей русского духа» выглядит сегодня странно, но оно характерно для религиозного человека XIX в., противопоставляющего разум и веру. Прислушаемся к аргументации Шатовым данного положения: «Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков» [2. С. 238]. И обсуждение вопроса о возникновении религии служит в романе обоснованию второстепенной роли разума в истории человечества. «Мы знаем, например, что предрассудок о Боге произошел от грома и молнии, - вдруг рванулась опять студентка, чуть не вскакивая глазами на Ставрогина, -слишком известно, что первоначальное человечество, пугаясь грома и молнии, обоготворило невидимого врага, чувствуя пред ним свою слабость» [6. С. 44]. Да, скажем мы, зависимость человека от сил природы послужила основой возникновения религиозных верований, однако заметим, - от неведомых человеку сил. Неопределенность же природы веры служит основой сближения людей, а не разобщения и взывает к их разуму. Итак, зависимость человека от внешних и неизвестной природы сил явилась основой возникновения страха за свою жизнь и создания в дальнейшем религиозных учений. Желание обезопасить себя привело, в конечном счете, к созданию представления о существе всемогущем и всезнающем, имя которого - бог. «Цель всего движения народного, - подчеркивает Ставрогин, - во 82 История философии /History of philosophy всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особенный» [2. С. 238]. И эта особенность, заметим, служила основанием разобщения людей. Чтобы устранить это основание, нужно найти истинного бога. Наличие же у каждого народа своего собственного бога говорит о том, что истинный бог еще не найден. Исканием бога всегда были озабочены верующие. Читаем в «Исповеди» Августина Аврелия: «Ищущие найдут Его, и нашедшие восхвалят Его. Я буду искать Тебя, Господи, взывая к Тебе... Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Г осподу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Где же есть место, куда пришел бы Господь мой?» [7. С. 8]. Чтобы искать бога, нужно иметь образ его, образ, создаваемый не только чувством страха, но и воображением как свойством разума человека, и в дальнейшей истории - имеющимися учениями о нем. Достаточно вспомнить о христоло-гических дискуссиях IV-V вв. представителей арианства, несторианства, мо-нофизитства, пелагианства. И сегодня, можем мы сказать, поиски истинного бога народами мира продолжаются. Другим основанием выбора между истиной и Христом, по мнению героев романа, является неспособность разума познать добро или зло. «Никогда еще не было народа без религии, т.е. без понятия о зле и добре. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука давала же разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода, войны, неизвестный до нынешнего столетия» [2. С. 239]. Слово «разум» обозначает здесь науку. И в таком случае нужно согласиться с высказанным положением: наука, например математика, не занимается определением добра и зла, это дело философии и теологии (религии). Поэтому те, кто выбирает лишь истину (науку), не способны различать добро и зло. И в оценке роли в жизни людей «полунауки» Достоевский прав. Большинство героев произведения таковыми и являются, включая отца и сына Верховенских. Они различаются отношением ко злу: сын творит зло, отец, более просвещенный, нет. И именно Степан Трофимович, обращаясь к образу свиней из Ветхого Завета, критически оценивает и свои, и сына действия: «Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, - это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Это мы, мы и те, и Петруша. et les autres avec lui (и другие с ним. - В.К.), и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и „сядет у ног Иисусовых”. и будут все глядеть с изумлением.» [6. С. 282]. Возможно, этот фрагмент отражает действительную цель романа - исцеление русского народа, освобождение его от бесов. И одним из феноменов этого исцеления выступает мысль, высказанная старшим Верховенским: «Человеку гораздо необходимее собственного счастья знать и каждое мгновение веро-83 Кондратьев В.М. Проблема выбора в жизни автора и героев романа «Бесы» вать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье, для всех и для всего... Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает. Друзья мои, все, все: да здравствует Великая Мысль! Вечная, безмерная Мысль! Всякому человеку, кто бы он ни был, необходимо преклониться пред тем, что есть Великая Мысль» [6. С. 289]. Скорее всего, под Великой Мыслью здесь понимается мысль о боге, но она является нам и как неопределенная до конца, как бесконечная. Можно сказать, этим высказыванием признается значение неопределенности в жизни человека. И истолковывается эта неопределенность каждым человеком по-своему. Так, например, мы привычно противопоставляем добро и зло, свободу и зависимость, волю и насилие, власть и народ, бесов и ангелов, но это противопоставление не абсолютно, оно, в частности, зависит от времени и пространства их бытия. Вот как определяет себя Мефистофель из «Фауста» Гёте: «Часть вечной силы я, Всегда желавшей зла, творившей лишь благое» [8. С. 212]. И когда Фауст пытается уточнить пространственную определенность этой силы, то Мефистофель отвечает: «Я скромно высказал лишь правду, без сомненья. Ведь это только вы мирок нелепый свой Считаете за все, за центр всего творенья! А я - лишь части часть, которая была В начале все той тьмы, что свет произвела.» [8. С. 213]. Каждый человек в процессе жизни создает свой внешний и свой внутренний мир. Конечно, он отталкивается от внешнего объективного мира, одинакового для всех, но воспринимает он его в зависимости от своих знаний, индивидуально. В результате создается субъективный внешний мир человека, существующий одновременно с его внутренним миром - продуктом действия мышления, сознания и самосознания, рефлексии, эмоций. Отражением этого процесса служат следующие строки Николая Заболоцкого: Два мира есть у человека: Один, который нас творил, Другой, который мы от века Творим по мере наших сил [9. С. 276]. Тот мир, «который нас творил», нами еще не познан, не определен. Научное познание, как известно, бесконечно. Познание же на основе веры конечно, определенно. И в этом суть различия между истиной науки и истиной веры. Заключение Наше обращение к антропологии, к религиозной литературе и к социальной философии XIX в., полагаем, приоткрыло тайну выбора Достоевским: «оставаться со Христом, нежели с истиной». Заметим также, что роль внутреннего мира в жизни человека исторически изменчива. В мифологическую эпоху более значимым для человека был внешний мир, в религиозную эпоху -внутренний. В наше время, в век Информации, внешний мир вновь заслоняет собой внутренний мир человека. И наша задача - способствовать гармонизации двух миров жизни человека.
Достоевский Ф.М. Письма: 1832-1859 // Полн. собр. соч. : в 30 т. Т. XXVIII, кн. 1. Л. : Наука, 1985.
Достоевский Ф.М. Бесы : роман : в 2 т. Т. 1: Части первая и вторая (главы первая - пятая) / предисл., подгот. текста, примеч. Л.И. Сараскиной. М. : Моск. рабочий, 1993.
Джеймс У. Воля к вере : пер. с англ. / сост. Л.В. Блинков, А.П. Поляков. М. : Республика, 1997.
Белинский В.Г. Письмо к Н.В. Гоголю. 3 июля 1847 // Избранные философские сочинения : в 2 т. М. : ОГИЗ, 1948. Т. 2. С. 512-522.
Киреевский И.В. Девятнадцатый век // Русская философия первой половины XIX в. : хрестоматия / сост., библиогр. ст. и примеч. Б.В. Емельянова. Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1987. С. 208-227.
Достоевский Ф.М. Бесы : роман : в 2 т. Т. 2: Части вторая (главы шестая - десятая) и третья / предисл., подгот. текста, примеч. Л.И. Сараскиной. М. : Моск. рабочий, 1993.
Августин Аврелий. Исповедь // Исповедь: Абеляр П. История моих бедствий : пер. с лат. М. : Республика, 1992. С. 7-222.
Гёте И.В. Сцены из Фауста // Избранные произведения. М. : Детгиз, 1963. С. 176-326.
Заболоцкий Н.А. Столбцы и поэмы. Стихотворения. М. : Русская книга, 1996.
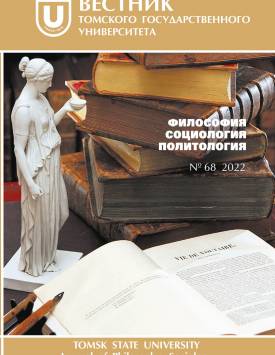

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью