–Я–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є. –£—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ, –≥–і–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є. –Ы—О–±–∞—П –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ –Є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ —Н—В–Є–Ї–Є. –Р–≤—В–Њ—А –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤.
Ethics and the problem of subjectness criteria.pdf –Э–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –і–ї—П –Љ–Њ—А–∞–ї–Є –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞ - —Н—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ—Л —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ —Н—В–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –∞ –љ–µ –њ—А–Є–і–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Т—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ—Л–µ –љ–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П (¬Ђ–£–±–Є–≤–∞—В—М –ї—О–і–µ–є –њ–ї–Њ—Е–Њ¬ї, ¬Ђ–Ь—Л –≤ –Њ—В–≤–µ—В–µ –Ј–∞ —В–µ—Е, –Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—А—Г—З–Є–ї–Є¬ї) —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ —В–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л. –Э–µ –≤—Б–µ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–і–µ–ї—П—О—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О (moral considerability) –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В ¬Ђ–Њ–і—Г—И–µ–≤–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –µ–≥–Њ –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є —Н—В–Є–Ї–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л (environmental ethics) –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—О—В –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –і–ї—П –љ–∞—Б –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –≤ ¬Ђ–Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ¬ї –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –і—Г—И–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В - —А–∞–± - —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤–Њ–µ –Њ—А—Г–і–Є–µ –Є –љ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є1. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г, —З—В–Њ–±—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –≤—Е–Њ–і—П—В –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –≤–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—Й–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є–Љ–µ—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г. –Ь—Л –±—Г–і–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞¬ї –і–ї—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –∞–љ–≥–ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђmoral consideration¬ї [2], [3. P. 97; 4. P. 247]. ¬Ђ–Ч–∞–±–Њ—В–∞¬ї –≤ –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –Є –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Ї–ї—О—З–µ, –Ї–∞–Ї –≤ —Д–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Є–Ї–µ –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї –њ–∞—В–µ—А–љ–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ —Б–ї–∞–±–Њ–Љ, —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Њ —А–µ–±–µ–љ–Ї–µ. –Ю–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –≤ —Н—В–Њ–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —В–∞–Ї: –µ—Б–ї–Є p -–њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –і–ї—П q, —В–Њ –і–ї—П q –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ p –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ, –∞ –љ–µ –њ—А–Є–≤—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ p —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П q –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є–ї–Є –љ–µ –±—Л—В—М –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –Љ–Њ–ґ–µ—В –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –Є–ї–Є –љ–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П2. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–ї–Є –Ї—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —П–≤–ї—П—В—М—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є 1 ¬Ђ–Т—Б–µ —В–µ, –Ї—В–Њ –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є –і—Г—И–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В —В–µ–ї–∞, –∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ—В –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–≥–Њ , —В–µ –ї—О–і–Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ - —А–∞–±—Л ¬ї [1, 1254b 15]. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ —Б–Љ.: [1, 1254–∞15] - —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ —А–∞–±–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –ґ–Є–≤—Л—Е –Њ—А—Г–і–Є–є. 2 –Ъ–∞–љ—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ (Achtung) –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–ґ–µ –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–Њ–є –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ. –Я–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ъ–∞–љ—В–∞, ¬Ђ—Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Є—В–∞—О—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –ї—О–і—П–Љ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Є—В–∞—О—В –Ї –≤–µ—Й–∞–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Њ–Ј–±—Г–ґ–і–∞—В—М –≤ –љ–∞—Б —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ (–ї–Њ—И–∞–і–Є, —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –Є —В.–і.), –і–∞–ґ–µ –ї—О–±–Њ–≤—М –Є–ї–Є –ґ–µ —Б—В—А–∞—Е, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–µ, –≤—Г–ї–Ї–∞–љ, —Е–Є—Й–љ—Л–є –Ј–≤–µ—А—М, –љ–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±—Г–і—П—В –≤ –љ–∞—Б —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П¬ї [5. P. 187]. –Ф–ї—П —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–∞–≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –Я–Є—В–µ—А –°–Є–љ–≥–µ—А, –Є–ї–Є –і–ї—П —Н—В–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л, –Ї–∞–Ї –Р–ї—М–і–Њ –Ы–µ–Њ–њ–Њ–ї—М–і, —Б–Њ–±–∞–Ї–∞ –Є–ї–Є –Љ–Њ—А–µ, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –љ–Њ –љ–µ–Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –Љ–Њ—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Њ –і—А—Г–≥–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є (–≤ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ) –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—О –Ї —Н—В–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. 155 –Ґ—Г—А–Ї–Њ –Ф.–°. –≠—В–Є–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М –Њ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞, –Ї—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л1. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–µ –∞–≤—В–Њ—А –њ–Њ–њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л - —Б –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –ї–Є–±–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –ї–Є–±–Њ –Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л2. –Ы–Є—И—М —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ (1) —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л (—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є), –Є(–Є–ї–Є) (2) –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤, –Љ–Њ–≥—Г—В –≤—Е–Њ–і–Є—В—М –≤ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞—В—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ: –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ, —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–ї–∞–љ–Њ–≤. –≠—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П - —Н—В–Њ –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ —А–µ—Д–µ—А–µ–љ—В–∞—Е —В–∞–Ї–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤. –Я—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –Є –љ–µ –≤–ї–Є—П—О—В –љ–∞ –Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л, –љ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞ –і–ї—П —Н—В–Є–Ї–Є, –∞ –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–Є –≤—Е–Њ–і—П—В, –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є. –Ф–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Ј–Є—Б –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б—Г–±—К-–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є —Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–Є —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–µ–±—Г—О—В –Њ—В –љ–∞—Б –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П ¬Ђ–±–Њ–ї–µ–µ, —З–µ–Љ¬ї –Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е - —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, –Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Є–ї–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є (—Н—В–Є–Ї–∞ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л). –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—Е —Н—В–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В—А–µ–±—Г—О—В –Њ—В –љ–∞—Б –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П ¬Ђ–Љ–µ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ¬ї –Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е - –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—П—Е, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ—Л—Е –≤ —Г–Ј–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ (–Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–Є–ґ–µ). –Ш—В–∞–Ї, –љ–∞—И —В–µ–Ј–Є—Б —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є: –љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ-—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л, –µ—Б–ї–Є –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ (1) —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л (—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є), –Є(–Є–ї–Є) (2) –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ (—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–µ–є). –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–µ–Љ—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Н—В–Њ—В —В–µ–Ј–Є—Б –Њ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —В—А–Є –Љ–Є—А–∞: A. –Ь–Є—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞. B. –Ь–Є—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В. C. –Ь–Є—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В, –љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М ¬Ђ–∞–Ї—В–∞–љ—В—Л¬ї3. –Ь–Є—А –Р - –љ–∞—И –Љ–Є—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ–µ, –Љ–Њ—А–∞–ї—М –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –≤ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є. –Ь–Њ—А–∞–ї—М —А–µ–≥—Г–ї–Є—А—Г–µ—В –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г —З–ї–µ–љ–∞–Љ–Є —Н—В–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤. –Э–∞—И —В–µ–Ј–Є—Б –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б–ї–Є –Љ–Є—А –Р –њ–µ—А–µ–є–і–µ—В –≤ –Љ–Є—А –Т (–≤—Б–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ, –≤—Л–Љ—А—Г—В) –Є–ї–Є –° (–≤—Л–Љ—А—Г—В –≤—Б–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л), –ї—О–±—Л–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—В–µ—А—П—О—В —Б–Љ—Л—Б–ї. –Ь–Є—А –Т - —Н—В–Њ (1) –Љ–Є—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ–ї–Є–њ—Б–Є–Ј–Љ –Є—Б—В–Є–љ–µ–љ; (2) –Љ–Є—А, –≥–і–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —В–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –С–Њ–≥; (3) —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ (–µ—Б–ї–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л - —Н—В–Њ –ї—О–і–Є). –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б–µ–ї—М–љ–Є–Ї –Љ–Є—А–Њ–≤ —В–Є–њ–∞ –Т –љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б–≤—П–Ј–∞–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Г–і–µ—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В —В–∞–Ї–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л. –Ь–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–Њ–і—Г—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–і–Є–љ–Њ—З–Ї–∞, –±—Г–і—Г—В —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В—М –њ—Г—Б—В—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л. 1 –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Г —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–Љ—Б—П —Б –Ъ–∞–љ—В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і—М–Љ–Є, –∞ –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –≤—Б–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–Ј—Г–Љ–Њ–Љ –Є –≤–Њ–ї–µ–є –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–∞–ґ–µ –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Л—Б—И–µ–µ –Љ—Л—Б–ї—П—Й–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї [5. P. 148]. 2 –Ґ–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–Є–љ—В–µ—А–µ—Б¬ї –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤—Г–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ–Є –Є–Ј —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є. –£ –С–µ–љ—В–∞–Љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–µ—Б–љ–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М—О (utility). –Я–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—А—П—В—М –ї–Є—И—М –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –ї–Є—Ж–∞—Е, —З–µ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞–µ—В, —В.–µ. —З—М–µ —Б—З–∞—Б—В—М–µ (happiness) —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є–ї–Є —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В—Б—П [6, I.2] –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤ –Ї–∞–љ—В–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Є–Ї–µ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –і–Њ–ї–≥–∞ —А–µ–Ј–Ї–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П ¬Ђ—З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г¬ї –Є–ї–Є ¬Ђ—Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г¬ї [5. P. 182], –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л—В—М –Ї—А–∞–µ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є (–Ї–∞–Ї –≤ —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–µ) –Ъ–∞–љ—В–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В –Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–њ–Њ—А—Г —Г—В–Є–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–Љ–∞ –Є –і–µ–Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Г–≤–µ–і–µ—В –љ–∞—Б –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —В–µ–Љ—Л –і–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є. 3 –≠—В–Є–Љ ad hoc —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –Љ—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –ї—О–±—Л–µ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В—Л, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ —Е–Њ—В—П –±—Л –Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Я—А–Є–Љ–µ—А—Л –∞–Ї—В–∞–љ—В–Њ–≤ - –ї—О–і–Є, —А–∞—Б—В–µ–љ–Є—П, –Є–љ—Д—Г–Ј–Њ—А–Є–Є, –С–Њ–≥ –Є —А–Њ–±–Њ—В—Л. 156 –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П / Social philosophy and philosophy of humanity –Ь–Є—А –° - –±–µ—Б—Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ—Л–є –Љ–Є—А ¬Ђ–∞–Ї—В–∞–љ—В–Њ–≤¬ї - –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ –Ї–∞–Ї (1) –Љ–Є—А –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е, (2) –Љ–Є—А –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–≤ –Є–ї–Є (3) –Љ–Є—А —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е –Ј–Њ–Љ–±–Є (–њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, —З—В–Њ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ, –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –Є –Ј–Њ–Љ–±–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—В—Б—П –љ–∞—И–Є–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞). –Э–∞—Б–µ–ї—П—О—Й–Є–µ —Н—В–Њ—В –Љ–Є—А –∞–Ї—В–∞–љ—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –Є —Н—В–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Ї–Њ–ї—М —Г–≥–Њ–і–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Є –њ—А–∞–≥–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –њ–Њ—А—П–і–Ї–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –Є –Ј–∞–њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л —Б –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –і–Њ—Б—В–Є—З—М –љ–µ–Ї–Њ–є —Ж–µ–ї–Є. –≠—В–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л - –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –±–µ—Б—Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ—Л–є –Њ–±—Й–Є–є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В (—Б—Г–њ–µ—А–Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В, –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –С–Њ—Б—В—А–Њ–Љ–∞ [3]) - –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±–ї–∞–і–∞—В—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –Ї —А–µ—И–µ–љ–Є—О –Ј–∞–і–∞—З, –Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В—Л –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є, —В–Њ –Є—Е –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –±—Г–і—Г—В –ї–Є—И–µ–љ—Л —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П. –Т –Ї–∞–љ—В–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞—Е –Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –±—Г–і–µ—В —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –љ–Њ –љ–µ –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Є–≤–Њ–Љ. –Ш–љ—В—Г–Є—Ж–Є—П –≤ —Н—В–Є—Е –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л—Е —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—П—Е –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –≤ –Љ–Є—А–∞—Е –Т –Є –° —Н—В–Є–Ї–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–∞, –Є–ї–Є –љ–µ –љ—Г–ґ–љ–∞. –Ю–љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Љ–Є—А–µ –Р, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –Є–Љ–µ—О—В —Б–Љ—Л—Б–ї –ї–Є—И—М –≤ –Љ–Є—А–µ, –≥–і–µ –µ—Б—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–µ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Л –Љ–Є—А–Њ–≤ –Р-–° –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞. –Я–Њ–Ї–∞ —З—В–Њ –Љ—Л –∞–њ–µ–ї–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–Љ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г —Н—В–Њ–є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є. –Ю–љ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ—А–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–Є, –µ—Б–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л. –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ R –Є —Б–ї—Г—З–∞–є –°, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О –њ—А–µ–і–Є–Ї–∞—В–Њ–Љ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–∞—И–µ–Љ—Г —В–µ–Ј–Є—Б—Г, –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В –Є–ї–Є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞. –Я—А–Є–Љ–µ–љ—П—П –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –Ї —Б–ї—Г—З–∞—О, –Љ—Л –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є—А—Г–µ–Љ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –Є –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ —Б–ї—Г—З–∞—О –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г. –Я1. –Т—Б–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ - –Ј–ї–Њ (R). –Я2. –Ъ–∞–Ј–љ—М –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞ (C) - —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ. –Т. –Ъ–∞–Ј–љ—М –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞ - –Ј–ї–Њ (–Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ J - —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ). –° –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –≤–Є–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ї–∞–Ї C(x): ¬Ђ–Ї–∞–Ј–љ—М –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞¬ї, ¬Ђ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М —Б–∞–Љ–∞—А–Є—В—П–љ–Є–љ–∞¬ї, ¬Ђ–њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ш—Г–і—Л¬ї –Є –њ—А–Њ—З–µ–µ. –Я—А–µ–і–Є–Ї–∞—В –° –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М n-–Љ–µ—Б—В–љ—Л–Љ. –Ш–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–∞–≤–Є–ї —В–Є–њ–∞ R –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –≤–Є–і–µ J[C(x)]. –Я—А–Є–Љ–µ—А - –≤—Л–≤–Њ–і –≤ —Б–Є–ї–ї–Њ–≥–Є–Ј–Љ–µ –≤—Л—И–µ. –Ф—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є–Љ–µ—А: ¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й—Г –≤ –±–Є—В–≤–µ - —Е–Њ—А–Њ—И–Њ¬ї (R). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П J –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —В–∞–Ї: –•–Њ—А–Њ—И–Њ [–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –≤ –±–Є—В–≤–µ (–°–Њ–Ї—А–∞—В, –Р–ї–Ї–Є–≤–Є–∞–і)] (¬Ђ–Я–Њ–Љ–Њ—Й—М –°–Њ–Ї—А–∞—В–∞ –Р–ї–Ї–Є–≤–Є–∞–і—Г [–≤ –±–Є—В–≤–µ] - —Е–Њ—А–Њ—И–Њ¬ї). –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є–љ—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О x –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ. –Ъ–∞–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є x? –Т–µ—А–љ–µ–Љ—Б—П –Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г R –≤—Л—И–µ: –Т—Б–µ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–∞ - –Ј–ї–Њ. J[C(x)] : –Ч–ї–Њ [–£–±–Є–є—Б—В–≤–Њ(—Е)]. (–∞) –Т–Љ–µ—Б—В–Њ x –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М: 1) —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞; 2) —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є –љ–µ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ–ї–µ–Ї–Њ–њ–Є—В–∞—О—Й–µ–µ; 157 –Ґ—Г—А–Ї–Њ –Ф.–°. –≠—В–Є–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є 3) —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є –Љ–Є–Ї—А–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ; 4) —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–є —А–Њ–±–Њ—В–∞, –Љ–∞—И–Є–љ—Г, –Є–ї–Є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В1. –° –Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –Љ—Л –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–Љ, –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—Б –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П (–∞). –Т –Њ–і–љ–Є—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ, –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е - –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ. –Ю–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є—Б—В–Є–љ–љ—Л–Љ, –µ—Б–ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Ј–∞–±–Њ—В—Л —В–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В —Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ–Њ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ, –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ—В –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Г–±–Є–є—Ж—Л. –Х—Б–ї–Є –Њ—В–±—А–Њ—Б–Є—В—М –Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Є–≤–Є–Ј–Љ, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –Њ–і–Є–љ —В–µ—А–Љ–Є–љ, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Љ—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П (–Ј–і–µ—Б—М —Н—В–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ 1), –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—П –і—А—Г–≥–Є–µ - —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ—Л –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ–µ–Љ (3, 4). –Я–Њ–і—Б—В–∞–≤–Є–≤ —В–µ—А–Љ–Є–љ (2), –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–Є–Љ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–њ–Њ—А–љ–Њ–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–µ. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В? –Т —З–µ–Љ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Њ–±—К–µ–Ї—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –Є —В–µ–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В? –Ь–Њ–є —В–µ–Ј–Є—Б –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ 1 -4 –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ - –љ–µ—В. –Э–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є - —А–µ—И–∞—О—Й–Є–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –ї–Є —Г –љ–∞—Б –±—Л—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Є –і–µ–ї–∞–µ—В –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П 1-4 –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–Љ–Є –Є–ї–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ –љ–Є—З—В–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П —Н—В–Є–Ї–Є. –Т–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ —Б—В–∞—В—М–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–Љ –Њ–±–Ј–Њ—А –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ—А–Є—В–µ—А–Є–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ—Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Л—И–µ, –і–ї—П –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤. –Я—А–µ–ґ–і–µ, —З–µ–Љ –Љ—Л —Б–Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤—Л–љ–Њ—Б–Є—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ –Њ–љ–Є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–Љ—Л –Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Г—О –≤ –њ—А–µ–і–Є–Ї–∞—В–µ –°(—Е). –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –≤–µ—Й–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є–Љ–µ—В—М –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –і–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, —З—В–Њ –ґ–µ —В–∞–Ї–Њ–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В. ¬Ђ–Я–Њ —Г–Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—О¬ї, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –љ–∞–Є–≤–љ–Њ–є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є, –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –ї—О–і—П–Љ –Є–ї–Є –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї –ї—О–і—П–Љ. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л (–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ-—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л) —Б–Њ–≥–ї–∞—Б—П—В—Б—П, —З—В–Њ –љ–∞ –Ч–µ–Љ–ї–µ –µ—Б—В—М –і—А—Г–≥–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –Ї—А–Њ–Љ–µ –ї—О–і–µ–є. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –≤–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –Ч–µ–Љ–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Г –љ–∞—Б –љ–µ—В —П—Б–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–Љ, —В–∞–Ї –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –Є–љ–Њ–њ–ї–∞–љ–µ—В—П–љ–∞–Љ–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤–∞–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–Є–њ–Њ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є: ¬Ђ–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Љ—Л —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ, —З—В–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В —В–Є–њ–∞ –Р –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, —З–µ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В —В–Є–њ–∞ –С?¬ї. –Ч–і–µ—Б—М –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —З–µ—В—Л—А–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ–∞–ґ–і–∞—П –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Ј–∞–і–∞–µ—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–µ, —В–∞–Ї–Њ–µ, –Њ—В–≤–µ—З–∞—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г, –љ–µ–Ї–∞—П –≤–µ—Й—М –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞. –Ю–љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –Њ—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–Є—П —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є - –Њ—В –±–Њ–ї–µ–µ —Н–Ї—Б–Ї–ї—О–Ј–Є–≤–љ—Л—Е –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–є –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –Є–љ–Ї–ї—О–Ј–Є–≤–љ—Л–Љ. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Н—В–Є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞. –Ю–љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ–Њ —В–∞- 1 –Э–∞ —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Г —А–∞—Б—И–Є—А–Є–Љ —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є–Ї—Г —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ¬ї –Є –±—Г–і–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ–Њ–і –љ–Є–Љ –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ–љ–Њ–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –∞–Ї—В–∞–љ—В–∞ (—В.–µ. –ї—О–±–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Е–Њ—В—П –±—Л –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є–µ–є). –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ ¬Ђ—Г–±–Є—В—М¬ї —А–Њ–±–Њ—В–∞, –Ј–Њ–Љ–±–Є, –Є–ї–Є –±–∞–Ї—В–µ—А–Є—О. 158 –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П / Social philosophy and philosophy of humanity –Ї–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г, –Ї–∞–Ї –≤–Є–і—Л –і—Г—И–Є —Г –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П: —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –≤ —Б–µ–±—П —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є –љ–Є–ґ–µ (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –Р –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞ —В–Є–њ–Њ–≤ –С, –Т, –У). A. –С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Є–ї–Є –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ, —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л - —В–∞–Ї–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л: (1) —Г—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –љ—Г–Љ–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —З–∞—Б—В—П–Љ–Є, –Є–ї–Є —Д–∞–Ј–∞–Љ–Є, —Б–≤–Њ–µ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є; (2) –Є–Љ–µ—В—М —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–ї–Є –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ —В–∞–Ї–Є–µ —Д–∞–Ј–∞—Е (—В.–µ. –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ —Б–µ–±–µ (—Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞–љ–Є–µ) –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–ѓ —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1988 –≥–Њ–і—Г¬ї); (3) –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П—В—М —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —Н—В–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П –≤ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–≤—П–Ј–љ—Л–µ –Ї–∞—Г–Ј–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є - –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤—Л. –Э–∞—А—А–∞—В–Є–≤–Є–Ј–Љ - –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞, –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є1. –С. –°–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—О—Й–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –Є–ї–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —Б ¬Ђ—Б–Є–ї—М–љ–Њ–є¬ї –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞2, - —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї —Б–µ–±—П. –Ъ–Њ—В–µ–љ–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≥–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Е–≤–Њ—Б—В–Њ–Љ, –Љ—Л—Б–ї–Є—В (–Є–љ—В–µ–љ–і–Є—А—Г–µ—В) —Б–µ–±—П, –љ–Њ –љ–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–µ–±—П3. –І—В–Њ–±—Л –±—Л—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ —Б —Б–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –±—Л—В—М —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–Њ –ѓ –Ї–∞–Ї —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ —Б –ѓ –Ї–∞–Ї –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ4. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —В–∞–Ї–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Љ—Л—Б–ї–Є—В—М —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї —Б—Г–±—К–µ–Ї—В –Є –Њ–±—К–µ–Ї—В –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –У –µ–ї–ї–∞–њ5 –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —В—А–∞–Ї—В—Г—О—В –∞–Ї—В —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—П —Б–µ–±—П –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–µ –Ї–∞–Ї –∞–Ї—В —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П: –ґ–Є–≤–Њ—В–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ (–ѓ-–Њ–±—К–µ–Ї—В) —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ–є (–ѓ-—Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ). B. –°—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —Б–Њ ¬Ђ—Б–ї–∞–±–Њ–є¬ї –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ - —Н—В–Њ ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ¬ї —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Д–Њ–Ї—Г—Б–Њ–Љ, –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є –Є–ї–Є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–ї–µ–≤—Л—Е –∞–Ї—В–Њ–≤. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –С–µ–є–Ї–µ—А, ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–µ—А—В–∞ —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–є (it is perspectival)¬ї6. –°—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—В —Б –Љ–Є—А–Њ–Љ, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б—П –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–µ - —В–Њ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П (–≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –ї—О–і–µ–є) –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Є–љ–і–µ–Ї—Б–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞. –° —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —Н—В–∞ –∞—Б–Ї—А–Є–њ—Ж–Є—П –њ—А–µ–і–Є–Ї–∞—В–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В —В–µ–Љ, —З—В–Њ –®—Г–Љ–µ–є–Ї–µ—А –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –Є–Љ–Љ—Г–љ–Є—В–µ—В–Њ–Љ –Ї –Њ—И–Є–±–Ї–µ –ї–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П (immunity to error through misidentification). –Ґ–∞–Ї, —Е–Њ—В—П —П –Љ–Њ–≥—Г –Њ—И–Є–±–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–∞ —А—Г–Ї–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–њ–∞–і–∞–µ—В –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, —Н—В–Њ –Љ–Њ—П —А—Г–Ї–∞, —П –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –Њ—И–Є–±–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–∞ –±–Њ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —П —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О - –Љ–Њ—П –±–Њ–ї—М. –Я–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞–ї—М–љ–∞—П —В–Њ—З–Ї–∞ –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В–Њ—З–Ї–∞–Љ –≤–Њ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –Ю–љ–∞ —Ж–µ–љ—В—А –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –Љ–Њ–µ–є –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –У. –Ь–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ–њ—Л—В–љ—Л–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л - –≤–µ—Й–Є, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–±—Л–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ, —В.–µ. —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ї–Њ—А—А–µ–Ї—В–љ–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞—В—М –Ї–∞–Ї–Є–µ-–ї–Є–±–Њ –Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П. –Ц–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ-–Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ- 1 –°–Љ.: [7]. –Ф–Њ –®–µ—Е—В–Љ–∞–љ —В–µ–Њ—А–Є—П –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Я–Њ–ї–µ–Љ –†–Є–Ї—С—А–Њ–Љ –≤ 5-–Љ –Є 6-–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞—Е —В—А–∞–Ї—В–∞—В–∞ ¬Ђ–ѓ-—Б–∞–Љ –Ї–∞–Ї –і—А—Г–≥–Њ–є¬ї [8. P. 113-168]. 2 –Ф–µ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ ¬Ђ—Б–Є–ї—М–љ—Л–є¬ї –Є ¬Ђ—Б–ї–∞–±—Л–є¬ї –≤–∞—А–Є–∞–љ—В—Л –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ы–Є–љ–љ –С–µ–є–Ї–µ—А. –°–Љ.: [9. P. 60-61]. –У–∞–ї–µ–љ –°—В—А–Њ—Б–Њ–љ [10. P. 101] –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В ¬Ђ—Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ¬ї —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –С–µ–є–Ї–µ—А –њ–Њ–ї–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ (full or express). –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –С–µ–є–Ї–µ—А, –°—В—А–Њ—Б–Њ–љ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є. 3 –Я—А–Є–Љ–µ—А –°—В—А–Њ—Б–Њ–љ–∞ [10. P. 101]. 4 –†–∞–Ј–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ, –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–µ –Ф–ґ–µ–є–Љ—Б–Њ–Љ –Ї–∞–Ї I-Me distinction [11] –Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–µ –Т–Є—В–≥–µ–љ—И—В–µ–є–љ–Њ–Љ [12. P. 66] –њ–Њ–і –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ ¬Ђ–Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –ѓ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞¬ї. 5 –°–Љ.: [13]. 6 [9. P. 62]. 159 –Ґ—Г—А–Ї–Њ –Ф.–°. –≠—В–Є–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В—М—О (sentience). –Ч–∞—Е–∞–≤–Є –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В —В–∞–Ї–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ—Л–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Є –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є - –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є1. –°—В—А–Њ—Б–Њ–љ2 —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ—В –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –≤ —А—Г—Б–ї–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞: –Ї–∞–Ї –µ–і–Є–љ–Є—З–љ—Л–µ –Є –њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –Њ–њ—Л—В–∞. –°–њ–µ–Ї—Г–ї—П—В–Є–≤–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –У - –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ; –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є. –°—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –Т -—А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–µ –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л–µ, —В–∞–Ї–Є–µ –Ї–∞–Ї –Љ–ї–µ–Ї–Њ–њ–Є—В–∞—О—Й–Є–µ. –°—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –С - —И–Є–Љ–њ–∞–љ–Ј–µ3, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –ї—О–і–Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є. –°—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –Р –Љ—Л —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є4. –С–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є - –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–ї–Є –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л. –Т —Ж–µ–љ—В—А —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л —В–∞–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –Њ–±—Л—З–љ–Њ –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В –і—А—Г–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є. –≠—В–Њ—В —Б—В–Є—Е–Є–є–љ—Л–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ –і–≤—Г—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞—Е, —Б–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –Є —Б–ї–∞–±–Њ–Љ: –°–ї–∞–±—Л–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ: –Ь–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є. –°–Є–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ: –Ь–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Ї–∞—Б–∞—В—М—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Ь–Њ–і–µ—А–љ–∞ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–µ –і–µ—В–Є —Б—З–Є—В–∞—О—В—Б—П –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ–Є ¬Ђ–і–∞–≤–∞—В—М –Њ—В—З–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е¬ї, —В.–µ., —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є –†–Є–Ї—С—А–∞, –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л ¬Ђ–Ъ—В–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В? –Ъ—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В? –Ъ—В–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О? –Ъ—В–Њ –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ?¬ї5. –≠—В–Є –ї—О–і–Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–ї–Є –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—В—М —Б–≤—П–Ј–љ—Л–µ –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Є—Е —З–ї–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Г—Б–µ–Ї–∞–µ—В—Б—П: –Њ–љ–Є –Њ—Б—В–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –љ–Њ —Б–∞–Љ–Є —В–µ—А—П—О—В –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞ —В–∞–Ї—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞—О—В –±—Л—В—М —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –ї—О–і–µ–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–Є–њ–∞–Љ–Є –С, –Т –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ –У. –Ф—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М —В–Є–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–∞. –Э–Њ –Є –љ–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–µ, –Є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–±–Њ–ї—М–љ—Л–µ - –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –≤ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–Є–Ї—В–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –Љ–ї–∞–і–µ–љ—Ж—Л –љ–µ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є (—Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –Р) –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –њ–Њ–ї–µ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л? –Э–∞—И–∞ —А–∞–±–Њ—З–∞—П –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≤–≤–Є–і—Г –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞. –°—Д–Њ—А–Љ—Г–ї–Є—А—Г–µ–Љ –µ–≥–Њ –≤ –і–≤—Г—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞—Е: 1 ¬Ђ–Ъ–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М¬ї, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ—Л –Є–Љ–µ–µ–Љ –і–µ–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—А–µ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –±—Л–ї–Њ –±—Л –ї—Г—З—И–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є, –∞ –Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–Ї –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є¬ї [14. P. 129]. 2 –°–Љ.: [10], [15]. 3 –°–Љ.: [13]. 4 –†–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ ¬Ђ—Б—Г–±—К–µ–Ї—В¬ї, ¬Ђ–ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М¬ї –љ–µ –Њ–±—Й–µ–њ—А–Є–љ—П—В–Њ–µ, –∞ –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –Њ—В –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Т –і–∞–љ–љ–Њ–Љ —В–µ–Ї—Б—В–µ ¬Ђ—Б—Г–±—К–µ–Ї—В¬ї –Є ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М¬ї —В—А–∞–Ї—В—Г—О—В—Б—П –Ї–∞–Ї —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ—Л, –∞ ¬Ђ–ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М¬ї -–Ї–∞–Ї —Б—Г–±—К–µ–Ї—В —В–Є–њ–∞ –Р. –°–љ–Њ—Г–і–Њ–љ [16] —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М (person) –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М (self) –Ї–∞–Ї —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ—Л. –Ч–∞—Е–∞–≤–Є [14. P. 129] –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В ¬Ђ–ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Ї–∞–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –і–ї—П –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї–µ–љ –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Љ–Є–љ–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–ї—Б–Њ–љ [17] –Є–Ј–±–µ–≥–∞–µ—В —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–≤ ¬Ђ—Б–∞–Љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ—Б—Г–±—К–µ–Ї—В¬ї. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —З–µ—А–µ–Ј –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–Є–Ј–Љ - –ї–Є—И—М –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–≤. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Б–Љ. –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –§—А–∞–љ–Ї—Д—Г—А—В–∞ [18]: –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М - —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –Є–Љ–µ—О—Й–µ–µ –≤—В–Њ—А–Њ–њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–≤—Л–µ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П (–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П—Е). 5 [8. P. 297]. 160 –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–∞—П –∞–љ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П / Social philosophy and philosophy of humanity –Т–Є–і–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–ѓ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Г—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –Њ –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Є–і–∞¬ї1. –Т–Є–і–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –ї—О–і–Є-—Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л —В–Є–њ–∞ –Р (–љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є) –Ј–∞–±–Њ—В—П—В—Б—П –Њ –ї—О–і—П—Е-—Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е —В–Є–њ–Њ–≤ –С –Є –Т. –Э–Њ –≤–Є–і–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –≥–µ–љ–Њ—Ж–Є–і —А–∞–Ј—Г–Љ–љ—Л—Е –Є–љ–Њ–њ–ї–∞–љ–µ—В—П–љ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ —А–∞—Б—Ж–µ–љ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –∞–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –і–Њ—А–µ—Д–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –µ—Б—В—М - –°—Г–±—К–µ–Ї—В–љ—Л–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–ѓ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Г—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –Њ —В–µ—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б—Е–Њ–і–љ—Л —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л¬ї. –Х—Б–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—О—В –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –і–µ—Б–Ї—А–Є–њ—В–Є–≤–љ—Г—О –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О: ¬Ђ–†–µ–∞–ї—М–љ–∞—П –Є–ї–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–∞ (1) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞, —З—В–Њ –Є –Њ–љ–Є, –Є (2) –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –ґ–µ —В–Є–њ–∞ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є, —З—В–Њ –Є –Њ–љ–Є¬ї. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –ї—О–і–Є –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б–ї—Г—З–∞–µ–≤ –±—Г–і—Г—В –њ—А–Њ—П–≤–ї—П—В—М –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ—Г—О –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Г—О –Ј–∞–±–Њ—В—Г –і—А—Г–≥ –Њ –і—А—Г–≥–µ –Є –≤—В–Њ—А–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ—Г—О - –Њ –љ–µ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–Є –љ–µ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е, –µ—Б–ї–Є –Њ–љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В). –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є–Љ —Н—В—Г –њ—А–Њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –≤ –і–µ–Њ–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–і–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М (¬Ђ–Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–±–Њ—В–Є—В—М—Б—П, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є—Е –љ–∞ –љ–∞—Б –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞—Е –Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е¬ї), –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Г –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –і–µ–є—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞, —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –њ–Њ —В–Є–њ—Г —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л –њ–Њ–Љ–µ—Й–∞—О—В—Б—П –Љ–љ–Њ–є –≤ —Ж–µ–љ—В—А –њ–Њ–ї—П –Љ–Њ–µ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –Њ—В—В–µ—Б–љ—П—О—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є—О. –Ъ—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–і—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В –љ–∞—Б –Ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–Љ –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є—П–Љ: –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є (—В–Є–њ –Р) –Є —З–µ—А–≤—П–Љ–Є (—В–Є–њ –У) –±–Њ–ї—М—И–µ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ, —З–µ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –Є –≤–љ–µ—И–љ–µ –љ–µ–Њ—В–ї–Є—З–Є–Љ—Л–Љ–Є –Њ—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –∞–љ–і—А–Њ–Є–і–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В —В–µ—Б—В –Ґ—М—О—А–Є–љ–≥–∞ (–њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –∞–љ–і—А–Њ–Є–і—Л, —А–∞–Ј –Њ–љ–Є –ї–Є—И–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–∞–Љ–Є –њ–Њ —Б–µ–±–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞–Љ–Є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л). –Э–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —В–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї –ґ–µ - –њ–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ - –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–љ–ґ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї—О–і–µ–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є—О —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–Њ–≤, –љ–Њ –Є –њ–Њ —Ж–≤–µ—В—Г –Ї–Њ–ґ–Є, –≥–µ–љ–і–µ—А—Г, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—О, —В.–µ. –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–µ—В –Є–і–µ–Њ-–ї–Њ–≥–µ–Љ—Л, —А–∞–Ј—А–µ—И–∞—О—Й–Є–µ –∞–Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П. –Я–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–∞—П –Ј–∞–±–Њ—В–∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ–≥–Њ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–∞, –∞ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Ж–≤–µ—В–∞ –Ї–Њ–ґ–Є - –љ–µ—В. –Э–Њ –і–µ–ї–Њ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є (—Б —Н—В–Є–Љ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–њ–Њ—А–Є—В—М), –∞ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞–µ—В —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤—Г –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Г –Њ—В–±–Њ—А–∞ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≤ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ2. 1 –Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–љ–Њ, –≤–Є–і–Њ–≤–Њ–є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А—П–Љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –°–Є–љ–≥–µ—А –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –≤–Є–і–Є–Ј–Љ–Њ–Љ (speciesism) - –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ –≤ —Г—Й–µ—А–± –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –і—А—Г–≥–Є—Е –≤–Є–і–Њ–≤ [3. P. 6]. 2 –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П–Љ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б–µ–љ—В–Є–µ–љ—В–Є–Ј–Љ - –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤ –њ–Њ–ї–µ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л –≤—Б–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ –Ї —З—Г–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є—О (sentience) [19-21]. –Э–Њ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В –≤–Њ–њ—А–Њ—Б, –љ–µ –±—Г–і–µ—В –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–є —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–Њ–Љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б—В–Њ–ї—М–Ї—Г, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ—Л –Њ–±–ї–∞–і–∞–µ–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О. 161 –Ґ—Г—А–Ї–Њ –Ф.–°. –≠—В–Є–Ї–∞ –Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ч–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Т –і–∞–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Љ—Л –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В—М –і–≤–∞ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —В–µ–Ј–Є—Б–∞: (1) –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–Є–µ –ї–Є–±–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В—Л, –ї–Є–±–Њ –Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Л; –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ —В–∞–Ї–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л (–Є–ї–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –њ—Г—Б—В—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–£–±–Є–≤–∞—В—М –ї—О–і–µ–є - –Ј–ї–Њ¬ї –≤ –Љ–Є—А–µ, –≥–і–µ –љ–µ—В –ї—О–і–µ–є), –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л –Є–ї–Є –ї–Є—И–µ–љ—Л –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П; (2) –њ–Њ–Є—Б–Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —Б—В–∞—В—М –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є —Н—В–Є–Ї–Є. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–µ–Ј–Є—Б–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—О —В–Є–њ–Њ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —В–Њ–Љ, –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г —Г—А–Њ–≤–љ—О –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В—М –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –љ–∞—И–µ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞–±–Њ—В—Л, –±—Л–ї –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ –Ј–∞ —Б–Ї–Њ–±–Ї–Є. –Т –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ –Љ—Л –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В—М, —З—В–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–∞—И–µ–є –±–∞–Ј–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є. –Ґ–∞–Ї, –µ—Б–ї–Є –±—Л –≤ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ –≤–∞–≥–Њ–љ–µ—В–Ї–Є –љ–∞ —А–µ–ї—М—Б–∞—Е –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–µ –њ—П—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –њ—П—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї, –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П, –≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, —Н—В–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–∞ –±—Л –±—Л—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є: ¬Ђ—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П¬ї, —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–њ–∞—Б—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б—В–Є –≤ –ґ–µ—А—В–≤—Г –њ—П—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї. –Ш–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–µ –Њ–±–∞ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–∞ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ - –≤–Є–і–Њ–≤–Њ–є –Є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–љ—Л–є - –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—М–љ—Л–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–љ–Њ–µ —Г—А–∞–≤–љ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞—И–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ ¬Ђ—А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≤–µ—И–Є–≤–∞–љ–Є—П –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤¬ї –Я–Є—В–µ—А–∞ –°–Є–љ–≥–µ—А–∞1) –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—В –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–є –≤–∞–≥–Њ–љ–µ—В–Ї–Є —Б —Б–Њ–±–∞–Ї–∞–Љ–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–∞ –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є—П –љ–µ–≤–µ—А–љ–∞, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞–і–∞—З–∞ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤ - –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ –ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—Г—В–Є - –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б—В–∞—В—Г—Б –љ–µ-—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–Є–≤–Њ—В–љ—Л—Е (–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–Њ–≤, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –Є–љ–Њ–њ–ї–∞–љ–µ—В—П–љ–µ –Є –∞–љ–і—А–Њ–Є–і—Л) –Ї–∞–Ї —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞, –Є–ї–Є –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–≤ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —Н—В–Є–Ї–Є.
–Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—М. –Я–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞. –Ь. : –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В, 2015. 318 —Б.
Gruen L. The Moral Status of Animals // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University, 2021. URL: https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/moral-animal/
Singer P. Animal Liberation. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 324 p.
Singer P. Practical Ethics. 3rd ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2011. 353 p.
–Ъ–∞–љ—В –Ш. –Ю—Б–љ–Њ–≤—Л –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –Ь–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –љ—А–∞–≤–Њ–≤. –Ь. : –Э–∞—Г–Ї–∞, 1995. 528 —Б.
Bentham J. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. London : Methuen, 1982. 343 c.
Schechtman M. The Constitution of Selves. Ithaca : Cornell University Press, 1996 169 p.
Ricoeur P. Oneself as Another. Chicago : University of Chicago Press, 1992. 363 p.
Baker L. Persons and Bodies: A Constitution View. Cambridge : Cambridge University Press, 2000. 248 p.
Strawson G. Selves: An Essay in Revisionary Metaphysics. Oxford : Oxford University Press, 2009. 448 p.
James W. The Principles of Psychologys. Cambridge ; London : Harvard University Press, 1983. 1376 p.
Wittgenstein L. The Blue and Brown Books. Oxford : Oxford University Press, 1958. 66 p.
Gallup G. Jr. Self-Recognition // The Oxford Handbook of the Self / ed. by S. Gallagher. New York : Oxford University Press, 2011. P. 80-110.
Zahavi D. Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person Perspective. Cambridge, Massachusetts : MIT Press, 2005. 265 p.
Strawson G. The Minimal Subject // The Oxford Handbook of the Self / ed. by S. Gallagher. New York : Oxford University Press, 2011. P. 253-278.
Snowdon J. The Self and Personal Identity // Central Issues of Philosophy / ed. by J. Shand. Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2009. P. 121-137.
Olson E.T. There is No Problem of the Self // Journal of Consciousness Studies. 1998. Vol. 5 (5-6). P. 645-657.
Frankfurt H.G. Freedom of the Will and the Concept of a Person // The Journal of Philosophy. 1971. Vol. 68, вДЦ 1. P. 5-20.
Linzey A. Sentientism // Encyclopedia of Animal Rights and Animal Welfare / ed. by M. Bekoff, C.A. Meaney. Westport, CT : Greenwood Press, 1998. 311 p.
Varner G. Sentientism // Companion to Environmental Philosophy / ed. by D. Jamieson & Ed. Malden. Massachusetts, USA : Blackwell Publishers Inc., 2001. P. 192-203.
Rodogno R. Sentientism, Wellbeing, and Environmentalism // Journal of Applied Philosophy. Feb. 2010. Vol. 27, вДЦ 1. P. 84-99.
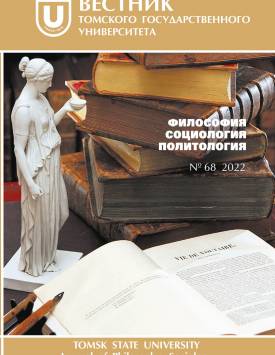

 –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О
–Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О