Предпринята попытка осмыслить генезис и специфику западноевропейской антропологии из философско-теологических проблем, решаемых в эпоху схоластики. Показано, что ключевая проблема универсалий, выражаемая в учениях номинализма и реализма, имеет мировоззренческое и соответствующее им антропологическое измерение. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Post-scholastic metamorphoses of Western European philosophical anthropology.pdf Проблемное поле антропологической темы видится в том, что современная философия постепенно утрачивает традиционное для нее деление на условно «идеалистические» и «натуралистические» учения. Многие идеалистические системы, например неокантианство, феноменология, экзистенциализм, собственно, философская антропология в лице своих представителей онтологически, при решении вопросов о природе сознания, психофизической проблемы, порой неявно, но придерживаются натурализма, редуцируя смысловой мир к природе. Создается впечатление, что идеализм обслуживает материализм. Но, говоря словами И. Канта из работы «Спор факультетов», «при этом все же остается открытым вопрос: несет ли эта служанка перед милостивой госпожой факел или шлейф позади нее» [1. С. 70]. Такая ситуация, как следствие, способствует сужению антропологических перспектив. Кроме того, в этом контексте, и в образовательном пространстве проявляется односторонность: доминирующей остается западная антропологическая парадигма -голос русской философско-религиозной мысли о человеке или, например, православной антропологии, остается приглушенным. Отсюда определяем цель данной статьи - выявить первоисточник западных антропологических учений, обозначить их теоретико-методологическую особенность, а также проследить тенденции развития новоевропейской и современной антропологии, критически отметить ее мировоззренческую специфику. В научном и академическом дискурсах современной философии, в ведущих европейских и отечественных учебных заведениях высшего образования воспроизводится антропология, разработанная отчасти античными классиками и, преимущественно, европейскими христианскими схоластами и философами. Корпус антропологической литературы, оформившейся в западноевропейской историко-философской традиции, велик. В нем отражаются базовые характеристики бытия человека. И в то же время, на наш взгляд, эта антропология во всем многообразии концепций имеет конкретный исторический источник: она произрастает из схоластического христианского миросозерцания (античная антропология входит в его состав). Именно в нем черпает она свои базовые онто-антропологические различия, идеи о генезисе и эсхатологии, методологические и этические формулы. Как замечает 166 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity С.С. Хоружий, «боговочеловечение - не что иное как утверждение тождества онтологии и антропологии. Христианство несло в себе мощный импульс антропологической переориентации всего мироотношения и мировоззрения» [2. С. 19]. Самые отвлеченные сциентистские, философские или теологические интерпретации бытия человека, имеющие место в современной философской традиции, являются прямым следствием богословско-философского решения ключевого для схоластики вопроса о богопознании, они несут на себе печать его стержневых исторически конституированных мировоззренческих и теоретико-методологических предпосылок. Как раз выявление философскоантропологических последствий схоластических трактовок богопознания, реалистической и номиналистической, из схоластического решения проблемы универсалий, является главной задачей исследования. На наш взгляд, специфика его решения в схоластике проявляется в трех онтологических характеристиках - в пантеизме, рационализме и натурализме, через которые произошло «выравнивание» бесконечно многообразного антропологического поля проблем. Следует заметить, что многие антропологические «аксиомы» современной научной и философской мысли, например «человек - разумное существо», «состав человека - разумная душа и тело», «богопознание - это процесс разумного познания» и т.д., стали возможны именно благодаря выработанной в средневековой философии аксиоматике и технике мысли, когда авторитет живой веры незаметно заменялся авторитетом веры, ищущей разумения, а затем и просто разумом. Методология, точнее сказать, вся педагогика схоластики, часто подменявшая собой исследование живого Бога и человеческой души технической интерпретацией Слова Божия, придерживалась системы строжайших условностей, являлась поистине ритуальным действием, исполнение которого было императивным (обязательным). Как невозможно изменить назначение человека, которое, согласно Фоме Аквинскому, состоит в том, чтобы «мы непрестанными усилиями интеллекта вынуждены искать, определять среди множества открывающихся нам благ те, которые соединили бы нас с Высшим Благом надежной связью» [3. С. 407], так невозможно и отменить глубокого разумения (логического толкования) Священного Писания. Именно это формальное философствование (буквалистский логицизм), а не содержательные различия учений схоластических школ, повлияли на позднейшее игнорирование и неприятие научным, прагматически настроенным сообществом многих философских выводов в сфере теологии и антропологии. Этим, казалось бы, «незначительным» в истории философии моментом - формализацией рассуждений о Боге - были вызваны и религиозный бунт Лютера, и научный бунт Галилея, и политикосоциальный бунт Маркса, подытожившим ход истории средневековых идей-штудий, что воплотилось в его знаменитом тезисе о Фейербахе: «Философы лишь различным способом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» [4. С. 4]. Схоластическое мышление, знаменателем которого являлась, в отличие от православного (ортодоксального) святоотеческого христианского подхода, философия, а не богодухновенное христианское Предание, предложило две известные трактовки опыта богопознания - номиналистическую и реалисти-167 Устименко Д.Л., Устименко А.Л. Постсхоластические метаморфозы западноевропейской философской ческую. Они связаны с проблемой универсалий. Номинализм (Д. Скотт, У. Оккам) учреждает теорию двух истин, проявляющуюся в деистическом мировосприятии, в интуиции непротиворечивости сосуществующих миров веры и разума, божественного и природного, что исторически все более и более декларирует себя в трех теоретических следствиях - в дуалистической философии, в признании антиномического статуса знания, с требованием невмешательства христианской доктрины в область «истинного» естественно-научного познания. При этом сакральная область объясняется сугубо в рациональном ключе. По крайней мере, в номинализме неясно, чем природа Бога принципиально отличается от духа человека. Различие между божественным нетварным и тварным бытием проводится непоследовательно: онтологический статус связи с божественным философски проясняется формально. И, естественно, для антропологии этот факт имеет непосредственное значение, полагая сущностное, бытийное положение человека в своих предельных, пограничных гранях невыясненным. Остается только естественное объяснение конституции человека. Как отмечает С. Неретина, «Дунс Скот сущим заполняет брешь между Божественным бытием и тварным миром. Заполнить брешь можно только чем-то однородным и однозначным, что он и признает за первым, нераздельным сущим. Это сущее однозначно, или унивокально, потому что приложимо и к тварному и к нетварному миру. Если несколько перефразировать М.К. Петрова, такое сущее „примысливается“ Богу как необходимый носитель общего Богу и человеку, исходя из сущностного порядка (ordoessen-tialis), который он понимает как „отношение сравнения (relatioaequiparentiae)“ между предшествующим и последующим» [5. С. 613]. Другими словами, фундаментальное онтологическое отношение между нетварным и тварным антропологически не разрешается - божественное и человеческое оказываются в принципе абсолютно разделенными, если не считать указанное интеллектуальное номиналистическое сообразование. И этот разрыв может или углубляться, или сокращаться, обусловливая соответствующую матрицу антропологических смыслов. Яркими представителями развития такой номиналистической антропологии являются практически все новоевропейские эмпирики: Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, плеяда французских материалистов и атеистов (А. Вольтер, Ж.Ж. Руссо) и следующий за этой «классикой» откровенный антропологический сциентистский натурализм эпохи XIX и XX вв. Например, по мнению эмпириков, в классификации наук богооткровенное учение произрастает из собственного отдельного «источника», который нужно признавать несомненно, и в то же время, наряду с этим «источником» -уже из естественного света разума вырастает древо естественных наук - естественной антропологии, физики, механики, астрономии, биологии. Приведем несколько цитат Бэкона: «Знание по его происхождению можно уподобить воде: воды либо падают с неба, либо возникают из земли. Точно так же и первоначальное деление знания должно исходить из его источников. Одни из этих источников находятся на небесах, другие - здесь, на земле. Всякая наука дает нам двоякого рода знание. Одно есть результат божественного вдохновения, второе - чувственного восприятия» [6. С. 209]; или: «пусть неразумно не смешивают и не путают они два различных учения - теологию и философию и их источники (latices)» [6. С. 94]; «Таким образом, мы можем заклю-168 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity чить, что источником священной теологии должны быть слово и пророчество божьи, а не естественный свет и не требования разума» [6. С. 538]. За этими, казалось бы, невинными дистинкциями авторитетного родоначальника новоевропейской философии и науки скрывается теоретическое, как следствие, мировоззренческое размежевание, следование правилу «кесарево кесарю, а Божие Богу», что в антропологическом смысле означает двуистинность, методологический дуализм, онтологическое разделение, проще говоря, противоречивое как бы присутствие двух учений о человеке. Это указывает на прагматизм и рационализм мысли, которой не хватает последовательной приверженности вере и желания выстроить единую целостную картину мира. Охраняя веру от науки, в какой-то момент она вообще затеняет ее или дает повод подчинить нормам научного мышления. Вера у номиналистов либо подчиняется разуму, либо поляризируется с разумом, сакрализируется, трансцендируется за антропологические пределы, наделяется характером абсолютной божественной силы. Одним из образцов антропологии первого варианта отношения веры и разума в номинализме является учение И. Канта, вырезающее из опыта человека онтологическое восприятие Бога, что, впрочем, не мешает ему с необходимостью усматривать в рассудке закон причинности, полагая абсолютную истинность естественно-научному познанию мира и человека. «Антропология с прагматической точки зрения» - это эмпирическое описание некоторых феноменов бытия человека, за которыми не просматривается никакой онтологической глубины [7]. В этой антропологии в принципе нет вертикали. Второй вариант может быть усмотрен, например, в философии Б. Паскаля и С. Кьеркегора. В антропологии последнего вера занимает исключительное положение, поскольку осуществляет подлинное, субъективное, рискованное, преодолевает «серьезность» разумного, открывает перед Богом внутреннюю экзистенцию: «...это вера в то, что как раз в страдании заключена жизнь. Поэтому решительнее и настойчивее она будет продвигаться в глубину. Если же религиозная речь косится на счастье мы имеем дело с халтурной работой» [8. С. 499]. Если, по Кьеркегору, в несчастье непосредственность испускает дух, то подлинно верующее, религиозное в страдании начинает дышать [8. С. 499]. Это потенция к идеализации антропологии вертикали, которая, все же, мучительно растормаживается в грубой реальности естественной жизни, особенно если опыт осуществления веры желает проявиться сам, без основы на церковную традицию. В целом, в социокультурном измерении такое потенцирование к вере, возвеличивание ее, в европейской, преимущественно в протестантской, мысли проявляется через рационализацию. Теперь обратимся к антропологическим коннотациям реалистической философии схоластики (И. Эриугена, А. Кентерберийский). Ее центральный смысловой лейтмотив - это идея тождества мышления человека и бытия Божия. Как замечает И. Эриугена, «И хотя сейчас, при отсутствии вышнего света, все еще скрыто, каково было бы первоначальное состояние человека после [содеянного] вероломства, тем не менее небесным сущностям по природе не присуще ничего, что сущностно не существовало бы в человеке» [9. С. 168]. Природа мышления оказывается онтологически единой с природой Бога. И поскольку природа Бога есть нечто для человека в принципе недоступное, то ее субстратность характеризуется в естественных человеческих 169 Устименко Д.Л., Устименко А.Л. Постсхоластические метаморфозы западноевропейской философской категориях. Если учесть, что сам Эриугена, в отличие от многих других схоластов, принимал учения Дионисия Ареопагита, Г ригория Нисского, Максима Исповедника, можно допустить, что он подразумевает ключевое в богословии различие между тварным и нетварным, но в своих трактатах он его не оговаривает, что философски ошибочно, и тем самым дает повод к последующему воспроизводству онтологического смешения. Рационалистическое онтологические уравнивание абсолютизирует человека, возвышая, возвеличивая его разумность до уровня Премудрости Божией, но ведь вопрос в том -на каком основании, в какой правильности богословской интерпретации производится такое отождествление. «Мои мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои, говорит Господь» (Ис. Гл. 55:8). Но авторитет Писания не останавливает схоластическую мысль. Идея тождества в математическом ключе обосновывается Н. Кузанским, ее подхватывают рационалисты Нового времени, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц, она путеводит мысли Ф. Шеллинга и Г. Гегеля, из нее исходит антропология М. Шелера, с ее аспектами «утаивания» и «господства» работает интуиция М. Хайдеггера. Разум человека возводится в Абсолют - то ли в субстанциальную полноту, то ли в Диалектическое Понятие, то ли в со-творца Бога, причем понятие Бога остается сквозной структурной категорией в реалистической антропологии. Наиболее откровенным рационализмом во всей истории философии отличается теология и антропология Г. Гегеля. Приведем несколько цитат из его Лекций о религии: «...сначала бог - нечто совершенно неопределенное; в ходе развития однако, постепенно складывается сознание того, что есть бог, оно все более теряет свою первоначальную неопределенность и тем самым развивается также и действительное самосознание» [10. С. 267]; «Дух есть знание . Путь и цель духа состоят в том, чтобы дух достиг своего собственного понятия . Пробил час религии откровения, которая долгое время была скрытой, не в своей истине» [10. С. 271]; «Сущность природы и сущность духа есть одно и то же» [10. С. 287]; «Непосредственное знание бога есть непосредственное знание предмета, обладающего абсолютной всеобщностью; тем самым непосредственен только продукт непосредственного знания; оно есть, следовательно, мышление о боге» [10. С. 297] и т.д. Естественно, спекуляция понятием «Бог» никак не гарантирует этой антропологической традиции никакого преимущества. Более того, этот совершенно некритический антропологический подход, на наш взгляд, является этически опасным. Он, во-первых, подразумевает рационалистическую самоуверенность, предвзятую субъектность, духовное самозванство; во-вторых, личностного трансцендентного Бога он заменяет пантеизмом, упраздняя онтологическую вертикаль, отождествляя Его с естественной природой; в-третьих, самого человека захлопывает в собственных философско-магических рациональных структурах и необходимостях, закрывая доступ к главному - Живому Богу, Творцу и истинной Энергии человека. Вопреки ожиданиям, реалистическая антропология, проявляясь в идеализме, провоцировала бескомпромиссную критику такой идеалистической самоуверенности (Д. Юм, Л. Фейербах, Ф. Ницше, О. Конт), развитие натуралистического позитивизма (Г. Спенсер) и материализма (К. Маркс). Масштабное эволюционистское движение в антропологии начинается именно в XIX в. в ответ на распространение отвлеченной, спекулятивной рациональной гегелевской теологии. Действительно, 170 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity происходит диалектика оборачивания: идеализм реалистической философии провоцирует расцвет обратной позиции - натурализма, эволюционистского объяснения антропогенеза с сопутствующими ему идеями транзитивности человеческого бытия и историчности его смысловой картины. В натурализме происходит критика христианства и уже последовательная релятивизация каких-либо устойчивых, открытых философией, конституций. Не дух, но телесность образует главный вопрос философской антропологии. В буквальном смысле ключевая гносеологическая проблематика, открывающая перспективу онтологическому структурированию, касающаяся вопроса об идеальном статусе разума человека, объясняется непременно в психофизическом - физическом ключе. Сознание - поток sensetions, чувственных данных. Биологически фундированные антропологии мы встречаем уже в учениях Х. Плеснера, Э. Кассирера, Г. Риккерта, Г. Зиммеля, А. Гелена. Среди авторов выпущенной в России в 1995 г. Антологии по современной европейской антропологии (Х.П. Рикман, А. Эспиноза, О. Дериси, Р. Цанер, Л. Фарре) нет ни одного философа, который бы не придерживался эволюционно-натуралистического подхода [11]. «Религиозно-материалистический» подход [12. С. 219-232], «феминистское богословие» (Э. Ш. Фьюренца, Р. Рутер, Л. Рассел) [13. С. 340-358] и, в целом, многие современные христианские антропологи также ориентированы открытиями естествознания, нейробиологии, осознанием тождества между понятием «души» и нейронным функционированием мозга, обоснованием значимости телесности. Ведущие теологи, такие, например, как Тейяр де Шарден [14], Г. Тайсен [15], И. Барбур [16], рассматривают человека и в целом библейское знание в эволюционной перспективе. Несмотря на наличие трансцендентальной проблематики стержневой взгляд на человека остается у большинства западных мыслителей материалистический. Пси-хофизизм в интерпретации сознания, свободно-волевой, творческой деятельности и в целом естественно-научный подход в понимании онтологии и, как следствие, телеологии и эсхатологии - таков общий повсеместный и, кажется, неоспариваемый ракурс представления современной академической антропологии. На самом деле, господствующая сегодня натуралистическая антропология не является чем-то принципиально новым, современно и научно обоснованным представлением о человеке. Внимательный ретроспективный взгляд, деконструирующий европейскую философско-антропологическую традицию, позволяет усмотреть, что логически и исторически современная антропология произрастает из теоретических установок, приобретших концептуальное, методологическое и мировоззренческое определение в эпоху схоластики, в результате выработки на основе античной философии концептуального отношения раннеевропейского человечества к христианской религии и, в частности, к опыту богопознания.
Кант И. Спор факультетов // Сочинения : в 8 т. М. : Чоро, 1994. Т. 7. 495 с.
Хоружий С.С. Фонарь Диогена. Критическая ретроспектива европейской антропологии. М. : Ин-т философии, теологии и истории св. Фомы, 2010. 688 с.
Жильсон Э. Философия в Средние века (от истоков патристики до конца XIV века). М. : Республика, 2004. 678 с.
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 3. Издание второе. М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1955. 630 с.
Неретина С., Огурцов А. Пути к универсалиям. СПб. : РХГА, 2006. 1000 с.
Бэкон Ф. Сочинения : в 2 т. / сост., общая ред. и вступ. ст. Л.Л. Субботина. М. : Мысль, 1971. Т. I. 590 с.
Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Сочинения : в 6 т. / под общ. ред. В.Ф. Асмуса и др. М. : Мысль, 1966.
Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» // Серен Киркегор / пер. с дат. Т.В. Щитцова. Минск : И. Логвинов, 2005. 752 с.
Иоанн Скот Эриугена «О разделении природы» // Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья) : в 2 т. Т.1 / под ред. С.С. Неретиной ; сост. С.С. Неретиной, Л.В. Бурлака. СПб. : РХГИ, 2001. 539 с.
Гегель Г.В.Ф. Философия религии : в 2 т. Т. 1 / отв. ред. А.В. Гулыга; пер. с нем. М.И. Левиной. М. : Мысль, 1975. 532 с.
Это человек: Антология / сост. и вступ. ст. П.С. Гуревича. М. : Высш. шк, 1995. 320 с.
Мерфи Н. Религиозная этика и современная антропология // Ответственность религии и науки в современном мире / под ред. Г. Гутнера. М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. 300 с.
Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы ХХ века : пер. а англ. Черкассы : Коллоквиум, 2011. 520 с.
Тейяр де Шарден П. Феномен человека: сб. очерков и эссе. М. : ACT, 2002. 533 с.
Тайсен Г. Библейская вера в эволюционной перспективе. М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 243 с.
Барбур И. Религия и наука: история и современность. М. : Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. 430 с.
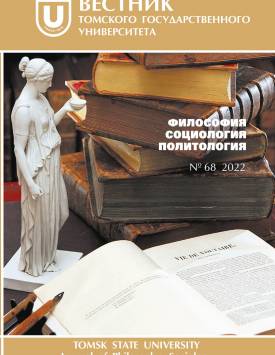

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью