Статья представляет собой ответ на рассуждение И.Т. Касавина о развитии науки и проблеме как источнике этого развития. Предлагается дополнение к истолкованию проблемы как формы знания. Проблема трактуется как выявленное разногласие и источник общественных взаимодействий. Демонстрируется конструктивность концептуальной связи проблемы и пограничного объекта. Утверждается, что такое расширение смысла проблемы позволяет во-первых, ответить на критику относительно идеи прогресса в науке, во-вторых, дополнительным образом обосновать существование науки как общественного блага, в-третьих, представить в более реалистичном ключе перспективы науки. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Science in perspective: From utopia to reality.pdf Внимание к перспективам научного развития формально объединяет различных общественных субъектов - представителей политической власти, публики и научного сообщества, собственные интересы которых относительно науки различны. Однако, как справедливо отмечает в своем тексте Илья Теодорович Касавин, эффект от их согласованных действий чаще всего оказывается конструктивным. Конструктивность становится более очевидной, когда сами ученые отвечают на вопрос о рациональных способах управления научными исследованиями, формируют критерии оценки научной результативности, раскрывают проблемы и аспекты идеи научного прогресса, предполагающей возможность универсального определения перспектив развития і науки . Несмотря на критику, сопровождающую идею прогресса на протяжении всей ее истории, начиная с эпохи французского Просвещения и не заканчивая ситуацией постмодерна, она остается не только релевантной, но и необходимой относительно науки. Можно вспомнить случай известного английского историка Г. Баттерфилда, заклеймившего коллег по ремеслу за склонность к прогрессистской историографии (Whig history), но при этом написавшего работу о происхождении новоевропейской науки (The Origins of Modern Science 1300-1800) полностью в соответствии с критикуемым им образцом, утверждая тем самым, что только история науки может быть прогрессивной [1]. В чем причины такой концептуальной устойчивости? Представляется, что здесь имеет значение востребованность идеи, необходимость определенного суждения о перспективах науки для самих ученых, отвечающих на вопрос «что делать?», для управляющих наукой администраторов, решающих, что в науке оценивать и какие исследования финансировать, а также для публики в целом, в той или иной степени интересующейся тем, за что науку можно ценить. Можно ли, реагируя на такую востребованность, учесть критику, относящуюся по преимуществу к избирательному характеру критериев прогресса, включающих субъективные оценочные суждения, редуцирующих полноту знания и различия познающих? Можно ли определить условия согласованных действий, а также пересечения интересов различных общественных субъектов в ответе на вопрос о том, что определяет перспективы науки? Своей статьей Илья Теодорович включается в дискуссию о прогрессе и возможной определенности перспектив науки, рассуждая с позиции ученого, 1 Ряд актуальных проблем в определении научного прогресса представлен в недавних публикациях [2, 3]. 230 Монологи, диалоги, дискуссии /Monologues, dialogues, discussions которая оказывается не только ближайшей для нас, но и первой по природе, коль скоро именно с этой позиции может быть обнаружен источник когнитивной свободы, обеспечивающий развитие науки. Таким источником оказывается проблематизация как способность ставить вопросы, обнаруживать конфликт онтологических допущений, работа над которым представляет собой содержание фундаментального научного исследования [4. С. 9]. Следует согласиться с предлагаемой трактовкой проблемы как формы знания, обусловливающей развитие науки: выявляемые проблемой внутренние несоответствия или неполнота знания мотивируют работу над их преодолением. Более того, как пишет Илья Теодорович, можно указать на субъекта такой формы знания, на новый социальный тип ученого прекария, не связанного институциональными обязательствами, «расшатывающего» основания «нормальной науки», вносящего исследовательскую провокационность и даже революционность в каждый проект. Такой ученый благодаря своей способности переступать институциональные и эпистемические границы во многом подобен философу. Однако если во второй половине XX в. последнее соображение, высказанное Т. Куном в адрес К. Поппера, позволяло усомниться в такой характеристике деятельности как научной, то сегодня, в изменившихся условиях возрастающей академической мобильности, обеспечиваемой в том числе цифровыми коммуникативными технологиями, такой образ ученого более чем адекватен. Предложенный Ильей Теодоровичем тезис об определении перспектив науки хотелось бы дополнить в двух аспектах, тем самым предложив пути работы над реализацией отчасти утопического будущего науки как общественного блага. Первое дополнение относится к возможному распределению позиции, взятой в качестве основы обсуждения перспектив науки. Не отрицая ведущей роли ученых при определении источников развития науки, можно акцентировать внимание на том, что когнитивная свобода научной деятельности есть возможность начала причинного ряда не только в теоретическом, но и в практическом смысле. Ведь на основании научных выводов совершенствуются технологии, производятся жизненно важные продукты, принимаются решения в социально-политической сфере и т.п. Что же позволит нам отличить будущее, выстраиваемое посредством причинного ряда на основании научной когнитивной свободы, от технократической утопии, где всесилие научного разума замещает собой рациональность политической власти? Илья Теодорович говорит о способности воображения ученого, расширяющей горизонты его научного понимания предметной сферы. Возможно, эта способность подготовит реализацию иного, не технократического будущего, если обеспечиваемое ею расширение приведет к признанию суждений относительно науки различных познающих и действующих субъектов? Более того, не будет ли такое признание позиции Другого свидетельствовать о действительной незаинтересованности суждения ученого? Представляется, что роль ученых и реализация их когнитивной свободы могут состоять в том числе в том, чтобы обнаружить источник развития науки как гетерогенный, оставляющий место для интересов различных субъектов, в том числе в вопросах организации исследований и управления ими. Что может быть условием такого распределения позиции? 231 Шиповалова Л.В. Наука в перспективе: от утопии к реальности Ответом на этот вопрос будет мое второе дополнение, развивающее смысл проблемы, о котором пишет Илья Теодорович. Проблема как форма знания демонстрирует противоречия в основаниях исследования. Однако любое основание - будь то исследовательский подход, определенность научной темы (в духе Дж. Холтона) или образ науки - репрезентирует конкретный интерес, сообщество, субъекта знания и действия. Соответственно, проблема, если осуществить поворот к субъекту в ее раскрытии, предстает как концептуализация выявленного разногласия и, как таковая, оказывается условием коммуникации между различными субъектами, поскольку когда речь идет о проблеме, присутствующее в ней противоречие не разрешается отрицанием одной из сторон. Напротив, решение проблемы предполагает установление дополнительности и даже взаимодействия. При этом динамический характер проблемы сохраняется, но ее эпистемологическая определенность дополняется социальной, включающей ее в практики коммуникации или общения тем более сложно организуемые, чем менее возможен консенсус между их участ- і никами . Можно привести примеры такого функционирования проблемы. Так, в случае проблематизации образа науки как объекта управления обнаруживается противоречие наукометрической и качественной экспертной оценки научного знания. Соответственно, как в самой экспликации проблемы, так и в ее решении могут и должны быть задействованы различные субъекты: администраторы, осуществляющие научную политику и нуждающийся для этого в простых и прозрачных критериях научной результативности, выраженных в числе; специалисты в области наукометрии, основания которой были заложены трудами В.В. Налимова, разрабатывающие адекватные критерии оценки науки как информационного процесса; ученые-эксперты, обосновывающие объективный характер качественной экспертизы, например, в ситуациях оценки актуальности и выполнимости научных проектов. Также условием взаимодействия субъектов управления наукой и самих ученых может быть проблема, выраженная противоречием между требованиями эффективности и признанием автономии научных исследований. Ученые, признавая релевантность «внешнего» для них требования эффективности и ее наукометрического просчета как средства управления наукой, включаются в работу над обоснованием границ этого требования, его вариативности для различных направлений исследований, его частичной релевантности для самих ученых. Управляющие наукой субъекты в ситуации необходимости опережающего финансирования исследований вынуждены доверять научному экспертному сообществу предварительную качественную оценку значения и реализуемости научных проблем, представленных к решению, признавая тем самым автономию ученых. Таким образом проблема, концептуализирующая разногласия между сообществами, заинтересованными в управлении наукой (субъектами власти и самими учеными), обусловливает коммуникации между 2 ними . Проблема может служить условием включения в коммуникацию науки с властью также и публики в тех случаях, когда ученые ставят в фокус своего научного интереса вненаучные проблемы, непосредственно волнующие раз- 1 В проблематичности научного общения в отсутствие общих норм см.: [5]. 2 О концептуализации такой проблемы управления наукой см.: [6]. 232 Монологи, диалоги, дискуссии /Monologues, dialogues, discussions личных общественных субъектов - климатические изменения, трансформацию политических режимов, социальную несправедливость, загрязнение окружающей среды отходами промышленного производства и т.п. В таких исследованиях, имеющих принципиально междисциплинарный характер, формулировка научных проблем допускает участие в дискуссиях или представление в них интересов ненаучных субъектов, непосредственно испытывающих на себе последствия решений. Например, в период пандемии COVID-19 обсуждение и принятие конкретных мер по предотвращению распространения вируса осуществлялось в контексте ценностного противоречия заботы о здоровье и о соблюдении гражданских свобод, в частности свободы на передвижение и мирные собрания. Такое противоречие представляет собой проблему, коль скоро пренебрежение одной из его сторон недопустимо. Именно ученые, специалисты в области социальных наук, могут отчетливо сформулировать такую проблему [7]. Концептуализация разногласия между субъектами, поддерживающими стороны противоречия, демонстрирует, что для решения проблемы (теоретического и практического) требуется сознательное участие не только ученых, но и субъектов власти, а также граждан, поскольку, в данном случае, присутствие ответственного решения граждан, принимающих на себя ограничивающие обязательства, дополняет заботу о здоровье реализацией ценности свободы. В случае же авторитарного политического решения, более или менее обоснованного научной экспертизой, ценность свободы оказывается ущемленной. Близкая проблема связана с процедурами «цифрового контроля» над гражданами, с одной стороны, обусловленного требованиями безопасности, но, с другой - провоцирующего ущемление прав тех, кто оказывается только объектом сбора информации, но не субъектом распоряжения ею. Решения по поводу цифрового контроля могут быть адекватными и эффективными, когда граждане сознательно включаются в их реализацию. Условием такого включения становится коммуникация по поводу и в контексте сформулированной учеными проблемной альтернативы безопасности и справедливости в распределении права на владение информацией. Таким образом, проблема может быть рассмотрена не только как форма научного знания, включающая конфликт онтологических допущений в качестве источника научного прогресса, но и как условие научной (профессиональной и публичной) коммуникации. Второй дополнительный смысл проблемы как выявленного разногласия дополняет первый, акцентируя различие интересов субъектов, представляющих стороны противоречия. Так проблема становится «пограничным объектом» (boundary object), обусловливающим научную коллаборацию в ситуации принципиального многообразия участников и отсутствия консенсуса [8]. Какое значение имеет предлагаемая мною концептуальная связь проблемы и пограничного объекта? Во-первых, пограничный объект определяется как вещь или положение дел (материальность пограничного объекта производна от его действенности и не является предпосылкой), обладающие интерпретативной гибкостью и в силу этого опосредующие взаимодействия между различными, сообществами, «социальными мирами». Проблема в качестве пограничного объекта представляет субъектов разногласия как возможных участников взаимодействия, репрезентируя в качестве необходимых их различающиеся интересы. Во-вторых, погранич-233 Шиповалова Л.В. Наука в перспективе: от утопии к реальности ный объект организует переход от реальных конфликтов с аутсайдерами и более или менее открытого отрицания позиции Другого к реализации союзов и совместной работе [8. P. 615]. Проблема как пограничный объект посредством концептуализации разногласия создает на теоретическом уровне условия для практической коллаборации. В-третьих, проблема как форма знания служит источником прогресса в науке, но если она трактуется при этом также как выявленное разногласие и пограничный объект, то прогресс теряет свой характер избирательности и субъективности. Напротив, его маркером становится возрастание когнитивного разнообразия, актуализация новых точек зрения на научный предмет и на саму науку, в конечном итоге реализация науки как общественного блага1. В завершение важно отметить, что пограничные объекты могут как формироваться спонтанно, так и быть предметом рефлексивной практики ученого, условия для которой создаются эпистемологической работой по раскрытию смысла проблемы. Именно во втором случае оценка и формирование перспектив развития науки становятся более реалистичными, а возможности научного будущего сохраняются в своей открытости.
Alvargonzalez D. Is The History of Science Essentially Whiggish? // History of Science. 2013. Vol. 51 (1). P. 85-99.
Antonovskiy A.Yu., Barash R. Ed. The Evolutionary Dimension of Scientific Progress // Social Epistemology. 2021. DOI: 10.1080/02691728.2021.2000662
Kasavin I.T. Conceptualizing Scientific Progress Needs a New Humanism // Social Epistemology. 2021. DOI: 10.1080/02691728.2021.2004468
Касавин И.Т. Проблема как форма знания // Эпистемология & философия науки. 2009. Т. XXII, № 4. С. 5-13.
Пружинин Б.И., Щедрина Т.Г. Культурно-историческая эпистемология и перспективы философии науки // Эпистемология и философия науки. 2021. Т. 58, № 2. С. 19-26.
Биргер П.А., Дмитриев И.С., Куприянов В.А. Научная эффективности в работе: инструмент или оружие. СПб. : Фонд развития конфликтологии, 2017. 196 с.
Rainey S., Mormina M., Lignou S., Nguyen J., Larsson P. The Post-Normal Challenges of COVID-19: Constructing Effective and Legitimate Responses // Science and Public Policy. 2021. Vol. 48 (4). P. 592-601.
Star S.L. This is Not a Boundary Object: Reflections on the Origin of a Concept // Science, Technology, & Human Values. 2010. Vol. 35 (5). P. 601-617.
Столярова О.Е. Наука и идеалы гуманизма // Вестник Томского государственного университета Философия. Социология. Политология. 2021. № 60. C. 248-253.
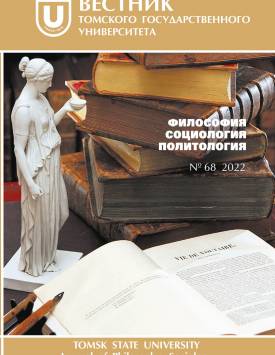

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью