Метафора и соотношение семантики и прагматики у Аристотеля
Рассматриваются историко-философские истоки анализа метафоры у Аристотеля в аспекте проблемы соотношения семантики и прагматики. Утверждается, что для успешной интерпретации метафоры у Аристотеля требуется знание объектов внешнего мира. Предлагаются два варианта семантической теории метафоры Дж. Штерна и Э. Борг, делается вывод, что наиболее близким Аристотелю является вариант Э. Борг. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Metaphor and the semantics-pragmatics interface in Aristotle.pdf Одним из феноменов, демонстрирующих контекстную зависимость выражений естественного языка, является метафора. Предложения, у которых помимо буквальной интерпретации есть еще и метафорическая, выражают как минимум две различные пропозиции и могут иметь разные условия истинности в зависимости от контекста употребления. Первым относительно развернутое изложение того, что такое метафора, представил Аристотель. Метафора для него - один из видов имен, которые являются составными элементами речи [1. 1457Ь20]. Этот вид имен Аристотель называет переносным, т.е. имя используется в речи в результате переноса значения с какого-либо другого имени. Он отмечает, что подобный перенос может осуществляться одним из четырех способов: с рода на вид, с вида на род, с вида на вид и по аналогии [1. 1457Ь6-9]. Однако наиболее близким к современному представлению о метафоре является только последний тип, который Аристотель описывает следующим образом: «А „по аналогии“ - здесь я имею в виду [тот случай], когда второе так относится к первому, как четвертое к третьему, и поэтому [писатель] может сказать вместо второго четвертное и вместо четвертого второе. Иногда к этому прибавляется и то [слово], к которому относится подмененное: например, чаша так относится к Дионису, как щит к Аре-су, поэтому можно назвать чашу „щитом Диониса“, а щит - „чашей Ареса“; или, [например], старость так [относится] к жизни, как вечер к дню, поэтому можно назвать вечер „старостью дня“ а старость - „вечером жизни“ или „закатом жизни“» [1. 1457Ы7-24]. Подобные метафоры по аналогии позволяют в речи «представлять вещь наглядно» [2. 1411Ь25] с целью помочь слушающему приобрести более ясное 111 Козырева О.А., Гущин И.А. Метафора и соотношение семантики и прагматики у Аристотеля представление об этой вещи [2. 1405а9]. Такое представление сродни новому знанию о вещи, которое появляется у услышавшего метафору [2. 1412a19-25]. Для того чтобы метафора успешно выполняла свою так называемую когнитивную функцию [3. P. 40-41], тот, кто осуществляет высказывание с ней, должен «[уметь] подмечать сходное [в предметах]» [1. 1459a7-8; 2. 1412a10-11]. Так, для того чтобы назвать чашу щитом Диониса, а щит - чашей Ареса, следует обнаружить сходство свойств данных объектов (построить своего рода пропорцию: Дионис так относится к чаше, как Арес - к щиту) и провести аналогию между ними. В современных теориях метафоры в рамках аналитической философии языка, так же как и у Аристотеля, отмечается необходимость обращения к неязыковому миру объектов для интерпретации предложений с метафорами. Подобное обращение сразу ставит вопрос о соотношении семантического и прагматического видов знания, которыми должны обладать говорящий и слушающий, чтобы их коммуникация с использованием метафоры оказалась успешной. Несмотря на многообразие подходов к объяснению метафоры1, мы придерживаемся идеи того, что это объяснение должно даваться в рамках формальной семантической теории естественного языка, поскольку метафора сама является феноменом последнего. Соответственно, наиболее продуктивными нам представляются подход Дж. Штерна и подход Э. Борг, изложенные в статье. В заключение мы определим, какой из этих подходов сохраняет наибольшую преемственность с концепцией метафоры Аристотеля. Семантико-прагматический подход Дж. Штерна Для объяснения интерпретации высказывания с метафорой Дж. Штерн предлагает теорию в духе семантики Д. Каплана для индексикалов и демон-стративов, поскольку их формальные структуры совпадают с формальной структурой метафоры. Так, значение метафоры имеет два уровня - содержание и характер, который представляет собой функцию от контекста высказывания к содержанию. Контекст - это ситуация, в которой происходит высказывание, он задается четырьмя параметрами: агентом, делающим высказывание, временем, местом и возможным миром, где происходит высказывание. Пропозициональное содержание зависит от контекста, поэтому для высказываний с метафорами его нельзя зафиксировать, а вот характер, представляющий правило приписывания значения выражению в любом из контекстов, у высказываний с метафорами есть. Задача семантической теории метафоры, согласно Дж. Штерну, состоит в том, чтобы дать формальное определение таким правилам. По аналогии с оператором Д. Каплана Dthat Дж. Штерн предлагает оператор Mthat для некоторого выражения Ф, представляющий собой функцию от множества контекстуальных пресуппозиций, принимаемых участниками 1 Одна из наиболее традиционных классификаций предполагает разделение на семантический и прагматический подходы, яркими представителями которых выступают Дж. Штерн [4] и Дж. Сёрль [5] соответственно. Однако нельзя не упомянуть выделяющуюся на фоне этих и некоторых других подходов (например, интеракционизма М. Блэка [6], тематического контекстуализма уже упомянутого М. Леженбера) позицию Д. Дэвидсона, согласно которой у метафоры в принципе отсутствует значение, а предложения типа «чаша есть щит Диониса» имеют только буквальное прочтение [7]. 112 История философии /History of philosophy коммуникации, к множеству свойств, которые m-связаны (т.е. имеют связь c метафорически интерпретированным выражением) с Ф в данном контексте: (Mthat) Для любого контекста c и для любого выражения Ф (прямое) вхождение «Mthat^]» в предложение S (=...Mthat^]...) в c выражает множество пропозиций P, которые являются m-связанными с Ф пресуппозициями в c так, что пропозиция либо истинна, либо ложна в условиях c [4. P. 115]. Формальная интерпретация предложения «чаша есть щит Диониса» выглядит так: «чаша есть Mthat^nr Диониса]». В результате действия Mthat на Ф («щит Диониса») мы получаем не пропозицию «чаша есть средство индивидуальной защиты от оружия, принадлежащее Дионису», которую получили бы в отсутствии Mthat, а множество пропозиций типа «чаша есть символ Диониса», «Диониса часто изображают с чашей» и т.д. Свойства, которые приписываются чаше в каждой из пропозиций, m -связаны с Ф и встречаются в определенном контексте c - например, при обсуждении пантеона древнегреческих богов. Участники коммуникации разделяют между собой пресуппозиции о том, кто такой Дионис, у кого из богов имеется щит и т.д., и поэтому способны m-связать свойства, приписываемые чаше, с Ф. Однако этого семантического правила недостаточно для того, чтобы понять конкретную метафору в конкретном контексте употребления. Семантическая теория дает не алгоритм интерпретации для каждого возможного контекста, а только представление об универсальной форме этой интерпретации. Mthat дает общую форму метафорической интерпретации любых высказываний, а m-связанность свойств с метафорически интерпретируемым выражением выходит за пределы правил языка и относится к прагматике (особенно это касается пресуппозиций участников коммуникации). Соответственно, из-за контекстной зависимости метафор зафиксировать их значение можно только в смысле характера, но не содержания. В связи с этим Дж. Штерн утверждает, что для метафорической интерпретации конкретного высказывания семантическое знание должно быть дополнено прагматическим. Если на долю семантики выпадает прояснение правил языка (характеров выражений), которые помогают дать «характеристику истинности предложения относительно контекста» [4. P. 15], а семантическое знание - это знание о том, какие правила позволяют правильно проинтерпретировать бесконечное число языковых выражений, то на долю прагматики остается объяснение того, как применять семантическое знание в различных контекстах [8. P. 690]. Таким образом, прагматическое знание - это знание экстралингвистического контекста, в котором осуществляется высказывание с метафорой. И только одновременное наличие обоих видов знания - семантического и прагматического - позволяет определять пропозициональное содержание высказывания с метафорой. Многообразие типов метафор объясняется для Дж. Штерна не семантическими факторами, а прагматическими. Это обусловлено тем, что Mthat дает общую форму метафорической интерпретации любых высказываний, а m-связанность каких-либо свойств с метафорически интерпретируемым выражением выходит за пределы правил языка и носит прагматический характер. Таким образом, контекстно-зависимая природа любых метафор позволяет теоретически зафиксировать их значение только в смысле характера, но не 113 Козырева О.А., Гущин И.А. Метафора и соотношение семантики и прагматики у Аристотеля содержания, и поэтому задача семантики не может заключаться в определении выраженной в высказанном предложении пропозиции. Семантико-психологический подход Э. Борг Тот факт, что одного семантического знания, излагаемого в формальной теории, недостаточно для понимания метафоры, признает также и Э. Борг. Для того чтобы представить метафорическую интерпретацию предложения, следует знать что-то еще, кроме правил языка. Однако она не стремится утверждать, что помимо семантического знания необходимо обладать именно прагматическим знанием экстралингвистических факторов. Для нее процесс интерпретации метафоры включает в себя психологическую составляющую, а именно знание структурных отношений между понятиями, приобретаемое во взаимодействии с внешним миром и отражающее его структурные отношения. Это знание существует в концептуальной системе как конкретного индивида, так и языкового сообщества в целом, будучи идеализацией от индивидуальных концептуальных систем. Именно благодаря наличию этой концептуальной системы возможно конструирование и понимание метафоры, ибо оба процесса основываются на умении связывать с одним предложением множество пропозиций, тем самым давая ему метафорическое прочтение. Множество связанных с предложением пропозиций определяется выполнением трехместной фигуративной функции fc [9. P. 240], аргументами которой выступают буквально выраженная в предложении 5 пропозиция р, сама концептуальная рамка а и контекст высказывания с, относительно которого c релятивизируется выполнение f : f c < p, а с > = (рсі --с рси}. Полученное в результате выполнения f множество пропозиций (MI) представляет собой множество всех возможных метафорических интерпретаций 5 в рамках языкового сообщества, чья концептуальная система была «загружена» в fc. Если аргументом fc будет выступать концептуальная система конкретного индивида A, то множество полученных пропозиций (PI) будет ограничено его знанием понятийных связей, которое не всегда совпадает со знанием сообщества: fC < p, A, c > = {рс1,pc3, pc7,pc9}1. Если множество пропозиций PI находится в отношении пересечения с множеством пропозиций MI, то элементы множества, полученного в результате их пересечения, будут являться метафорическими интерпретациями 5. Конкретная р из пересечения обоих множеств будет тогда считаться правильной метафорической интерпретацией 5, когда между 5 и р имеется очевидная связь в концептуальной системе участников коммуникации: прийти к правильной интерпретации невозможно, если не иметь общих убеждений о мире. Пропозиции, являющиеся членами множества MI, но не множества PI, будут представлять собой не понятые индивидом метафорические интерпретации 5. Так, если кто-то не знает, что Диониса изображают с чашей так же, 1 Индексы «1», «3», «7» и «9» выбраны Э. Борг произвольно - для демонстрации того, что агенту доступны не все элементы множества пропозиций, которые могут выражаться одним предложением. В этом случае ему доступны только указанные четыре. 114 История философии /History of philosophy как со щитом изображают Ареса, то он не сможет «схватить» выражаемую пропозицию и понять предложение с метафорой. Пропозиции, входящие в множество PI, но не в множество MI, не являются метафорическими интерпретациями s в принципе. Например, мы можем считать, что предложение «чаша есть щит Диониса» выражает пропозицию «Дионис защищался от врагов с помощью чаши», но из-за низкой частотности связи этой пропозиции с изначальным предложением в сообществе мы не сможем его использовать, опасаясь быть непонятыми. Иными словами, конструирование и понимание метафоры осуществляется только в пространстве публичной коммуникации, где общепринятые значения слов не зависят от того, кто их использует. Индивидуальный процесс интерпретации метафоры, т.е. переход от обнаруженной буквальной пропозиции к множеству связанных с ней иных пропозиций и выбор из этого множества подходящей, носит психологический характер, а не семантический. Само семантическое знание Э. Борг определяет классически, т.е. как знание условий, при которых предложение является истинным [9. P. 241]. Но для интерпретации метафоры этого знания недостаточно, так как без представления о том, каковы свойства объектов внешнего мира и их отношения, определить выражаемую пропозицию не удастся. Свойства объектов выражены для индивида в понятиях, а отношения между ними - в концептуальной системе. Соответственно, знание об этих отношениях не является семантическим, однако оно дополняет семантику, чтобы можно было определить пропозицию, выражаемую в высказанном предложении. Таким образом, для Э. Борг конструирование и понимание метафоры возможно при наличии семантического знания и выраженного в понятиях несемантического знания о мире. Почему бы не назвать последнее прагматическим знанием и не утверждать, что она, как и Дж. Штерн, выступает в пользу комбинации семантического и прагматического знания для интерпретации метафор? Такой ход возможен, однако он не кажется нам оправданным в силу того, что Э. Борг понимает прагматику в стиле П. Грайса, где от выраженной в высказанном предложении пропозиции осуществляется переход к интенциям говорящего («значению говорящего»). При таком представлении о прагматике, как у Э. Борг, определение отношений между понятиями на основании отношений между объектами во внешнем мире просто не попадает в область прагматических исследований. Именно по этой причине мы именуем подход Э. Борг к объяснению метафоры не семантикопрагматическим, а семантико-психологическим. Подход Аристотеля и разграничение семантики и прагматики Рассмотренные подходы Дж. Штерна и Э. Борг, несомненно, имеют между собой много общего. Основным сближающим моментом является признание недостаточности семантического знания - знания условий истинности некоторого предложения в некотором контексте - для интерпретации предложения с метафорой. Для определения условий истинности, т.е. определения пропозиции, высказанного в конкретном контексте предложения с метафорой необходимо что-то еще. И если Дж. Штерн именует это «что-то еще» прагматическим знанием, то Э. Борг, как мы указали ранее, считает недостающей частью для интерпретации психологическое знание: знание связей между понятиями, отражающее связи между объектами во внешнем мире. 115 Козырева О.А., Гущин И.А. Метафора и соотношение семантики и прагматики у Аристотеля Возвращаясь к аристотелевской концепции метафоры, мы обнаруживаем, что вопрос о том, есть ли у самого Аристотеля зачатки того, что в современной философии известно как вопрос о соотношении семантики и прагматики, мы оставили непроясненным. Постановка такого вопроса обусловлена тем, что концепцию метафоры Аристотеля следует рассматривать в рамках семиотической модели [10], так как для него элементы языка являются требующими расшифровки знаками ментальных репрезентаций [11. 16a3; 12. 165a5-12]. На первый взгляд, кажется, что ответ на поставленный вопрос положительный: для создания и понимания метафоры по аналогии требуется знание о фактах мира, которое не тождественно знанию о фактах языка, и такое знание можно назвать прагматическим. Схожий ответ дает, например, С.Р. Левин, говоря о необходимости найти сходства между объектами для понимания метафоры: «Семантические (или логические) отношения, наличествующие среди категорий, не помогут воспринять эти сходства. Их необходимо знать на основании опыта в мире. Метафоры четвертого типа заставляют нас собирать определенные эмпирические факты и ведут нас через процессы аналогии к осознанию общего отношения между этими фактами» [13. P. 37-38]. Такая интерпретация Аристотеля оказывается близка подходу Дж. Штерна, который отождествляет знание обо всех экстралингвистических факторах, влияющих на интерпретацию предложения с метафорой, с прагматическим знанием. И в таком случае можно утверждать, что у Аристотеля имплицитно содержалась идея разграничения семантики и прагматики на основании разграничения языковых и неязыковых фактов. Однако подобная трактовка, предполагающая, что Аристотель проводил различие между знанием о фактах языка и знанием о фактах мира, несовместима с широко распространенным представлением о том, что Аристотель признавал изоморфизм между языком, мышлением и внешним миром [3. P. 43; 14]. Элементы языка, как уже было указано, являются знаками ментальных репрезентаций (понятий), которые подобны объектам внешнего мира [11. 16a6-9; 15. 429a13-16]. Понятия универсальны для всех людей точно так же, как и объекты, а различия в терминах языков объясняются случайными факторами, ибо значения имен конвенциональны [11. 16a27-29]. Д. Модрак отмечает, что, согласно Аристотелю, «приобретая язык, мы приобретаем схему классификации, которая встроена в эти внутренние состояния и изоморфна имеющимся объектам» [16. P. 6]. Такой изоморфизм, по всей видимости, требует отказа от разграничения знания о мире и знания о языке, и значит, проведение разграничения между семантикой и прагматикой имеет і мало смысла . Мы склоняемся к тому, что более близким взглядам Аристотеля оказывается подход Э. Борг. Причиной этого является то, что можно обозначить как тезис изоморфизма между мышлением и внешним миром, имплицитно принимаемый ею и частично совпадающий с тезисом изоморфизма у Аристотеля. Концептуальная система, согласно Э. Борг, формируется во взаимодействии с внешним миром - если в мире нет кошек с семью лапами, то и отно- 1 М. Леженбер вообще не решается однозначно определить, к какому из современных подходов к объяснению метафоры близок Аристотель - к семантическому или прагматическому - и, соответственно, не решается дать ответ на вопрос о соотношении семантики и прагматики для него [3. P. 38]. 116 История философии /History of philosophy шение между понятиями «кошка» и «иметь семь лап» не формируется. Однако когнитивные способности людей ограничены и схватывают только доступные им отношения между объектами. Внимание на когнитивных аспектах интерпретации метафоры характерно и для Аристотеля [17], когда он говорит, что с помощью метафоры приобретается знание. Подход Дж. Штерна, в свою очередь, не предполагает подобного изоморфизма, поскольку в нем знание о правилах языка и знание обо всем, что этими правилами не является, приобретаются отдельно. Таким образом, мы не обнаруживаем в аристотелевской концепции метафоры зачатков разграничения семантического и прагматического видов знания, что сблизило бы ее с подходом Дж. Штерна. Напротив, мы полагаем, что допускать подобное разграничение нехарактерно для Аристотеля из-за признания им тезиса об изоморфизме между языком, мышлением и внешним миром. Поэтому подход Э. Борг, в котором признается ослабленная версия этого тезиса, а именно изоморфизм между мышлением и внешним миром, более предпочтителен.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 38
Ключевые слова
метафора, семантика, прагматика, значение, АристотельАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Козырева Ольга Александровна | Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина | кандидат философских наук, ассистент кафедры онтологии и теории познания | olgakozyreva@mail.ru |
| Гущин Илья Андреевич | Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина | ассистент кафедры онтологии и теории познания | gushchin.ilya.66@gmail.com |
Ссылки
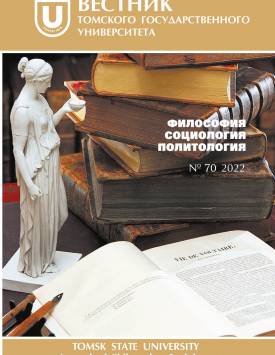
Метафора и соотношение семантики и прагматики у Аристотеля | Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2022. № 70. DOI: 10.17223/1998863X/70/10
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 250

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью