–†–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —З–µ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А—Л –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П—В —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤—Л–≤–Њ–і, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В—Б—П –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–Љ, –∞ –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ–∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –Р–≤—В–Њ—А—Л –Ј–∞—П–≤–ї—П—О—В –Њ–± –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤.
HusserlвАЩs phenomenology in the context of metaphysics, antimetaphysics and postmetaphysics.pdf –Ь–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Є –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Ь–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г–≤ –Ї–∞–Ї —В–µ—А–Љ–Є–љ –і–ї—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –∞—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї–µ–≤—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –Є –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є [1]. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є, –њ–Њ—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї–Є, –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г—О—Й–Є–µ ¬Ђ–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ¬ї –і–Њ–≥–Љ—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Э–Њ–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–µ–і–Њ–≤–µ—А–Є–µ –Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ, –≤—Л–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –≤ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Ѓ–Љ–∞ –Є –Ъ–∞–љ—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –Ї —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—О –њ—А–Є—В—П–Ј–∞–љ–Є–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –≤ –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є —Н–њ–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞–ї–Є —В–∞–Ї—Г—О —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –Ѓ–Љ, –Є –Ъ–∞–љ—В –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П—Б—М –ї–Є—И—М –Њ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є, ¬Ђ–њ—А–µ–ґ–љ–µ–є¬ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, —Б—В–∞–≤—П –љ–∞ –µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є–ї–Є —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Г—О —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О. –° —В–µ—Е –њ–Њ—А —В–µ–Љ–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –∞–Ї—В—Г–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М, –µ–µ —В–∞–Ї –Є–ї–Є –Є–љ–∞—З–µ –Ї–∞—Б–∞–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л –Є–ї–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є–µ —И–Ї–Њ–ї—Л –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ –Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є, –Њ—В –У–µ–≥–µ–ї—П –і–Њ –Ъ–Њ–љ—В–∞, –Њ—В –Т–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞ –і–Њ –Ф–µ—А—А–Є–і–∞. –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–µ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ–Њ–і –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, –Є –≤—Л—П–≤–Є–Љ –µ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї—Г. –Я—А–Њ—Б—В–µ–є—И–Є–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ –±—Г–і–µ—В –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—О –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤ –Р–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –•–Њ—В—П –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—М –Є –љ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞¬ї, –µ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—П—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є; —В–∞–Ї, –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В –Њ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В–Є —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬Ђ–Ш—В–∞–Ї, —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ—Г–і—А–Њ—Б—В—М [–Є–ї–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П] –µ—Б—В—М –љ–∞—Г–Ї–∞ –Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є—З–Є–љ–∞—Е –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Е¬ї [2. –°. 33]. –Я–Њ—П—Б–љ—П—П, —З—В–Њ –Њ–љ –Є–Љ–µ–µ—В –≤ –≤–Є–і—Г, –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—М –і–∞–ї–µ–µ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–µ—В –і–Њ—Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–µ–Ї–Є–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї–∞. –≠—В–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—М —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –Ї–∞–Ї ¬Ђ–љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ–≥–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Г –±–ї–∞–≥–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –Љ–Є—А–∞, –Є –њ—А–Є—З–Є–љ—Г, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ¬ї [2. –°. 43]. –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –і–Њ—Б–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –Є —Б–∞–Љ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—М 138 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є /History of philosophy –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л –≤—Б–µ—Е –њ—А–Є—З–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –≤—Б–µ —Б—Г—Й–µ–µ –≤ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Ї–∞–Ї –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–Є—Б–Ї–Њ–Љ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–Є–±–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ—Л –Љ–Є—А–∞. –Т –Р–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л, —Г —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є —П–≤–ї—П–ї—Б—П –њ–µ—А–≤–Њ–і–≤–Є–≥–∞—В–µ–ї—М, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤–Њ–є —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є - –С–Њ–≥. –Я—А–Њ—В–Є–≤ —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–є –Њ–± –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–Є–±–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —Б–≤–µ—А—Е—Б—Г—Й–µ–Љ, –≤–Њ—Б—Б—В–∞—О—В –љ–Њ–≤–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ –њ—А–∞–≤–µ –љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ѓ–Љ –Є –Ъ–∞–љ—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–ґ–µ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, –Є—Е –љ–µ–ї—М–Ј—П —Б—З–Є—В–∞—В—М –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞–Љ–Є –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П –≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Њ—В–њ—А–∞–≤–љ—Л–Љ –њ—Г–љ–Ї—В–Њ–Љ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В. –Я–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –ґ–µ –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤ –ї–Є—Ж–µ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є—Б—В–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–ї—П—О—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ XIX –≤., –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—Г–Ї–Є –Є –љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ —В–µ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є —З–µ—А–µ–Ј –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—О –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–Є—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є –Є –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є - —Н—В–Њ –Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –≤ –Ј–∞–і–∞—З–∞—Е. –Х—Б–ї–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞–і–∞—З–µ–є –≤–Є–і–Є—В –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ —Б—Г—Й–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, —В–Њ –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –≤—Л—Б—В—А–Њ–Є—В—М –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б –±–Њ—А—М–±—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Б–∞–Љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –С–Њ—А—М–±–∞ —Н—В–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–Є–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П —Б –µ–≥–Њ –њ—А–Є—В—П–Ј–∞–љ–Є—П–Љ–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П —Г–Љ–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ. –Ю—В–ї–Є—З–љ–Њ–є –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –і–∞–љ–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В–∞ ¬Ђ–Ф—Г—Е –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є¬ї –Ю–≥—О—Б—В–∞ –Ъ–Њ–љ—В–∞, –≥–і–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ ¬Ђ–≤—А–µ–і–љ–Њ–µ¬ї, —З—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –≤ –љ–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ъ–Њ–љ—В –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –ї–Є—И—М –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ –≤–Є–і–Њ–Љ —В–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є [3. –°. 68]. –Я–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–∞—П –ґ–µ, ¬Ђ–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–∞—П¬ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є, –њ–Њ—Б—В—Г–ї–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ф–ї—П –Ъ–Њ–љ—В–∞ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –ї—О–±–Њ–µ –љ–∞—И–µ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–Љ —Д–∞–Ї—В–∞ –≤ –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є —Н–Ї—Б–њ–µ—А–Є–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–Њ–і–∞. –Ъ–Њ–љ—В, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ, –љ–µ —Б—Г–ґ–∞–µ—В –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –љ—Г–ґ–і–µ –≤ –µ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–Є, –≤–µ–і—М —Д–∞–Ї—В –µ–µ —Б—В–Њ–ї—М –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П ¬Ђ–Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –±–Њ–ї–µ–Ј–љ—М¬ї [3. –°. 6970]. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤ –Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј—Г –Њ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–µ —Б–∞–Љ –Ъ–Њ–љ—В –љ–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В —Б–≤–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ—Л–є –Љ–µ—В–Њ–і? –Э–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–ґ–µ –љ–Њ–≤–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є? –Р–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —В—А—Г–і–љ–Њ—Б—В—М—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, –Ї–∞–Ї –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –љ–∞—Б—В—А–Њ–є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ—Л–Љ; –°.–Ь. –Ь–∞–ї–Ї–Є–љ–∞ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –і–Є—Б—Б–µ—А—В–∞—Ж–Є–Є: ¬Ђ...—А–Є—В–Њ—А–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –Є–Ј–±–∞–≤–ї—П–µ—В –Њ—В –љ–µ–µ. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤ –љ–µ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –≥–Є–њ–Њ—Б—В–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вАЮ–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–ЄвАЬ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Ж–∞—А—Б—В–≤—Г–µ—В, –Њ—Б—В–∞–≤–∞—П—Б—М –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –Р–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –≤–µ–і–µ—В –±–Њ—А—М–±—Г —Б –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —Н—В–Є–Љ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—П –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Ї–∞–Ї —Б–Є–ї—Г¬ї [4. –°. 194]. –Ю—Б–Њ-139 –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–µ—Ж –°.–Р., –Ы–∞–і–Њ–≤ –Т.–Р. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Ј–љ–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –Ї –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—О –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –љ–µ –њ—Л—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –љ—Г–ґ–і—Г –≤ –µ–µ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ–і–Љ–µ–љ—Л –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–є –Є –≤–µ—А–љ—Л–є ¬Ђ—Б–Љ—Л—Б–ї¬ї, –∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В —Б —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є —В–∞–Ї, —З—В–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–µ—В –Є–≥—А–∞—В—М —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М. –Я–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ¬ї –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–±–Њ—А–љ–Є–Ї–µ —Н—Б—Б–µ –Ѓ—А–≥–µ–љ–∞ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б–∞ ¬Ђ–Я–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ¬ї, –≥–і–µ –Њ—З–µ—А—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В —З–µ—В—Л—А–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ: –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞, –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ, —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є. –Я–Њ–і –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й—Г—О –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ–Ї–∞, –Є–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї–∞, –Є–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, ¬Ђ–µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ¬ї, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є —Г–њ–Њ—А—П–і–Њ—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ. –Т—Б–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–≤–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤ —З–µ–Љ-—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В—М—О: ¬Ђ.. .–µ–і–Є–љ–Њ–µ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ, –∞–±—Б—В—А–∞–Ї—В–љ–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Ї–∞–Ї –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–Ј–љ–∞–µ—В –Є –Ї–∞–Ї –ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ, –Є –Ї–∞–Ї –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ: –µ–і–Є–љ–Њ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є –∞–Ї—Б–Є–Њ–Љ–Њ–є, –Є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ, –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ –Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ¬ї [5. P. 30]. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ - –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Ь—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Г–Љ–Њ–њ–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ–Љ—Л–µ –Є–і–µ–Є, –њ—А–Є–і–∞—О—Й–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Г –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –≤–µ—Й–∞–Љ. –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, —Н—В–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤ —Г–є—В–Є –Њ—В —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –Є –і–Њ—Б—В–Є—З—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —З–Є—Б—В–Њ—В—Л, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—П—Б—М –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–Є–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Ґ—А–µ—В—М—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ - —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ–Љ–∞—П –љ–µ –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ, –∞ –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –љ–Њ–≤–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞–Љ–Є —В–µ–Њ—А–Є–Є –Є–і–µ–є, –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —Б—Г–±—Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Є —В.–њ., –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–є –≤–Є–і: ¬Ђ–Є–і–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П –Њ–±–љ–Њ–≤–Є–ї–∞ –Ї–∞–Ї –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞, —В–∞–Ї –Є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Г –Є–і–µ–є –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–Љ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Б–Љ–µ–љ—Л –њ–∞—А–∞–і–Є–≥–Љ –Њ—В –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ї –Љ–µ–љ—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г: —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М¬ї [5. P. 31]. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Њ—В–њ—А–∞–≤–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤ –љ–Њ–≤–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. –І–µ—В–≤–µ—А—В–∞—П –Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б—Г, - —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є. –°–Є–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ —В–µ–Њ—А–Є–Є —В—А–µ–±—Г–µ—В –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–Є—А—Г –Є –Њ–±–µ—Й–∞–µ—В –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В —Б —Н–Ї—Б—В—А–∞–Њ—А–і–Є–љ–∞—А–љ—Л–Љ. –Ґ–Њ –µ—Б—В—М, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –і–∞–µ—В –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї –Є—Б—В–Є–љ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞ –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Є–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—О—Й–Є–µ –Є—Е –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї, –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—О —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–љ–∞—П —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г–µ—В –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Б ¬Ђ–µ–і–Є–љ—Л–Љ¬ї –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ –≤–µ—Й–µ–є, –њ—А–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О: ¬Ђ–Я–Њ—А—П–і–Њ–Ї –≤–µ—Й–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, –Є–ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї —Б–њ—А–Њ–µ—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ, –Є–ї–Є –≤—Л—А–Њ—Б –Є–Ј –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і—Г—Е–∞, –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ; –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ–µ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–љ–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О¬ї 140 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є /History of philosophy [5. P. 35]. –†–µ—И–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А, –њ–Њ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б—Г, —Г–ґ–µ –Њ—В—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–Њ –≤ —Н–Љ–њ–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї–∞—Е, –≥–і–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л. –°–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л–є —А–∞–Ј—Г–Љ, –њ—А–Є—Е–Њ–і—П—Й–Є–є –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г –Є–і–µ–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г, –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–µ–±—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—В–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Г–≤–Є–і–µ—В—М, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –У–µ–≥–µ–ї—П, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–ї–Є–ґ–µ –±—Л—В—М –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, —В.–µ. –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—М —Б–µ–±—П –Ї —В–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Р —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В –љ–∞ —Б–Љ–µ–љ—Г —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ю–њ–Њ—А–∞ –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї —Б –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ—А—Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –і–∞–µ—В –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—В—Г–Є—Ж–Є–є –Њ —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞—Е. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ–і –і–µ—Д–ї—П—Ж–Є–µ–є —Б–≤–µ—А—Е–Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—А–∞–Ј—Г–Љ–µ–≤–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–∞—В –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –љ–∞–і —В–µ–Њ—А–Є–µ–є, –Є–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ–≥–Њ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—Й–µ–≥–Њ –Ї —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г. –Э–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–Ї–Є–є –Њ–±—Й–Є–є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Б–µ–љ—Б—Г—Б, —З—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–±—Й–Є–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л: –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –Њ–±–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—В –љ–∞–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤ –і—Г—Е–µ –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є; –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –њ—А–Њ–і—Г–Љ—Л–≤–∞—О—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ, —З—В–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ —А–µ–∞–Ї—В—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–Є. –Т–∞–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤–њ–Є—В–∞–≤ –Њ–њ—Л—В –Ї–∞–Ї –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, —В–∞–Ї –Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–є, –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –ї–Є—И—М –Ј–∞–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –Є–љ—Л—Е –њ—Г—В—П—Е, —З–µ—А–µ–Ј —В–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є –µ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ –°—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–љ–µ–љ–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –Ј–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–µ –µ—Й–µ –µ–≥–Њ –∞—Б—Б–Є—Б—В–µ–љ—В–Њ–Љ –Ю–є–≥–µ–љ–Њ–Љ –§–Є–љ–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–∞ –љ–Є —Б –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, –љ–Є —Б –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–µ–є [6]. –≠—В–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ, –і–Њ ¬Ђ–Ъ–∞—А—В–µ–Ј–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є–є¬ї –≤ –Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–µ—В –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–є —В–µ—А–Љ–Є–љ –і–ї—П –Љ–∞—А–Ї–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. –Т ¬Ђ–Ъ–∞—А—В–µ–Ј–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ–і–Є—В–∞—Ж–Є—П—Е¬ї –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї—Г, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П, —З—В–Њ –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞. –Ш—В–∞–Ї, –≥–Њ–≤–Њ—А—П –Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞—Е –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–љ –њ–Є—И–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–µ: ¬Ђ–≠—В–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л - –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –µ—Б–ї–Є –≤–µ—А–љ–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤ –±—Л—В–Є—П —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –Э–Њ –Ј–і–µ—Б—М —А–µ—З—М –Є–і–µ—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ –Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ –≤ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤—Л—А–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –љ–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —В–Њ–Љ—Г —Б–Љ—Л—Б–ї—Г, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Ї–∞–Ї –Я–µ—А–≤–∞—П –§–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—П. –І–Є—Б—В–Њ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ—Л–є, –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ—Л–є –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –∞–њ–Њ–і–Є–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –њ—А–µ–і—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П [—А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤] –≤ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤—Б–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞–≤–∞–љ—В—О—А—Л, –ї—О–±—Л–µ —Б–њ–µ–Ї—Г–ї—П—В–Є–≤–љ—Л–µ —Н–Ї–Ј–∞–ї—М—В–∞—Ж–Є–Є¬ї [7. –°. 177]. –Э–Њ –Є —Н—В–Њ —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–∞–ї–Њ —З—В–Њ –њ—А–Њ—П—Б–љ—П–µ—В. –Ь–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–Љ–µ–µ—В –≤–≤–Є–і—Г –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –Ї–∞–Ї –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Г—О, –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П ¬Ђ–≤—Л—А–Њ–і–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ¬ї –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О, –Ї–∞–Ї –љ–µ –њ—А–Њ—В–Є-141 –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–µ—Ж –°.–Р., –Ы–∞–і–Њ–≤ –Т.–Р. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Є —Б–∞–Љ–∞ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –£–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –∞–њ–Њ–і–Є–Ї—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –і—А—Г–≥–Њ–є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —З–µ—В–Ї–Є–Љ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є–µ–Љ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П, –≤–µ–і—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –Љ–Њ–≥ –±—Л –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В—М –≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б—З–Є—В–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Є—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–µ –∞–њ–Њ–і–Є–Ї—В–Є—З–љ–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤, –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ—Б—В—М –Љ–Є—А —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Є –≤ –љ–µ–Љ –Є–Љ–µ—О—В –Љ–µ—Б—В–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В—Л, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—И–Є–Љ–Є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤, –њ–Њ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—О, –±—Г–і–µ—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –Т–µ–і—М –і–ї—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ - —Н—В–Њ –љ–Є –≤ –Ї–Њ–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ –Њ–±—А–∞–Ј –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞, –Ј–∞–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ–∞–Љ–Є —З—Г–≤—Б—В–≤, –Њ–љ –Њ—В—Б–µ–Ї–∞–µ—В —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї —Г –љ–∞—Б –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П. –Т–∞–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–Љ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ, –∞ —Н—В–Њ –љ–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –∞ —З–Є—Б—В–Њ –Є–љ—В—Г–Є—В–Є–≤–љ—Л–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–µ. –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є—Б—В—Л, –њ—А–µ—В–µ–љ–і—Г—О—Й–Є–µ –љ–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В—М –Є –∞–њ–Њ–і–Є–Ї—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, —В–Њ–ґ–µ –±—Г–і—Г—В –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–µ—З—М –Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Є–Ј–љ—Г—В—А–Є, —В.–µ., –њ–Њ –Љ—Л—Б–ї–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є, —З—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ –§–Є–љ–Ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Љ—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –µ–≥–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –±—Л—В–Є—П –Є –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≤ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –њ–µ—А–µ–є–і–µ–Љ –Ї —Б–Њ–Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ–Є—О –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П —Б –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М —П–≤–љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–µ—В –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–Љ —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–Љ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –Ї–∞–Ї —Б—В—А–Њ–≥–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–і –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –ї–Є—И—М ¬Ђ–Ј–∞–±–ї—Г–ґ–і–∞—О—Й—Г—О—Б—П¬ї —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О, —Г—В—А–∞—В–Є–≤—И—Г—О –Є–і–µ–∞–ї—Л –љ–∞—Г—З–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Ї–∞—В–Є–≤—И—Г—О—Б—П –≤ –љ–∞–Є–≤–љ—Л–є –љ–∞—В—Г—А–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є–ї–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Ї –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤—Л—И–µ, –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –Ј–∞—П–≤–ї—П–µ—В, —З—В–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є—О –≤ –і—Г—Е–µ –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—П, –≤ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ –Я–µ—А–≤–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В—М –љ–∞—Г–Ї—Г –љ–∞—Г–Ї, –Њ–љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —А–∞—Б—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –≤ —Н—В–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Ї –Ъ–∞–љ—В—Г –Є –Р—А–Є—Б—В–Њ—В–µ–ї—О –Ї–∞–Ї —Г—З—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М prima philosophia. –Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ –Љ–µ—А–µ, –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–љ—В–µ–љ—Ж–Є—П—Е –љ–∞ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є —Н—В–Є —Д–Є–≥—Г—А—Л –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –і—А—Г–≥ –Ї –і—А—Г–≥—Г, —З–µ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Ъ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ–± –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞–Љ –≤ –ї–Є—Ж–µ –њ–Њ–Ј–Є—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞ (–Ъ–Њ–љ—В) –Є —А–∞–љ–љ–µ–є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є (–Ъ–∞—А–љ–∞–њ, –Р–є–µ—А). –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ–љ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –Ј–∞—П–≤–Є–ї –Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ –љ–µ–њ—А–Є—П—В–Є–Є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є (–њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ —Ж–Є—В–∞—В—Г –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞ [8. C. 208]): ¬Ђ...–њ—А–Є –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –±–Њ—А—М–±–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Є –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –Ј–≤—Г—З–∞—Й–Є—Е –≤ –µ–µ –∞–і—А–µ—Б –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є–є –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—О—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –њ–Њ–і —Н—В–Є–Љ –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –і–ї—П —Б–µ–±—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—Г–≥–∞–ї–Њ¬ї [9. S. 232]. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –Ш.–Р. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤ –≤—Б–µ –≤ —В–Њ–є –ґ–µ —Б—В–∞—В—М–µ, –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –і–ї—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –Є –Њ–љ ¬Ђ–µ—Й–µ –љ–∞–і–µ–µ—В—Б—П –љ–∞ –µ–µ —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О¬ї [8. –°. 208]. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, –≤—Л—П–≤–Є–Љ –≥–і–µ –µ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Ї –љ–µ–є –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В—Б—П –Є –≥–і–µ –Њ–љ –Њ—Б—В–∞–ї—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–Љ. –Э–∞—З–љ–µ–Љ –њ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г, —Б –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–љ–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. 1. –Э–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ —Г–њ—А–µ–Ї–љ—Г—В—М –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ—Л–Љ –≤–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –µ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –њ—А–Њ—Б–ї–µ–ґ–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–Є–µ —А–µ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є—О –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Љ–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Х.–Т. –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є¬ї –∞–≤—В–Њ—А –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г–µ—В –У—Г—Б-142 –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є /History of philosophy —Б–µ—А–ї—П –Ј–∞ –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ –Є–і–µ–Є —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –Њ–љ—В–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ [10]. –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Ї–∞–Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–µ—З—В–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞–Љ–Є, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–є —Ж–≤–µ—В —Г –і–∞–љ–љ–Њ–є —З–∞—И–Ї–Є –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–≥—Г—А—Ж–∞ –±—Г–і–µ—В —Н—В–Њ–є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї–Є–µ–є, —Н–є–і–Њ—Б–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞–µ—В, —З—В–Њ –≥–Є–њ–Њ—Б—В–∞-–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–µ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —Б–µ–±–µ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –Є–Ј–ї–Є—И–љ–µ, –≤–µ–і—М –і–ї—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –Њ—Б—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–µ–љ–Є—П —Ж–≤–µ—В–Њ–≤, –Є–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –њ—А–Њ—Б—В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –Є —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—И–Є—Е –≤–Є–Ј—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е. –У—Г—Б—Б–µ—А–ї–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Н–є–і–µ—В–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Є–і–µ—О —В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–∞. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ—Л–Љ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П. 2. –°–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Њ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј—Г–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П —А–∞—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Н—В–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –њ—А–Є—Б—Г—Й–∞ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –Т —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–∞—П –љ–∞—Б —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В—А–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–і–µ–љ—В–љ–Њ–є; —В–∞–Ї, —Б–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј—Г–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В—Б—П –≤–љ—Г—В—А–Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Є. –Ъ–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ –≤–Њ—Б–њ—А–Є—П—В–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—А–∞—Б—В–∞–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –ї—О–±–Њ–є —В–µ–Њ—А–Є–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ. –≠—В–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ, –Ї–∞–Ї –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В —Б–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј—Г–Љ, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ —Б–∞–Љ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б –њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –і–ї—П —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є –і–ї—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б —Б–Њ–Ј–µ—А—Ж–∞–љ–Є–µ–Љ –Є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞—Г—З–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ, —В–Њ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–µ–є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—П –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤ –Љ–Є—А –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л—Е –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї. –Т –ї—О–±–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М —П–≤–љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П —З–Є—Б—В—Л–Љ, –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–Є–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є. 3. –Ґ—А–µ—В—М—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ - –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В. –Ю—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–Љ—Б—П –љ–∞ –љ–µ–є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ. –Т —А–∞–±–Њ—В–µ –Т.–Р. –Ы–∞–і–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Я–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б—Л –≤ —В–µ–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ы–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Н–њ–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є —А–µ–ї—П—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞¬ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–ї–∞–≤ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –ї–Њ–≥–Є–Ї–Њ-—Н–њ–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–µ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ —П–Ј—Л–Ї–∞ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј—Г –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ–∞—П –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ—Ж–µ–і—Г—А–∞, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї–µ–Љ, - —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —А–µ–і—Г–Ї—Ж–Є—П. –Ю–љ–∞ —В—А–∞–Ї—В—Г–µ—В—Б—П —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —Н–Ї—Б—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ: ¬Ђ–Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–љ–Є—П –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞ –Є –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М –µ–≥–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ—А—А–µ–ї—П—В–Њ–≤ –∞–Ї—В–Њ–≤ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ј–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞. –Э–∞ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ —Н—В–Њ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і —Б —П–Ј—Л–Ї–∞ —Н–Ї—Б—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –≥–і–µ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –≤–µ—Й–∞—Е –Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞, –љ–∞ —П–Ј—Л–Ї –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –≥–і–µ –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–љ—Д–Є–≥—Г—А–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–∞, –њ–Њ–Ј–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–є –Љ–Є—А¬ї [11. –°. 78]. –Ґ—А–∞–Ї—В—Г—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–і—Г–Ї—Ж–Є—О –Ї–∞–Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј –Њ—В —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П –Њ–± –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є–ї–Є –ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ—Л—Б–ї–Є, –Љ—Л –Є –љ–∞—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ–Љ—Б—П –љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –љ–∞–Љ –Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є, —З—В–Њ —П–≤–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–µ–њ–Њ–і–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —Н—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ: ¬Ђ–Я—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П вАЮ–љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Є–і–µ—В –і–Њ–ґ–і—МвАЬ, —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ —З–µ—В–Ї–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –Є –Ј–∞—Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –≤ —А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є–Є –Љ—Л—Б–ї—М, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Г—О —Н—В–Є–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –Є —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–± 143 –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–µ—Ж –°.–Р., –Ы–∞–і–Њ–≤ –Т.–Р. –§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В–µ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–є –Љ—Л—Б–ї–Є. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В, —З—В–Њ —П–Ј—Л–Ї –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ –Ј–∞—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–∞ –≤ —Б—Д–µ—А—Г –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є ¬ї [11. –°. 83]. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Н—В–Њ –≤–≤–Є–і—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ –ї—О–±–Њ–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Љ—Л –Є–Љ–њ–ї–Є—Ж–Є—В–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ–Љ –Є—Б—В–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ—Л—Б–ї–Є, —В.–µ. –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї –Њ–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —Н–Ї—Б—В–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–∞–ї. –≠—В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М, –њ—А–Њ–≤–Њ–і—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–і—Г–Ї—Ж–Є—О, –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –≤ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ–Љ. –Т —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —В–µ–Љ, —З—В–Њ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М, –Ј–∞–і—Г–Љ–∞–≤ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–і—Г–Ї—Ж–Є–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В –≤—Б–µ–≥–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Є–Ј–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–µ–љ–Є–µ. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ –≤ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ –љ–µ–µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–Є—В—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–∞ –≤ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В, –≤ —Н—В–Њ–Љ –∞—Б–њ–µ–Ї—В–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –љ–µ –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–µ–љ. 4. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П, –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–љ–∞—П –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ - –і–µ—Д–ї—П—Ж–Є—П —Б–≤–µ—А—Е–Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ–Љ–∞—П –≤ –њ—А–Є–Љ–∞—В–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–і —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ. –Ф–ї—П –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б–∞ —Н—В–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –ї–Њ–≥–Њ—Ж–µ–љ—В—А–Є–Ј–Љ–∞, —В.–µ. ¬Ђ–Є–і–µ–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –ї–Њ–≥–Њ—Б–∞ —В–µ–Њ—А–Є–Є –љ–∞–і –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–Њ–є¬ї [4. –°. 209]. –°–∞–Љ –ґ–µ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ–∞—П –Ї—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Б–Њ–Ј–≤—Г—З–љ–∞ –±–∞–Ј–Њ–≤—Л–Љ –Є–љ—В–µ–љ—Ж–Є—П–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П. –Э–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –ї–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є? –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Є—А –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В –љ–∞—Б –Ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ –Є —В—Г—В —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ–≤ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Ї–ї—О—З–µ. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–∞–љ–љ–Є–є –Є —Б—А–µ–і–љ–Є–є –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞—В—М —Б –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞–Љ–Є. –С–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–∞ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О –≤ —Б—Д–µ—А–µ —Н–њ–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є, –Њ —З–µ–Љ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї –≤ ¬Ђ–Ы–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е¬ї, –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—И–µ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –µ–≥–Њ —Б–≤—П–Ј–µ–є —Б –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В –љ–∞—Б –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –≤ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В –і–µ—Д–ї—П—Ж–Є—П —Б–≤–µ—А—Е–Њ–±—Л–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ј–∞–і–∞–љ–љ–Њ–Љ –•–∞–±–µ—А–Љ–∞—Б–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–Є. –°–∞–Љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –љ–∞ —Н—В–Њ—В —Б—З–µ—В –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А—Г–µ—В –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –њ—А–Є–Љ–∞—В —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞–і –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –∞ –љ–µ –љ–∞–Њ–±–Њ—А–Њ—В. –Ш—В–∞–Ї, –Љ—Л —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є, –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є –Є –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–є. –Ф–∞–љ–љ–∞—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –љ–∞ –љ–∞—И –≤–Ј–≥–ї—П–і, —П–≤–љ–Њ –љ–µ –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є—З–љ–∞, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–∞ –Ї –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –љ–∞—И –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і, —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –У—Г—Б—Б–µ—А–ї—М –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Њ–Љ. –Ш –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±–ї–Є–ґ–µ –Ї –њ–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, —З–µ–Љ –Ї –∞–љ—В–Є–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –њ–Њ–Љ–љ–Є–Љ, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –≥–Є–њ–Њ—Б—В–∞–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–Є. –Я–Њ—Б—В–Љ–µ—В–∞—Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ –ґ–µ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –ї–Є—И—М –Є—Й–µ—В –љ–Њ–≤—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є—П –Є–Ј–≤–µ—З–љ—Л—Е —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ [4].
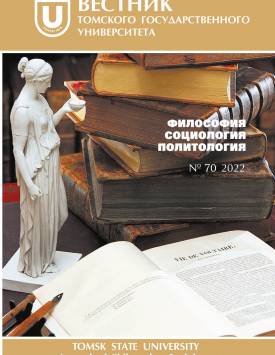

 –Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О
–Т—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Б—В–∞—В—М—О