От Homo oeconomicus к Homo faber (происхождение пост-современного общества)
Рассматриваются два принципиальных цивилизационных перехода, определивших современное развитие человечества: переход от теоцентризма к антропоцентризму и переход от последнего к техноцентризму. Анализируется процесс трансформации человека, эволюционирующего сначала к человеку экономическому, а потом к человеку творящему. При этом показано, что второй начинает создавать техносферу, которая в пределе поглощает и его самого. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
From Homo oeconomicus to Homo faber (the origins of postmodern society).pdf А человек? Он жил безвольно: Не он - машины, города, «Жизнь» - так бескровно и безбольно Пытала дух, как никогда... А. Блок «Возмездие» Уже со второй половины прошлого века возникла и приобретает все более зримые черты идея так называемой технологической сингулярности, когда прогресс в области информационных технологий приведет к неконтролируемому развитию, а человек выйдет на стадию транс-пост-человека, теряя свою биологическую природу, которая будет постепенно замещаться природой искусственного происхождения. Представляется интересным посмотреть на этот процесс в более значительной перспективе, когда холодные и прохладные европейские общества начали с ускорением становиться все горячее. И этот процесс достиг современной стадии, когда не просто каждое поколение входит в существенно новый мир, но уже и этот мир меняется с нарастающим ускорением. Это называется «прогрессом» и идет уже независимо от человека, предоставляя ему пассивную роль участника событий, на которые он в принципе не способен повлиять, поскольку «прогресс нельзя остановить». В то же время текущее настоящее кардинально меняет самого человека, ускоренно подменяя внутреннее, биологическое внешним, искусственным и постепенно роботизируя его. Очевидно, что перспектива, определенная тем, что Кондорсе в конце XVIII в. назвал «прогрессом» в работе «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», где он описал прогресс девяти предшествующих его времени эпох и определил направление будущего прогресса человечества в десятую эпоху. Основные надежды на прогрессивное развитие связаны с тремя положениями: «уничтожение неравенства между нациями, прогресс равенства между различными классами того же народа, наконец, действительное совершенствование человека» [1. C. 221]. Благодаря совершенствованию законов и языка улучшаются отношения между людьми, и возникают надежды на постепенный рост их интеллектуального и морального уровня. Можно сказать, что мы действительно продвинулись по пути прогресса, начертанном Кондорсе, если иметь в виду 1) падение колониальной системы 178 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity в ХХ в. и 2) рост демократических тенденций. Здесь можно сделать немало оговорок, но общая картина вполне подтверждает его предвидение. Что же касается третьего момента, то, если вести речь о современных тенденциях развития человека, мы больше говорим об опасениях, чем о надеждах, и это не случайно. Очень сомнительно видеть в современном обществе рост интеллектуального и морального уровня. Данная статья и посвящена вопросу, что же происходит с современным человеком, а точнее, что не так с совершенствованием человеческого рода. История современного общества начинается с Ренессанса. Это связано с тем, что именно в период с XIV по XVI в. в Европе происходит процесс перехода от теоцентризма средневекового общества к антропоцентризму общества Нового времени. Второй переход - от антропоцентризма к техноцентризму - начинается в XIX в. и с ускорением продолжается со второй половины следующего века до настоящего времени. Западная Европа очевидно является субъектом первого перехода и субъектом и генератором второго, хотя в последнем случае она уже начинает уступать первенство другим. Ниал Фергюсон обращает внимание на тот контраст, который Западная Европа представляет в самом начале XV в. по сравнению с такими империями, как Османская и китайская династия Мин. Она еще не оправилась от чумы, страдает от междоусобиц и вовсе не является чем-то единым. Даже через век, в 1500 г. «будущие европейские империи занимали около 10% поверхности земной суши и охватывали около 16% населения планеты». А к началу ХХ в. «11 западных империй контролировали почти 3/5 суши и населения и около 3/4 (79%) мирового производства» [2. C. 35]. В качестве причины появления столь уверенного превосходства Фергюсон называет шесть групп, сформировавшихся после 1500 г. уникальных институтов, которые позволили Западной Европе занять столь важное место среди других цивилизаций: конкуренция, наука, имущественные права, медицина, общество потребления, трудовая этика. На их основе возник и бурно развился капитализм как форма организации социума, отношений собственности и основание трансформации человека. Итак, от тео- к антропоцентризму. Этот процесс естественно характеризуется все возрастающим индивидуализмом и периодическими попытками ему противостоять. Во-первых, меняются время и пространство. Человек переходит из замкнутого ценностно-ориентированного пространства к безличной бесконечности и разворачивается лицом от определенного предками прошлого. Именно в это время появляются утопии как признак нового сознания, его обращения к будущему. В 1516 г. была опубликована «Утопия» Томаса Мора, в которой дается очерк справедливого социалистического общества будущего. Во-вторых, человек оказывается в центре мира. Он, а не Бог, становится мерой всех вещей. Появляется индивидуализм. Человек до этого жил в человекоразмерных общинах и для него интересы общины были, безусловно, выше его собственных интересов, потому что вне общины он был ничем. В эпоху Ренессанса он уже не только равняется на авторитеты, но становится вровень с ними и даже превосходит их. Но главное, что он начинает ставить 179 Донских О.А. От Homo oeconomicus к Homo faber (происхождение пост-современного общества) свои цели, не ориентированные на общину, и начинает действовать самостоятельно. Он мог это делать, лишь опираясь на институт частной собственности. Поэтому совершенно не случайно уже в первой утопии Томас Мор ведет дискуссию на эту тему, перекликаясь с «Государством» Платона. Один из собеседников говорит: «Я полностью убежден, что распределить все поровну и по справедливости, а также счастливо управлять делами человеческими невозможно иначе, как вовсе уничтожив собственность. Если же она останется, то у наибольшей и самой лучшей части людей навсегда останется страх, а также неизбежное бремя нищеты и забот». Второй возражает, поскольку ему «кажется, напротив: никогда не будет возможно жить благополучно там, где все общее. Ибо как получится всего вдоволь, если каждый станет увертываться от труда? Ведь у него нет расчета на собственную выгоду, а уверенность в чужом усердии сделает его ленивым» [3. С. 49-50]. Связь индивидуализма и собственности не только как института, но и как определенного и очень сильного чувства вызывала соответствующую реакцию и приводила к серьезным социальным движениям. В истории Европы были две наиболее мощные попытки воспрепятствовать индивидуализму: Реформация в XVI в. и социализм в XIX-XX вв. Как показывает Макс Вебер, в конечном итоге Реформация способствует развитию капитализма. Но это никак не является прямой целью ее лидеров, они об этом думали меньше всего. Целью Лютера, Цвингли и других реформаторов было очищение церковных институтов и человека. Само слово «реформация» (от лат. reformare - «обновлять») означало обновление испорченного человека, его возврат к первоначальному, чистому состоянию. Причем они пытаются вернуть его в общину. Лютер говорит о том, что члены общины могут принимать исповедь друг у друга, и, вообще, «через участие в таинстве община приносит утешение совести, отягощенной грехом, терзаемой смертью. Однако участие в таинстве обязывает всех членов общины разделить бесчестие Христа и страдания собратьев по вере» [4. Р. 142]. Такое общение членов общины является значительно более обязывающим, чем в католической церкви. Но с этого же начинается движение к индивидуализму, поскольку освобождает для каждого отдельного члена общины отношение к Богу от прямого посредничества церкви. При этом возникает парадоксальный вопрос о личной ответственности. С одной стороны, Лютер считает, в соответствии с учением Августина, что без воли Бога ни один волос не упадет с головы человека, и тогда о свободе воли в принципе говорить не приходится. Об этом он говорит в известной полемике с Эразмом Роттердамским. Но тогда получается, что человек оказывается совершенно безответственным существом. И это тоже не может устроить Лютера. Он понимает парадоксальность того, что Бог может быть ответственным за все, требуя при этом абсолютной ответственности своих созданий. Лютер выходит из этой ситуации, утверждая, что «человек полностью отвечает за ту сферу ответственности, которая дана ему Богом. Он стремился утвердить ответственность Бога в соотношении с ответственностью человека, чтобы сохранить целостность Бога как Творца и целостность человеческого существа как особого творения, созданного по образу и подобию Божьему» [4. Р. 103]. И это ответственность за общину и за себя. Здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что реформационное движение оказалось амбивалентным по отношению к человеку: с одной сто-180 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity роны, это стремление правильно организовать на глубоко религиозной основе общинную жизнь, с другой - требовать от каждого его индивидуально продуманного отношения к организации своей религиозной жизни. Данная ситуация определила возможность экономического отбора людей, пригодных для капиталистического строя. Вебер пишет: «Для того чтобы мог произойти соответствующий специфике капитализма „отбор“ в сфере жизненного уклада и отношения к профессии, т.е. для того чтобы определенный вид поведения и представлений одержал победу над другими, он должен был, разумеется, сначала возникнуть, притом не у отдельных, изолированных друг от друга личностей, а как некое мироощущение, носителями которого являлись группы (здесь и далее в цитатах курсив мой. - О.Ф.) людей» [5. С. 77]. И этос данной группы начал задавать образцы поведения и мышления, распространившийся на все общество, что привело в конечном итоге к устойчивому формированию «духа капитализма», о котором пишут М. Вебер и В. Зомбарт. Одной из ключевых особенностей данного этоса становится рационализм. Разум освобождается от любых догматов. В том числе от догматов прошлого. И начинает сам свободно определять свои предпосылки и выводы. Программировать свое будущее на этой основе. Начинается активное преодоление традиционных форм жизни на основе рациональной организации. Это в первую очередь относится к организации труда. Цеховой способ уступает место капиталистическому. Для этого преодолеваются любые барьеры, как политические, так и мировоззренческие. Зомбарт пишет о том, как входит в быт реклама, которая до Нового времени считалась неприличной и безнравственной. Необходимо заставить людей верить в то, что определенный товар определенного производителя и продавца является наилучшим и совершенно необходимым. «Безусловно предосудительной считалась... коммерческая реклама, т.е. восхваление, указание на особые преимущества, которыми одно предприятие якобы, по его же словам, обладает по сравнению с другими. Как высшую же степень коммерческого неприличия рассматривали объявление, что берут более дешевые цены, нежели конкурент» [6. С. 205]. К настоящему времени реклама - двигатель торговли - победила безусловно и безоговорочно. Рационализм проявляется в искусстве: в живописи - это теория перспективы, в музыке - организация симфонического оркестра. Появляется наука в той форме, которую мы считаем наиболее естественной. Книгопечатание, известное еще в Китае, становится прессой и распространяется с огромной скоростью. Индивидуализм противостоит существовавшему исконно коллективизму и глубинно связан с капиталистическим образом действия: для того чтобы реализовать предпринимательскую активность, необходима свобода от традиционных общественных связей. Совершенно не случайно, кстати, что эффективные торговые сети образовывались внутри традиционных обществ чуждыми этническими группами - итальянцами, армянами, евреями, индийцами и т.д. Параллельно формируется сознание Homo faber - человека, который с помощью техники пересоздает природу и самого себя. Это гордое сознание восходит к образу человека, представленного в поэме Мильтона «Потерянный рай»: рай потерян, но перед человеком открыта земля, которую он должен превратить в рай с помощью своего разума и своих усилий. «Ты можешь 181 Донских О.А. От Homo oeconomicus к Homo faber (происхождение пост-современного общества) возвысить свои познания только достойными их делами: возвысь их добродетелью, терпением, воздержанием, но более всего любовью, христианскою любовью, как назовется в будущем эта любовь, душа всех добродетелей. Тогда ты без скорби покинешь Рай: в душе твоей будет Рай еще более светлый» [7. С. 389]. Люди устремляются к создаваемому ими самими будущему. Сначала просто как труженики - затем изобретая и вовлекая в этот процесс созидания все более развитую технику. С идеей начала триумфального шествия человеку к светлому будущему вполне коррелирует и идея естественного состояния, из которого человек должен выйти путем организации государства. Иначе, согласно Гоббсу, он погубит сам себя. Появляется теория разделения властей, которая становится основой большинства современных конституций. В XVIII в. рождается либерализм, основная идея которого состоит в том, что не человек для общества, как это было в рамках традиции, а общество для человека. В «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. говорится: «Цель всякого политического союза - обеспечение естественных прав человека. Таковые - свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению» [8]. Общество для человека, а не человек для общества. Появляется утилитарная этика. В отличие от ориентации на следование заповедям провозглашается, что хорошо то, что полезно, то, что приносит максимальное удовольствие максимальному числу людей в каждый данный момент. Все сводится к самым простым ощущениям. «Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать. ... Системы, которые подвергают его сомнению, занимаются звуками вместо смысла, капризом вместо разума, мраком вместо света» [9. С. 9]. Таким образом, человек упрощается до вполне примитивного механизма, которым должно правильно управлять правительство, которое рассматривает его в соответствующем качестве. Ни о каком образе и подобии Бога уже говорить не приходится. И, соответственно, по образцу физики возникают социальноэкономические науки. В XVII в. - экономика, в первой половине XIX в. - социология, позже - психология. Предполагается, что человека можно изучать так же объективно, как внешнюю природу. И появление слова «ученый» (scientist) в 30-е гг. XIX в. (см.: [10]) маркирует это общее убеждение. Наука о человеке - физиология - «находится еще в том плохом положении, через которое уже прошли астрономические и химические знания. Физиологам надо удалить из своей среды философов, моралистов и метафизиков, как астрономы изгнали астрологов, а химики алхимиков» [11. С. 130]. За этим стоит невысказанное, но явно угадываемое убеждение, что человек - это чисто материальное существо, которое можно научно исследовать и научно совершенствовать. На этой-то основе и возникает теория прогресса, о которой говорилось в начале статьи. Согласно Сен-Симону, в будущем человечество выйдет на этап общественного труда, а труд - это источник всех добродетелей. Промышленный класс естественным образом перейдет из разряда управляемых в разряд управляющих. Промышленный класс будет продолжать свои достижения и овладеет, наконец, всем обществом» [12. С. 315]. При этом мораль станет первенствующим принципом, поскольку именно промышленная 182 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity система основана на совершенном равенстве. «Труд - источник всех добродетелей; самый полезный труд должен быть самым уважаемым; следовательно, и божественная и человеческая мораль одинаково призывают промышленный класс играть первую роль в обществе» [13. С. 154]. Поэтому, с точки зрения Сен-Симона, прогресс - это моральное совершенствование. При этом Анри Сен-Симон утверждает необходимость опоры на науку в преобразовании общества. По его мнению, должна быть создана специальная академия для совершенствования «кодекса чувств», лежащих в основе морали и политики. За этим стоит убеждение в возможности полного познания человека и его преобразования. XIX в. известен, с одной стороны, как время, когда наука реально и явно стала служить капитализму и человечеству и постепенно включилась в развитие промышленности, а с другой стороны, она стала одной из основ социалистического движения в форме марксизма, который обосновал неизбежный приход социализма как первой фазы коммунистического общества. Кстати говоря, социализм появляется как борьба с жизненно необходимым для развития капитализма индивидуализмом. Как известно, само слово «социализм» впервые было использовано в работе Пьера Леру «Индивидуализм и социализм» (1834). То есть социализм направлен против рассыпания общества, обеспечивающего необходимую для капитализма свободу и конкуренцию, но не против превращения человека в чисто материальное, постигаемое и управляемое существо. Именно социалистические тенденции направлены на формирование социального государства, где человек оказывается под возрастающим контролем. В результате с помощью науки формируется новый человек - Homo oeconomicus, человек, который рационально высчитывает свое поведение на основе выгоды, в пределе сводя все к цифре. Его образ восходит к Адаму Смиту, который в «Богатстве народов» создает соответствующий идеальный тип человека, склонного к обмену на основе своих способностей: «В охотничьем или пастушеском племени один человек выделывает, например, луки и стрелы с большей быстротой и ловкостью, чем кто-либо другой. Он часто выменивает их у своих соплеменников на скот и дичь; в конце концов он видит, что может таким путем получать больше скота и дичи, нежели охотой. Соображаясь со своей выгодой, он делает изготовление луков и стрел своим главным занятием и становится, таким образом, своего рода оружейником» [14. С. 77]. Но одно дело - идеализированный образ для научных целей (вроде «абсолютно черного тела» физики) и другое - сделать этот образ реальным идеалом, т.е. считать, что это нормальное состояние человека - заботиться в первую очередь о своей выгоде. Это очень остро ощутили поэты; так, например, у Е.А. Боратынского в «Последнем поэте»: Век шествует путем своим железным, В сердцах корысть, и общая мечта Час от часу насущным и полезным Отчетливей, бесстыдней занята. Исчезнули при свете просвещенья Поэзии ребяческие сны, И не о ней хлопочут поколенья, Промышленным заботам преданы [15]. 183 Донских О.А. От Homo oeconomicus к Homo faber (происхождение пост-современного общества) Очевидно, что государство должно было развиваться и развивалось таким образом, чтобы сохранять контроль над подданными, реализующими свое стремление к свободному предпринимательству. Таким образом, Европа за четыре века прошла колоссальный путь, превративший ее в безусловного лидера цивилизационного развития, но платой за это становится иллюзорная свобода с растущей зависимостью от государства, которая проявляется в разных формах - от тоталитарных государств ХХ в. до демократических, где эта зависимость не так очевидна. Свою роль играет пресса, формирующая коллективное сознание в нужном направлении, но существуют и другие виды зависимости. Так, при введении пенсий по старости в 1880 г. Отто Бисмарк сказал: «Человек с пенсией разительно отличается от своего собрата без оной... им куда легче управлять» [16. С. 220-222]. Эти изменения подготовили переход к новой эпохе, и историческим моментом, с которого начинается строительство новых социальных отношений, можно считать Первую мировую войну, где человек впервые оказался вторичен по отношению к технологиям [17]. Человек, следовательно, перестает быть мерой всех вещей. В. Зомбарт фиксирует в качестве главного изменения в ценностной картине мира поворот к отношениям, которые могут быть объективированы и, соответственно, рассмотрены отдельно от человека. Такой поворот позволяет представить картину жизни количественно, что и выражается в первую очередь денежными единицами разного рода и другими показателями. Таким образом, от ценности общественных связей мы переходим к ценности свободы, от ценности традиции - к ценности новизны, от ценности человеческих отношений - к ценности количественно выраженной объективации индивидуальных усилий. При этом первые - связи и традиции, - всегда определявшие общественную жизнь, становятся вторичными, подчиненными новым ценностям, осознанным лишь в позапрошлом веке. С этого момента начинается все ускоряющееся движение от современного к постсовременному, от антропоцентризма к техноцентризму. Тенденции, заложенные в период от Ренессанса до начала ХХ в., начинают в полной мере проявляться в первой половине XXI в. Современное общество по-разному характеризуется социальными философами - его называют постиндустриальным, информационным, обществом знаний, супериндустриальным, технотронным, технологическим. Имеет смысл использовать термин «техноцентризм». Во-первых, человек не просто все более зависит от технических устройств, но, превосходя человека в разных отношениях, именно они начинают задавать идеал развития самого человека. Это относится как к физическим его способностям, так и к умственным. Во-вторых, управление обществом становится технообразным. Отношения между людьми все более опосредуются внешними условиями. В урбанизированном обществе правовые отношения все более замещают отношения моральные. Если Кондорсе и Сен-Симон считали, что прогресс делает общество все более нравственным, то в настоящее время очевидно, что процессы максимальной объективации и цифровизации любых (в пределе) результатов человеческих усилий ведут к элиминации нравственности из человеческих отношений. Поскольку каждое поколение входит в новый мир, старшие поколения перестают быть тем, чем были всегда, - примером для 184 Социальная философия и философская антропология / Social philosophy and philosophy of humanity новых поколении, поскольку их трудовой и социальный опыт не соответствует новым социальным реалиям. Можно ли сейчас ответить на вопрос: кем будет только что рожденный человек? Государство путем трансформации системы образования готовит кадры под себя. Бауман охарактеризовал наше общество как «текучую современность»: Надежные рабочие места в надежных компаниях кажутся ностальгией дедушек; не существует также таких навыков и такого опыта, приобретение которых гарантировало бы, что вам предложат работу, а после того как она будет предложена, она окажется еще и постоянной. Никто не может уверенно предполагать, что он застрахован от следующего раунда «сокращения штатов», «оптимизации» или «рационализации», от неустойчивых изменений рыночного спроса и капризного, но могучего, непреодолимого давления «конкурентоспособности», «производительности» и «эффективности»[18. Р. 161]. Взаимодействия между людьми стали текучими и, соответственно, не способными удерживать форму. Текучее общество может регулироваться только извне, с помощью права, а не с помощью этики. Этические отношения устанавливаются на основе внутренних установок отдельных индивидов, а юридические - на основе государственного регулирования. Право все полнее заменяет традицию. Традиция - это консервация прошлого, право -формирование будущего. На протяжении поколений люди стремились совершенствовать государство и его законы. В результате появились очень сложные социальные системы, где человеческие возможности контролируются технологически. Человек сводится к набору стандартов. В этих условиях происходит рост иллюзии свободы личности при усилении роли государства и, соответственно, к усилению контроля и манипулированию. Вопрос о власти упирается в проблему «прибавочного порядка» (термин О. Тоффлера), когда бюрократия начинает работать сама на себя, и это воспринимается как насилие. «Прибавочный порядок является тем избыточным порядком, который навязывается обществу не для его пользы, а исключительно для блага людей, управляющих государством. Прибавочный порядок противоположен полезному или общественно необходимому порядку» [19. С. 572]. Соответственно, складывается система «прибавочной власти», которая обосновывается борьбой с субъективизмом и переходом к объективизму, символизируемому цифровизацией. Менеджмент становится наукой, и при этом управление отделяется от управляемых. Власть становится над-человеческой. Появляется KPI (Key Performance Indicators), или ключевые показатели эффективности - это числовые выраженные в абсолютных или относительных (процентных) значениях показатели для измерения результативности и эффективности предпринятых действий. Это чистое проявление борьбы с субъективностью. Но субъективность неизбежно связана с природой человека и проявляет себя в конкретных ситуациях. Полное в пределе исключение субъективности означает исключение человека из соответствующей системы отношений. В таком случае, разумеется, идеалом становится нечто, превосходящее человека. Ориентация на человека уходит, его место занимают технические системы. Не человек, а они становятся мерой всех вещей. Здесь слово «технический» возвращается к его исконному значению - оно происходит от греч. «techne» - искусство, то, что создано в подражание природе. Но подлинным бытием обладают только образцы, которым 185 Донских О.А. От Homo oeconomicus к Homo faber (происхождение пост-современного общества) подражает человек, поэтому можно говорить о том, что в наше время неподлинное и подлинное бытие поменялись местами. В этом случае, и это ведущая тенденция нашего времени, управление сверхсложными образованиями, в том числе самим обществом, передается интеллектуальным системам, которые далеко превосходят человеческие возможности. Уже не люди вписывают с помощью техники окружающую среду в свои системы (как об этом писал Хайдеггер), а технические системы начинают вписывать человека в превосходящую его среду. Несовершенный человек оказывается частью совершенной системы и меняется под нее. Предшествующий этап подготовил все к тому, чтобы человек перестал рассматриваться как образ и подобие Бога, а предстал в виде биологического создания, испытывающего страдания и удовольствия и поэтому вполне управляемого посредством «наказаний и наград» (И. Бентам). А требуемый для этого максимальный уход от морали к праву означает исчезновение личности. Поскольку формирование нужного государству человека происходит в рамках системы образования, то здесь и закладываются основные принципы этого движения. Идеал созидания гармоничной личности замещается идеалом специалиста-профессионала, который хорошо продается на рынке труда. Современные педагогические теории, развивающие идеи специализации и индивидуальных траекторий обучения, в действительности ведут к новым видам мягкого порабощения человека. Под этот идеал подстраивается университет совершенства [20. P. 21 et al.], который приходит вместо университета культуры. В качестве яркого примера того, насколько создатели цифровых образовательных систем не отдают себе отчета в том, что они делают с учащимся, можно привести отрывок из «Манифеста о цифровой образовательной среде», который в качестве цели соответствующего проекта представляет «принципы создания цифровых образовательных сред, где ученик будет не объектом обучения, а субъектом - т.е. сам влиять на свое развитие»: «Привычное понятие «учебник» сохраняет смысл исключительно как подборка образовательного содержания разного типа. На смену ему должна прийти цифровая образовательная среда, где каждый может выбирать собственную образовательную траекторию, состоящую из активностей, которые нужны ему здесь и сейчас. Среда, в свою очередь, должна непрерывно анализировать потребности и способности ученика и предлагать сценарии дальнейшего развития... Это снижает необходимость в стрессовых тестах и помогает оказывать каждому точечную поддержку» [21]. Индивидуальную траекторию обучения обеспечивает образовательная среда, которая направляет учащегося по наиболее легкому пути, и это считается его личным развитием. Вместе с тем в процессе такого обучения исключается то, что формирует личность - сомнения, колебания, упорство, счастье преодоления. Таким цифровым способом воспитанный специалист окажется идеальным товаром на рынке труда. Отношения в построенном на этих принципах перегретом обществе оказываются все более холодными, а человек - все менее личностью.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 46
Ключевые слова
антропоцентризм, техноцентризм, постсовременность, Homo oeconomicus, Homo faberАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Донских Олег Альбертович | Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»; Новосибирский государственный технический университет | доктор философских наук, профессор, PhD (Monash, Australia), зав. кафедрой философии и гуманитарных наук | oleg.donskikh@gmail.com |
Ссылки
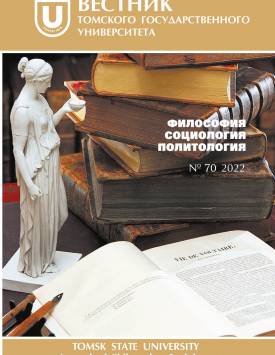
От Homo oeconomicus к Homo faber (происхождение пост-современного общества) | Вестн. Том. гос. ун-та. Философия. Социология. Политология. 2022. № 70. DOI: 10.17223/1998863X/70/16
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 249

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью