Определение структурной константы и размера нанокристаллитов тонких магнитных пленок методом ферромагнитного резонанса
Показана возможность определения структурной константы S и среднего размера кристаллитов анизотропной нанокристаллической магнитной пленки по форме острого пика поглощения СВЧ-мощности, наблюдаемого при развертке внешнего магнитного поля вдоль оси трудного намагничивания. В теории «ряби» намагниченности с константой S связана поверхностная плотность энергии локальной магнитной анизотропии и по величине S оценивается качество нанокристаллических пленок. Эффективность нового способа определения S продемонстрирована на нанокристаллической пленке Co-P толщиной 300 нм. Спектр поглощения СВЧ-мощности снимался с локального участка пленки площадью ~ 1 мм2 на сканирующем спектрометре ферромагнитного резонанса. Вычисленное значение S из анализа спектра позволило определить средний размер кристаллитов пленки, хорошо совпадающий с измерениями просвечивающей электронной микроскопии.
Determination of structural constant and size of crystallites in thin magnetic films by ferromagnetic resonance.pdf Введение Развитие технологий синтеза нанокристаллических тонких магнитных пленок, прежде всего, связано с их уникальными магнитными свойствами, выгодно отличающих их от массивных ферромагнитных материалов. В частности, тонкие нанокристаллические магнитные пленки благодаря особенностям своей микроструктуры демонстрируют высокую магнитную восприимчивость и низкие потери на сверхвысоких частотах (СВЧ) [1], что делает их перспективными средами для использования в высокочастотных датчиках слабых магнитных полей и устройствах обработки сигналов [2-5]. Основной особенностью нанокристаллических тонких магнитных пленок является малый размер кристаллитов по сравнению с эффективным радиусом обменного и магнитодипольного взаимодействия. Поэтому наличие магнитной связи между кристаллитами приводит к усреднению и частичному подавлению случайной магнитной анизотропии отдельных кристаллитов. Однако усреднение локальной анизотропии в пределах эффективного радиуса обменного взаимодействия, как правило, не бывает полным. Это приводит к пространственным отклонениям вектора намагниченности относительно некоторого среднего направления. При этом возникает своеобразная магнитная структура, называемая в литературе «рябью» намагниченности [6, 7]. Магнитные свойства таких пленок описываются теорией «ряби» намагниченности, основные выводы которой достаточно хорошо согласуются с результатами численного моделирования [8, 9] и экспериментальными данными [10]. В отличие от широко используемой на практике модели Стонера - Вольфарта [11], описывающей магнитные свойства идеальной одноосной однородно намагниченной ферромагнитной частицы (в предельном случае тонкой пленки), теория «ряби» намагниченности устанавливает связь между структурой нанокристаллической пленки и ее магнитными свойствами. В рамках этой теории вводится новый материальный параметр - структурная константа S, которая определяет усредненную по толщине пленки поверхностную плотность энергии локальной магнитной анизотропии [7]. Параметр «ряби» намагниченности S следует рассматривать как фактор качества пленки. Так, например, S = 0 означает, что «рябь» намагниченности в пленке отсутствует, и ее поведение может быть описано простой теоретической моделью Стонера - Вольфарта. Но в реальных образцах нанокристаллических пленок, несмотря на то, что S может быть сколь угодно малой величиной, это условие не выполняется никогда. Теория «ряби» намагниченности также приводит и к простому, достаточно эффективному способу определения структурной константы S из полевой зависимости поперечной магнитной восприимчивости тонких пленок [12]. В рамках настоящей работы показан новый способ определения S из спектра СВЧ-поглощения нанокристаллических тонких пленок. В основе этого способа лежит ранее обнаруженная нами особенность высокочастотной восприимчивости [13], наблюдаемая при развертке внешнего магнитного поля вдоль оси трудного намагничивания нанокристаллических пленок. 1. Теория поперечной магнитной восприимчивости в нанокристаллических пленках Рис. 1. Направление внешних полей при измерении поперечной магнитной восприимчивости Понятие поперечной магнитной восприимчивости впервые было введено Аарони с соавторами [14], которые рассчитали тензор квазистатической магнитной восприимчивости одноосной однодоменной частицы на основе модели Стонера - Вольфарта [11]. Методика измерения поперечной восприимчивости заключается в регистрации величины отклонения ΔM магнитного момента M образца под воздействием небольшого по величине переменного магнитного поля h, ориентированного под прямым углом к постоянному полю развертки H (рис. 1). В анизотропных образцах обычно используют развертку внешнего магнитного поля вдоль оси трудного намагничивания (ОТН) или вдоль оси легкого намагничивания (ОЛН). При этом частота переменного магнитного поля, как правило, выбирается в килогерцовом диапазоне. Для идеальной однородно намагниченной тонкой магнитной пленки (ТМП) с планарной одноосной магнитной анизотропией поперечная магнитная восприимчивость в линейном приближении определяется выражением , (1) где Ms - намагниченность насыщения образца; Heff - эффективное магнитное поле, включающее постоянное внешнее поле H и поле магнитной анизотропии Ha. Для общей схемы направлений внешних магнитных полей, показанной на рис. 1, эффективное внутреннее магнитное поле определяется как Heff = H - Ha. На практике экспериментальная зависимость χt(H) отличается от теоретической (1). Такое расхождение между экспериментальными и теоретическими результатами обычно приписывают эффекту «ряби» намагниченности [12, 15], которое имеет место в реальных пленках из-за возникающих в них неоднородностей самой различной природы. Гоффман на основе теории «ряби» намагниченности получил выражение для поперечной магнитной восприимчивости нанокристаллических тонких пленок [16]. Он показал, что общее влияние реальной структуры пленки на восприимчивость может быть выражено с помощью структурной константы , (2) которая является наиболее важным параметром, определяющим качество пленки. S - это усредненная по толщине пленки поверхностная плотность энергии локальной магнитной анизотропии. В ее определение входят: средний диаметр кристаллитов D; константа локальной магнитной анизотропии Ks, учитывающая влияние локальной кристаллографической анизотропии и локальных упругих напряжений; константа σ1, характеризующая среднеквадратическое отклонение ОЛН кристаллитов; среднее число кристаллитов по толщине пленки n = d/D (d - толщина пленки). Дойл и Финнеган [17] получили общее выражение для Ksσ1 в поликристаллических пленках с учетом вклада как кристаллографической, так и магнитоупругой энергии. В случае изотропной деформации тонкой пленки, что является наиболее общим случаем для большинства поликристаллических пленок, среднее значение локальной анизотропии , (3) где K1 - константа магнитокристаллической анизотропии отдельных частиц; λs - константа магнитострикции пленки. Структурно зависимый параметр σi характеризует внутреннее изотропное планарное напряжение в образце. В рамках теории «ряби» намагниченности сначала Харт [6] и затем Гоффман [7] показали, что флуктуации локального направления намагниченности в тонких нанокристаллических пленках сопровождаются внутренними полями размагничивания. Среднее значение эффективного размагничивающего поля «ряби» намагниченности Hd было вычислено в работе [16]. При намагничивании пленки вдоль ОТН . (4) Здесь A - константа обменного взаимодействия. Строго говоря, в правой части последнего выражения вместо эффективного поля H - Ha необходимо было бы записать поле H - Ha + Hd. В этом случае величина размагничивающего поля Hd оставалась бы конечной величиной при H = Ha. Однако в области полей H > Ha, используемых для определения структурной константы, приближение (4) вполне оправдано. С учетом дополнительного внутреннего поля Hd эффективное поле Heff, входящее в выражение для поперечной магнитной восприимчивости (1), определяется как Heff = H - Ha + Hd, а с учетом формулы (4) . (5) В выражение (5) входит параметр поля размагничивания , (6) который может быть использован в качестве подгоночного параметра при аппроксимации экспериментальной кривой χt (H) теоретической зависимостью (5). Использование последнего выражения позволяет из экспериментального значения параметра поля размагничивания B определить значение структурной константы S. 2. Особенность высокочастотной восприимчивости тонких ферромагнитных пленок с одноосной магнитной анизотропией Известно, что в спектре ферромагнитного резонанса (ФМР) магнитных пленок в однодоменном состоянии, обладающих одноосной магнитной анизотропией в плоскости, при развертке планарного магнитного поля вдоль ОТН наблюдается один или два резонансных пика в зависимости от частоты накачки [18]. Величину резонансных полей этих пиков можно определить из урав- нений (7) где ω = 2πf - частота переменного магнитного поля; - гиромагнитное отношение. Ранее нами на локальных участках пленок Co-Ni-P в спектре поглощения СВЧ-мощности при развертке постоянного магнитного поля H вдоль ОТН, кроме пиков однородного ФМР, обнаружен узкий пик восприимчивости в поле, равном полю анизотропии Ha [13]. Локальность измерений определялась диаметром измерительного отверстия в микрополосковом резонаторе датчика ФМР спектрометра и составляла ~ 1 мм2. При отклонении направления H в ту или иную сторону всего на 1 пик исчезает. Ширина линии обнаруженного пика на порядок меньше ширины пиков однородного ФМР, при этом его положение не зависит от частоты накачки (рис. 2). Рис. 2. Спектры ферромагнитного резонанса центрального участка пленки Co-Ni-P толщиной 300 нм Рис. 3. Зависимость резонансных частот от поля ФМР при ортогональной ориентации магнитного поля к ОЛН На рис. 3 сплошными линиями показаны зависимости резонансного поля однородного ФМР от частоты, рассчитанные по формулам (7), а белыми и черными точками показаны результаты измерений, проведенных при ориентации поля H вдоль ОТН. Черные точки соответствуют положению максимальной восприимчивости обнаруженного в спектре ФМР нового пика, и они хорошо ложатся на вертикальную (штриховую линию), проходящую через поле Нa = 28 Э исследуемого участка пленки. Следует отметить, что амплитуда обнаруженного пика быстро падает с уменьшением частоты накачки ниже 1 ГГц вследствие подавления его сближающимися пиками однородного ферромагнитного резонанса. В результате на частоте 0.2 ГГц этот пик уже практически не виден. С увеличением частоты накачки выше 2.6 ГГц амплитуда пика также монотонно падает, что, очевидно, можно объяснить проявлением скин-эффекта. Анализ показал [13], что обнаруженный новый пик в спектре ФМР обусловлен поперечной (квазистатической) магнитной восприимчивостью χt магнитной пленки и поэтому может быть использован для проведения измерений структурной константы S. 3. Методика определения структурной константы S из спектра СВЧ-поглощения пленки Выражение для высокочастотной магнитной восприимчивости χ может быть получено решением уравнения движения Ландау - Лифшица [18]. В линейном приближении , (8) где частота однородного ФМР ; параметр затухания α = γΔH/(2ω); ΔH - ширина линии ФМР на частоте ω. При развертке внешнего магнитного поля вдоль ОТН, как показано на рис. 1, значения Ωz и Ωθ определяются из условий (9) Разделяя χ на вещественную и мнимую части , получим выражение для мнимой части высокочастотной магнитной восприимчивости . (10) Как известно, поглощение энергии электромагнитного поля магнитной пленкой P определяется мнимой частью магнитной восприимчивости χ'' [19]: (11) В качестве примера, на рис. 4, a сплошной линией представлен экспериментальный дифференциальный спектр поглощения dP/dH, полученный с локального участка тонкой нанокристаллической пленки Co-P толщиной d = 300 нм. Спектр был получен с помощью автоматизированного сканирующего спектрометра ФМР [20] на частоте f = 2274 МГц. Пленка была изготовлена методом химического осаждения из раствора [21] при температуре 96-97 С на стеклянную подложку размером 1010 мм. Планарная одноосная магнитная анизотропия Ha наводилась однородным магнитным полем (Н = 3 кЭ), прикладываемым в плоскости подложки во время осаждения пленки. Микроструктурные исследования пленки проводились на электронном просвечивающем микроскопе ПРЭМ-200 и показали, что пленка состоит из нанокристаллитов с размерами 2-6 нм. Рис. 4. Дифференциальные спектры поглощения dP/dH локального участка тонкой нанокристаллической пленки Co-P (а). Сплошная линия - эксперимент, штриховая - теория согласно формулам (10), (11). Выделенный из общего спектра дифференциальный спектр dPt /dH, обусловленный (квазистатической) поперечной магнитной восприимчивостью (б) С помощью разработанной в [22, 23] методики определения магнитных параметров образца из угловой зависимости резонансного поля были установлены основные характеристики локального участка пленки: намагниченность насыщения Ms = 1017.4 Гс; поле одноосной анизотропии Ha = 22.56 Э и параметр затухания α = 0.176. На основании полученных данных с использованием формул (10) и (11) была рассчитана теоретическая зависимость dP/dH, которая представлена на рис. 4, a штриховой линией. Из рисунка видно хорошее согласие теории и эксперимента в области однородного ферромагнитного резонанса. В то же время в области полей H ~ Ha наблюдаемое существенное различие связано, как было показано в п. 2, с проявлением в спектре высокочастотного поглощения поперечной квазистатической магнитной восприимчивости χt. Из экспериментального спектра dP/dH можно выделить отвечающую за χt часть dPt /dH как разность между экспериментальной и теоретической кривыми (рис. 4, б). Необходимо отметить, что полученная зависимость не является следствием прямого измерения поперечной восприимчивости. Поэтому зависимость dPt /dH содержит ошибки, связанные с несоответствием реальной пленки модели однородного когерентного вращения намагниченности. Для снижения этих ошибок следует уменьшить перекрытие спектров однородного ФМР и поперечной квазистатической магнитной восприимчивости. Для этого необходимо использовать частоту накачки f >> f0, где f0 = (γ/2π)[Ha(Ha+4πMs)]1/2 - частота естественного ФМР. На рис. 5, a круглыми маркерами представлена экспериментальная зависимость поперечной квазистатической магнитной проницаемости от величины приложенного внешнего магнитного поля, полученная интегрированием кривой dPt /dH. Поскольку спектрометр ФМР регистрирует сигнал дифференциальной магнитной восприимчивости тонкой пленки dP/dH с точностью до постоянного множителя K (K - коэффициент пропорциональности), то и значения интегральной кривой Pt(H) связаны c χt(H) соотношением Pt(H) = Kχt(H). Поэтому для определения из экспериментальной кривой параметров «ряби» намагниченности необходимо выполнить определенную калибровку. В соответствии с (5) имеем (12) или , (13) где a' = 1/Ka, b' = b/Ka. Если домножить последнее выражение на h1/4 , (14) то экспериментальная зависимость поперечной квазистатической восприимчивости в координатах x = h5/4, y = h1/4/Kχt должна быть линейной. Рис. 5. Экспериментальная полевая зависимость поперечной магнитной восприимчивости Kχt - круглые маркеры и ее теоретическая аппроксимация в соответствии с (5) - линия (а). Экспериментальная зависимость h1/4/Kχt от h5/4 - круглые маркеры и ее линейная аппроксимация - прямая линия (б) На рис. 5, б круглыми маркерами представлена кривая h1/4/Kχt от h5/4. С помощью линейной аппроксимации этой кривой определяются входящие в уравнение (14) константы a' и b', из которых в итоге несложно определить обусловленный «рябью» намагниченности параметр поля размагничивания . На рис. 5, a линией представлена теоретическая зависимость Kχt(H), которая, как видно из рисунка, хорошо согласуется с экспериментальными данными. Используя табличные значения константы обмена A = 310-6 эрг/см и константы локальной магнитокристаллической анизотропии K1 = 5106 эрг/см3 для кобальта [24], без учета внутренних упругих напряжений σi = 0, мы определили величину структурной постоянной S = 0.0269, а по формуле (2) - средний размер кристаллитов D = 2.25 нм исследуемой тонкой пленки Co-P. Заметим, что полученное значение D хорошо согласуется с результатами измерений этой величины методом просвечивающей электронной микроскопии [21]. Заключение Таким образом, в работе представлен новый способ определения структурной константы S, которая вводится в рамках теории «ряби» намагниченности для описания влияния реальной структуры нанокристаллических тонких пленок на их магнитные свойства. В отличие от традиционной методики определения S из полевой зависимости поперечной магнитной восприимчивости, измеряемой на частотах килогерцового диапазона, в настоящей работе предлагается определять значения S анизотропных нанокристаллических тонких магнитных пленок из экспериментально снятых спектров ферромагнитного резонанса при развертке магнитного поля вдоль оси трудного намагничивания. Предлагаемый метод основан на ранее обнаруженном нами эффекте возникновения острого пика высокочастотной восприимчивости, наблюдаемом в спектре СВЧ-поглощения пленок в поле одноосной магнитной анизотропии независимо от частоты накачки спектрометра ФМР. Интересно, что недавно аналогичный эффект был обнаружен в образцах гексаферритов BaFe12O19 синтезированных золь-гель-горением [25]. Важно отметить, что предложенный в работе подход позволяет измерять не интегральную величину структурной константы S со всего образца в целом, как это делается при использовании традиционной методики, а только с локальных участков тонкой пленки, определяемых размером измерительного отверстия в нерегулярном полосковом резонаторе СВЧ-головки [26] сканирующего спектрометра ФМР. Это позволяет практически исключить влияние на результаты измерения константы S неоднородностей величины и направления одноосной магнитной анизотропии, которые наиболее ярко проявляются на краях магнитных пленок [27, 28].
Ключевые слова
нанокристаллиты,
тонкая магнитная пленка,
случайная магнитная анизотропия,
«рябь» намагниченности,
структурная константа,
ферромагнитный резонанс,
сверхвысокие частотыАвторы
| Беляев Борис Афанасьевич | Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН | д.т.н., профессор, профессор каф. радиотехники СФУ, зав. лабораторией ИФ СО РАН | belyaev@iph.krasn.ru |
| Боев Никита Михайлович | Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН | к.ф.-м.н., науч. сотр. СФУ, зав. лабораторией ИФ СО РАН | nik88@inbox.ru |
| Горчаковский Александр Антонович | Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН | науч. сотр. СФУ, ведущ. инженер ИФ СО РАН | vigetch@list.ru |
| Изотов Андрей Викторович | Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН | к.ф.-м.н., доцент, доцент каф. радиотехники СФУ, ст. науч. сотр. ИФ СО РАН | iztv@mail.ru |
| Соловьев Платон Николаевич | Сибирский федеральный университет; Институт физики им. Л.В. Киренского ФИЦ КНЦ СО РАН | к.ф.-м.н., науч. сотр. СФУ, науч. сотр. ИФ СО РАН | psolovev@iph.krasn.ru |
Всего: 5
Ссылки
Petzold J. // JMMM. - 2002. - V. 242-245. - P. 84-89.
Бабицкий А.Н., Беляев Б.А., Боев Н.М. и др. // ПТЭ. - 2016. - № 3. - С. 96-104.
Беляев Б.А., Боев Н.М., Изотов А.В. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2018. - Т. 61. - № 8. - С. 3- 10.
Yamaguchi M., Hyeon Kim K., and Ikedaa S. // JMMM. - 2006. - V. 304. - P. 208-213.
Беляев Б.А., Изотов А.В., Лексиков Ан.А. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 9. - С. 3-14.
Harte K.J. // J. Appl. Phys. - 1968. - V. 39. - P. 1503-1524.
Hoffmann H. // IEEE Trans. Magn. - 1968. - V. 4. - P. 32-38.
Belyaev B.A., Izotov A.V., and Solovev P.N. // J. Siberian Federal Univ. - Math. Phys. - 2017. - V. 10. - No. 1. - P. 132-135.
Изотов А.В., Беляев Б.А., Соловьев П.Н., Боев Н.М. // Изв. вузов. Физика. - 2018. - Т. 61. - № 12. - С. 153-159.
Петров В.И., Спивак Г.В., Павлюченко О.П. // УФН. - 1972. - Т. 106. - Вып. 2. - С. 229-278.
Stoner E.C. and Wohlfarth E.P. // Philos. Trans. R. Soc. - 1948. - V. A240. - P. 599-644.
Kempter K. and Hoffmann H. // Phys. Stat. Sol. - 1969. - V. 34. - P. 237-249.
Беляев Б.А., Изотов А.В. // Письма в ЖЭТФ. - 2001. - Т. 74. - С. 248-252.
Aharony A., Frei E.H., Shtrikman S., and Treves D. // Bull. Res. Counc. Israel. - 1957. - V. 6A. - P. 215-238.
Hoffmann H. // Thin Solid Films. - 2000. - V. 373. - P. 107-112.
Hoffmann H. // Phys. Stat. Sol. - 1969. - V. 33. - P. 175-190.
Doyle W.D. and Finnegan T.F. // J. Appl. Phys. - 1968. - V. 39. - P. 3355-3364.
Гуревич А.Г., Мелков Г.А. Магнитные колебания и волны. - М.: Наука, 1994.
Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. - М.: Наука, 1982.
Belyaev B.A., Izotov A.V., and Leksikov A.A. // IEEE Sens. J. - 2005. - V. 5. - P. 260-267.
Беляев Б.А., Изотов А.В., Кипарисов С.Я., Скоморохов Г.В. // ФТТ. - 2008. - Т. 50. - № 4. - С. 650-656.
Belyaev B.A., Izotov A.V., and Solovev P.N. // Phys. B. - 2016. - V. 481. - P. 86-90.
Belyaev B.A., Izotov A.V., Solovev P.N., and Yakovlev I.A. // JMMM. - 2017. - V. 440. - P. 181-184.
Wijn H.P.J. Magnetic Properties of Metals: D-Elements, Alloys and Compounds. - Springer, 1991.
Zhuravlev V.A., Itin V.I., Minin R.V., et al. // J. Alloys and Compounds. - 2019. - V. 771. - P. 686-698.
Беляев Б.А., Боев Н.М., Горчаковский А.А., Галеев Р.Г. // ПТЭ. - 2021. - № 2. - С. 65- 71.
Belyaev B.A., Izotov A.V., Skomorokhov G.V., and Solovev P.N. // Mater. Res. Express. - 2019. - V. 6. - P. 116105.
Беляев Б.А., Боев Н.М., Изотов А.В. и др. // Изв. вузов. Физика. - 2020. - Т. 63. - № 1. - С. 17-23.
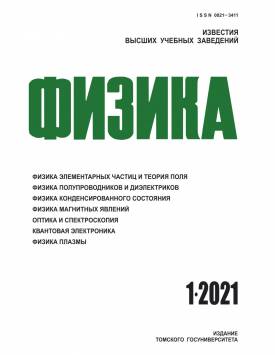
 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью